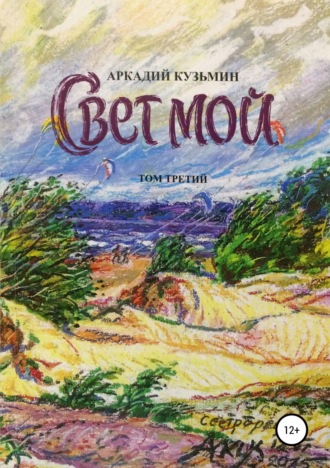
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
Да, здесь только что гнездилось кровожадное немецкое воронье, и еще мрак от него расходился в округе, пугал приходящих сюда; Антона, да и Стасюк тоже, испытывали состояние, близкое к тому, будто за ними, безоружными, внимательно следили из-за укрытий холодные вражьи глаза.
И с холодком же в груди Антона вспоминал один случай. В январе же этого 1943 года он и младший брат Саша лазали в своем заказнике по немецким, вроде бы уже покинутым землянкам, и когда в одной из них на радостях крушили портрет Гитлера в рамке под стеклом и что-то еще среди поднятого звона им послышался звук подъехавшей легковушки, а затем голоса немцев:
– Was ist das? (Что такое?)
Да и увидав в окошечном проеме вдруг черные немецкие офицерские сапоги, мигом сиганули вон – вверх по ступенькам. Немецкий офицер был со свитой. Ладно, что немцы почему-то поленились спуститься вниз. А то было бы худо братьям, успевшим как-то улизнуть от них с ребячьей проворностью.
Сколько же было смертельно опасного каждый день для советских людей во время немецкой оккупации! Все ли просто так отодвинется в памяти у них в прошлое под зеленым сводом дороги, как сейчас у Антона?
Повозка с полными водой кубами прыгала на проступавших узлами корней деревьев.
XII
С самого утра снова бухало-рвалось на фронте под Смоленском – вон за синевшим гребнем леса; наши бойцы мало-помалу, выбивая с позиций отступавших немцев, продвигались вперед. Следом перебазировалось и прифронтовое Управление госпиталей. Определилось уже в селе. Антон здесь спешил вниз, к речке, когда перед ним возник солдат Стасик, негласный его наставник. Он шел озабоченно-печальный. Его темное небритое лицо покрывали мелкие капельки испарины. И он было совсем прошел мимо идущего почти навстречу ему Антона, прошел по тропке, как если бы сразу не признавая, либо не замечая его, подростка, и не поздоровавшись с ним намеренно или позабывчиво. Лишь затем – в последний момент повел на него глазами, полуобернувшись и попридержав свой шаг, – взглядом как бы заранее осуждающим за могущую быть в нем легкомысленную, не подобающую случаю юношескую веселость.
И Стасюк приостановился на миг:
– Ах, ты, парень, значит, ничего еще не знаешь?! – сказал резковато, характерно по-польски пришепетывая, в ответ на вопрошающий взгляд удивленного Антона. Он был широкоплеч, но вместе с тем костист, в застиранной добела гимнастерке и в облезлых армейских ботинках с обмотками. В общем уже распространенный тип служаки-работяги на все руки.
– А что? – Антон стронулся назад – к нему. – Что-нибудь случилось?
– Да, несчастье… Капитан Ершов убит… И Егоров Сашка, ездовой… – сообщил Стасюк, что ошеломило Антона:
– Как убиты?!
– Они ехали вечером в фурманке и подорвались на мине…
– Где же, Стасыч?
– Недалече. На лесной дороге. Я поеду за ними. Мне старший лейтенант приказал. А ты уж помоги Андреевне на кухне… с водой, с дровами… Ладно?
– Ну, не беспокойся Стасыч, сделаю это… Езжай…
И тут где-то невдали снова грохнул взрыв.
Заросшая кустарником и затравеневшая речушка журчала водой. Две перекинутые над ней доски заплясали под ногами Антона, и затем тропинка повела его к стоявшему у картофельника старому сараю, из-под соломенной крыши которого вился горьковатый дым. Тянуло отсюда запахом варева.
В этом пустовавшем сенном сарае, срубленном на венец, разместили армейскую кухню: в одной его половине наспех сложили печь-времянку – для пятиведерного котла, чтобы варить супы, борщи, и плиту, а в другой – установили три примитивнейших стола, положив на колья, вбитые в землю, доски, что служило походной столовой.
В сарае послышался женский смех, и Антон отчаянно вошел туда. И почувствовал себя очень и очень маленьким. Да, там, где присутствуют женщины, всегда уютнее быть. Но не теперь это следовало чувствовать.
Анна Андреевна, повар, в белом фартуке и в серой вязаной кофточке с закатанными рукавами, хлопотала у плиты, держа в руке чашку; около нее, в двух шагах стояла Рая, вольнонаемная из штаба, прелестная блондинка, по возрасту годившаяся ей в дочери, и, разрумянясь, заговорщически рассказывала ей про что-то, должно быть, весьма занимательное, интересное. Они пока еще не видели, что Антон вошел, и, продолжая необычный для последнего времени интимно-оживленный разговор, смеялись так непринужденно.
Ему было как-то неловко присутствовать при сем. А они обе, казалось, и ничуть не понимали этого или же не придавали этому абсолютно никакого значения.
– Ну и он, капитан, пришел? – торопила Раю Анна Андреевна.
– Да как же ему не придти ко мне, когда я сама хотела этого, – возбужденно отвечала Рая. – Пришел голубь… Глаза горят в темноте… Мне даже страшновато стало. Но несчастье вдруг свалилось – усатый черт, дежурный офицер, засветил фонариком…
– Ну, пройдошливый какой: все унюхал!
Анна Андреевна, очевидно, не умела спокойно-равнодушно смотреть на молодежь – завсегда покровительствовала ей во всем. В ней проявлялся подлинно глубинный интерес к жизни окружающих людей, нуждавшихся очень часто если не в чьей-то помощи, то хотя б в простом сердечном участии, и она-то обладала в большой степени таким бесценным качеством. Она вечно опекала дочь Иру, гордясь ее умом, ее непосредственностью и какой-то южной красотой. Относилась и к Антону по-матерински. Покровительствовала многим девушкам, принимая живое участие в их судьбе. Очевидно, ее желанием помочь, осчастливить своим житейским опытом руководило отчасти еще чувство прошлой собственной неудовлетворенности, либо тоска по неузнанному ею счастью в замужестве: ее насильно в шестнадцать лет выдали замуж за коневода, и он увез ее в глухую заволжскую степь (там впоследствии убили его бандиты), и она впряглась в семейную жизнь, так и не увидела своей молодости, признавалась она как-то.
Рая прибегала к ней пошептаться. Обычно в послеобеденное время или вечерние часы, когда Анна Андреевна была посвободней. Причем она мало замечала Антона.
Было в Рае что-то бесовское. Она, веселая, жила и дорожила безмерно чем-то личным и ничем другим. Но когда она, например, стеснялась чего-нибудь или кого-нибудь, – тоненький нежный голосок ее дрожал и быть чуть слышен, а краска огнем заливала ее премилое лицо. В последние же дни в ее поведении было что-то радостно-совестливое, потому она и чаще краснела при встрече с сослуживцами.
– И что ж дальше? – спросила ее снова Анна Андреевна.
– Слышу: фонарик щелк! Засветил мне в лицо. А я, сама понимаешь… Дрожу… Молчу… Он, разумеется, сказал мне нагло гадость… – И Рая, подвинувшись ближе к Анне Андреевне, зашептала что-то ей на ухо, и Анна Андреевна подхмыкивала.
«Какой же это капитан с горящими глазами? – еще машинально подумал Антон. – Может Веселов? Ведь именно к нему она теперь подходит часто и особенно ласково заглядывает ему в глаза». – И шагнул к женщинам, здороваясь.
Слегка прищурившись на него, Анна Андреевна причмокнула, пробормотав нечто вроде: «Ай!» и покачала головой не то на себя, не то по поводу его неожиданного появления.
– Ах, это ты?! – сказала она, непритворно удивляясь. – А я думала: Игнат. Куда-то он запропастился нынче. – Она переглянулась тотчас с Раей, и та, порозовев под цвет своей кофточки, недвусмысленно развела руками, улыбаясь.
Антон, собравшись с духом, выпалил:
– Вы знаете… капитана Ершова, автоначальника, убило. Вместе с ездовым Егоровым. Стасюк за ними едет.
Услышав это, Анна Андреевна вмиг изменилась в лице и первоначально не знала куда ей руки деть. Но они бессильно опустились. Чашка выпала из ее руки. И она не поднимала ее с земли: казалось, она до конца осмысливала сама с собой все значение случившегося.
– Нет, не может быть, Антон! Нас же не бомбили, кажется, ночью… – Она, как и все, наверное, уже привыкла к тому, что хотя все кругом гремело, но здесь никого не задевало – миловало.
Со страхом она взглянула на Раю. Та, побледневшая и сразу ослабевшая, обеими руками оперлась о стол, и точно слепая, уставилась на Антона и вроде бы мимо него.
– Они на мине подорвались где-то по дороге. – Антон поднял чашку, поставил на стол.
Анна Андреевна мгновение молчала. И спросила извинительно:
– Но, Антон… Почему они попали вместе?
– Очевидно, капитан поехал с ездовым…
– То-то я припоминаю, да: вчера он, Ершов, был незабываемо веселым, разговорчивым, чего я давно за ним не замечала. Ты знаешь, голубчик, – Анна Андреевна будто обращаясь к забывшемуся ребенку, пытаясь привлечь внимание Раи к своему рассказу, – я, задумчивая, шла к себе и наткнулась на него, – ну, буквально нос к носу, – на самой перекладине через речку. – Она обняла за плечи Раю, став с нею рядом и заглядывая в ее сухие немигающие глаза. – Ну, что ты, Раечка! Рая!
Та подняла на Анну Андреевну сухие глаза и только.
– Я хотела уступить ему дорогу (я никуда не торопилась); но он вдруг засмеялся и сказал мне, что никак нельзя: если я вернусь назад, то дороги мне не будет. Это плохой признак. Весело схватил меня за руки, и так мы с ним разминулись над самой этой речкой. Я думала, что в ручку угожу. Голова у меня закружилась и я уже потеряла было равновесие. Да только он удержал меня вовремя. Ну, Рая! Раечка! Посмотри на меня… И потом шутливо говорил мне какие-то комплименты. Он даже в краску меня вогнал. Нет, видно, предчувствовал свою гибель: был такой необыкновенный, как никогда. А этот Егоров мне всегда казался сыном, робким и доверчивым. – И она, не в силах более сдержаться, проронила первые выкатившиеся слезы и поднесла подол фартука к глазам.
Рая между тем оставалась в том же положении, как замерла; она не плакала и не двигалась и, вероятно, ничего не слышала сейчас. Поэтому Анна Андреевна суетилась около нее, пыталась расшевелить ее.
– Раечка, голубчик мой, присядь, присядь сюда. – Усадила ее к столу.
Усаженная Рая онемело, сидела минут десять: ничем нельзя было ее растормошить, да и трогать ее было нельзя.
– Где ж они погибли, ты не знаешь? – зашептала, плача и наблюдая за ней краем глаза, Анна Андреевна.
– То, видимо, Горохов знает, – зашептал и Антон в ответ ей, увидев шедшего сюда начальника хозяйственной службы.
Горохов был еще сравнительно молодой, однако обыкновенно расхаживал с таким видом, как будто что-то потерял по чьей-то вине, потерял уже давно и теперь продолжал везде искать потерянное. И поэтому-то он как раз забрел сюда – невозможно мрачный и насупленный; так, и без видимой причины, он любил напускать на себя сердитость, озабоченность – единственно ради того, чтобы казаться всем начальственней, а значит, и серьезней, чем был на самом деле. Есть такие люди.
– А-а, вы о несчастье уже знаете, – сказал он непривычно тихо, приблизившись и не здороваясь, по-видимому, от волнения. Анна Андреевна всхлипнула опять и хотела сказать что-то, но лишь торопливо кивнула в ответ головой, глотая слезы. Помешала кашу. И потом спросила у него:
– Как же все случилось, Павел Дмитрич?
– Они наехали на мину – она сработала под самой бричкой, понимаете! – он пошевелил своими пышными рыжими усами. – Все там, по дороге, ездили вдоль и поперек. На грузовиках… А тут легковесная, нагруженная подвода ехала – и вдруг рвануло…
– Видно, невезучие…
– И я тоже услужил, называется: предложил им – проще, безопаснее – на лошадях добраться, а не на машине. За частями запасными. Кто же знал! – Горохов волновался: у него в карманах брюк и гимнастерки было полно всяких бумажек, вплоть до писем-треугольничков, они даже торчали наружу, и сейчас, во время разговора, он начал вытаскивать их по очереди; мельком просматривал он их и то рвал, а то и так бросал в огонь под плиту, наклоняясь над ней. – Машин свободных нет – все развозят раненых по госпиталям, то, се. На фронте-то жарко. Наши бойцы уже вошли во вкус наступления, тузят и турят вражину из нашего гнезда.
Да, был действительно уже заметный поворот в действиях советских войск, что сказывалось на всеобщем настроении наших бойцов, энергично рвавшихся в бой с подлым врагом. Так при переезде сюда, в селение, служившие из Управления встречались по-дорожному с ранеными в боях: те, получив в медсанбате первую медицинскую помощь, самостоятельно направлялись в ближайший госпиталь – и очень неохотно. Они жаждали лишь подлечиться малость и скорей опять сбежать на передовую, чтобы бить и своротить оголтелого врага с советской территории.
– А такой приветливый он был накануне, – проговорила Анна Андреевна тихо.
– И вот до чего же умные лошади, – сказал лейтенант: – их что бритвой отрезало взрывом от брички – остались целехоньки и невредимы, без единой царапинки, и как они отошли немного от места взрыва, – как вдруг обнаружил в сарае еще одно лицо, безучастное к разговору, – так и простояли почти рядом с погибшими всю ночь. – И сердито засопел, наконец узнав посетительницу.
После чего Рая вдруг выпрямилась и, все также ни на кого не глядя, медленно встала со скамьи и пошла вон; но едва она, натыкаясь на углы, достигла выхода, как рванулась, тонко всплакнула и, точно легкий ветер, понеслась отсюда прочь.
– Вот до чего доводится. – Горохов нервно дернул опять усами. – Ладно… Что же я хотел сказать? Зачем пришел? Да… Сегодня похороны. Так что обед готовьте попозже обычного. Понятно, Анна Андреевна? – повернулся и отправился себе. Целеустремленный.
XIII
Антон Кашин наряду с другими, пришедшими отдать воинам последний долг, переступил высокий выбитый порог крестьянской избы, в которой на возвышении лежали погибшие, споткнулся обо что-то и замер в людной тихой полутемной горнице. Здесь был мир вечного покоя. Спокойно-величавы лица убитых.
Смерть, наверное, страшна самой таинственностью. Но двое убитых недвижно лежали с таким безучастным выражением на лицах, будто говорили всем открыто и понятно: «Что бы вы ни говорили, хотите верьте, хотите нет, а наше дело сделано». И Антон уже без прежнего страха смотрел на них. Тем сильнее чувствовал, хоть и не понимал, несовместимость чего-то: они и цветы; темнота помещения и солнца за окнами; тишина, стрекот кузнечиков и взрывы снарядов; Горохов и Рая, возникшая рядом с ним.
У хозяйки избы глаза тоже красные. И она, простая русская крестьянка, мать нескольких детей, иссушенная горем и невыносимыми тревогами за самых меньших, трепетно стояла, почерневшая, в обвислом горошковом сарафане, с покрасневшими мокрыми глазами, в изголовьях погибших мужчин – молилась над обоими, шевеля бескровными губами.
Две новые пирамидки со звездами наверху встали над свежими холмиками могил под раскидистым придорожным вязом с пораненным стволом фугасными осколками. Трижды сухо прогремел салют из винтовок. Ему аукнулся невдали новый звучный взрыв.
Вечером, позднее других, уже когда ушел из столовой и лейтенант Горохов, офицер упрямый до жестокости и въедливый не по-мужски (Антон в этом успел убедиться), сюда пришли с тем, чтобы поужинать, затихшая Рая с приклеенным к ней гладковатым капитаном Шестовым, имевшим не лицо, а почти картинку. Сладкое лицо!
Так вот что означали ее слова, сказанные ею утром Анне Андреевне! Теперь Антон понимал их значение. Шестов, весьма довольный – ему, по-видимому, очень нравилось быть вместе с Раей, служить ей, виляя хвостиком, – сел за стол напротив ее, улыбался с превосходством и нежно спрашивал у нее:
– Что ты, ангел, заболела?
– Нет, откуда взял? – Она кротко, но дичилась.
– Так. И голос нынче у тебя какой-то.
– Ты хочешь сказать: чужой?
У нее, точно, на некоторое время изменился голос.
– Ну, так что ж, дружочек? – говорил он, наклоняясь к ней, тоже почти женским, но изворотливым голосом, в котором слышалась одна нежность и, разумеется, участливость. – Ну, скажи мне, я прошу. – Ему, по всей, стало нужно – и он испытывал эту потребность – повторить то, что он ей говорил всегда с какою-то значительностью.
– Не знаю. – Она как-то повела плечами, ежась, словно озябла. – Или я уже разочаровалась во всем этом, а?
– Может быть. – Он хохотнул неестественно, пристально глядя на нее, такую юную и настроенную на философский лад. – Все тут может быть. Покой не загадаешь.
В налете вечернего августовского полусумрака в сарае выделялось бледнотой ее печальное лицо и чернели глаза.
– Ну, так что же, Раюшка? – допытывался он негромко.
– А можно я потом, потом скажу? – напротив, громче проговорила Рая.
– Хорошо: скажи потом. Только обязательно скажи. Ведь ты по обыкновению потом забываешь вовсе.
– Что – укор? Нет, я постараюсь помнить.
– Ох, смотри!
После этого Рая как-то скованно, не поворачивая головы, привстала, двинулась вдоль стола, да обессилела, побледнела, раз-другой глотнула приоткрывшимся ртом воздух и, теряя сознание, стала падать-валиться набок, как подкошенная. С завидною проворностью Анна Андреевна успела поддержать ее, бесчувственную. Подбежала только что вошедшая стройненькая Ира:
– Мама, мама, что такое с ней?
– Тихо, не кричи, – вполголоса сказала Анна Андреевна. – Она ждет ребенка. Обморок. Пройдет. Вот сюда давай ее усадим.
И Ира с нескрываемо – растерянным удивлением уставилась в лицо Шестова. Тот пыхтел, краснел. Жадно закурил папироску. Молча встал и смылся восвояси.
– Видишь ли, ему, капитану, уж присваивают звание майора, – проворчала Анна Андреевна, – и поэтому, дескать, он не намерен и ослушаться начальства и приказа относительно ее. А ведь интеллигентный с виду.
– Да, более или менее, – сказала Ира.
– Глаза бы не глядели на него. Ну, голубушка, пришла в себя? Слава Богу…
– Аннушка, пожалуйста, научи меня, как мне лучше поступить, – исступленно взывала ожившая снова Рая, с легким румянцем смущения на щеках, но не стеснялась уже говорить в открытую. – Ведь ты поумней меня – и можешь научить. Ну, новое направление мне дадут, снимут его… а я не хочу такого: я немедля уеду домой. И мне будет, вероятно, радостно.
Уезжать теперь, когда война еще не кончилась, да еще и с радостью – это Антона удивило сильно.
– Я не умная, Раечка, просто у меня опыт жизни больше, – невесело говорила Анна Андреевна. – Я уж старой делаюсь. Смотрю на все проще.
– Ну, дай хотя бы горсточку твоего неумного ума.
– И этого дать нельзя. Тут нужен свой, чтоб увидеть главное. Отделить его от пустяков.
– Но отчего же он меня не понимает? Перестал… Он – мужчина или лишь одно название? Почему Ершов понимал меня? Понимал, предупреждал…
Но Анна Андреевна, уже смеясь над нею добро, чуть откинув голову:
– До чего ж мы все похожи друг на друга. Мы – женщины. Все девки какие-то ненормальные незамужние. Дочь моей одной знакомой, заявляла ей: «Мужчин я ненавижу и не выйду никогда за них, буду одинокой жить». Многие, невестясь, рассуждают так. И вот Вера Павловна сказала дочери: «Нет уж, милая моя, удачно, не удачно ли, но ты должна будешь пройти через замужество, – не ради счастья одного, а именно через замужество, – чтобы быть нормальной». Не горюй! Тебе твой малыш радость принесет. Очень редкий человек душевно понимает, кто ты. Нужно показать и проявить еще себя. – И тут заметила Антона: – А ты что слушаешь нашу женскую болтовню? Иди, иди себе, сынок, дай-ка нам поговорить. И так намучался, небось…
Она вздохнула удрученно.
Антон послушался ее – покинул сарай в сложных размышлениях. Странные казались ему все женщины или некоторые из них. Разве ж так не видно, кто из окружающих мужчин есть кто на самом деле? Однако почему-то, увидав опять Раю печальной и мятущейся, он мысленно совсем не осуждал ее, лишь жалел за что-то. Ему, право, было очень жалко всех страдающих невесть за что людей. И хотелось им помочь хоть чем-нибудь. В меру своих сил, способностей.
В раздумье он стоял над сонливой речкой. Над ним синел небосвод, блистал точечками звезд.
Вот в нем косо прочертилась световая вспышка – от «падающей» звезды. И еще. И в той выси заскользил звук моторов пролетавших бомбардировщиков – и лишь виднелись слабые тени. Огней не было видно. Звук их моторов скользил то явственней, то пропадая, какими-то разливами, словно его сбивал там, в вышине, упругий ветер, не стихавший никогда.
Антон был уверен в том, что за его спиной продолжали разговор Анна Андреевна и Рая и Анна Андреевна вновь вспоминала вслух тот момент, когда капитан Ершов встретился ей на мостике.
«А вдруг сейчас здесь мне тоже встретится он – живой и невредимый?» – подумалось отчего-то Антону.
И он поспешил к мосткам.
XIV
И вот вновь, только что переехав на новое место, напоролись на мину.
– Да, нам, хлопцы, крепко повезло, или мы – трошки везучие; смерть нас маленько пуганула, чтобы мы не забывались, верно. На третий-то год войны, – говорил с веселостью окружившим его товарищам, как о досадном пустяке, габаритный и смешливый солдат – шофер Илья Маслов, сидя на бревне сентябрьским вечером в лесной смоленской деревне. Илья Маслов, уже ставший новым другом Антона, был тем удальцом, кто раз в сорок первом году, спасаясь от фрицев, удирал на полуторке в левобережном приднепровье и кто затем колесил на ней в огненном аду Сталинграда и оттуда теперь доколесил до смоленщины – обратной военной дорогой. – В общем, называется, поживились, – говорил он, –трофейными запасными частями к своим поизношенным подругам… Каково! Ведь еще день назад, как перебрались сюда, засекли там, на дороге, свалку немецких грузовых. Но вот поплатились по-глупому: сами потеряли машинку! На фрицевской мине. Да Яшку шибко тряхнуло. Напрочь ничего не слышит.
– Что контузило его настолько? – спросил сержант Коржев.
– А, до свадьбы заживет! – заверил Маслов.
– Но как же она зацепила вас?
– Верней, мы сами ее зацепили. Хотя ехали вслед за Шиловым. Колесо в колесо.
– Странно: и твоя тачка попалась?!
– Ну, просто его санитарная легче моей. Значит, дорога идет ненакатанная, довольно сносно колеи видны. Уже километра три отъехали отсюда, когда – на тебе! – ни с того ни с сего моя коляска зачихала: мотор забарахлил. Ну, стой! – остановил ее. Ребята – их четверо было в кузове, – спрыгнули на землю. Да пешком пошли вперед. До трофеев-то дойти пустяк осталось. А Яша был со мной в кабине с самого начала. Он что-то клевал носом. Он помог мне снова завести мотор; завели его, когда ребята уже отдалились достаточно. Дорога вроде б ровная была. И очень осторожно – след в след, оставленный Шиловской машиной, – повел я опять полуторку. Только вдруг все закачалось почему-то впереди. Не почувствовал и не увидел я земли и леса. Даже вроде память поотшибло на какое-то мгновение, помнил лишь, что был почему-то в воздухе, меня крутануло здорово и куда-то бросило. Какая-то карусель. За руль ухватился крепче. Толку что!
Я уже под перевернутой кабиной пришел в себя. Собственно, ее, кабины-то, уже не было в помине: верх сорвало начисто – лишь ее костяк уперся в землю; руль погнулся сильно, и меня заклинило. Ну, вы, увидите, когда костяк сюда притащим. И когда я, ухватившись, наконец, за что-то, выглянул из-под днища, – сверху еще падало на меня все, что взметнуло взрывом. Теперь только догадался я об этом. Поскорей опять в свое убежище сховался, в плечи голову втянул. Хорошо отсюда видел: на суку сосны повис и качался бензиновый бак, который я всегда держал за своим сиденьем; там же опустилась и моя пилотка, сорванная с моей головы… Радуясь, однако, тому, что сам-то уцелел, вмиг затем похолодел: «А где же мой напарник Яша»? Не видать его. Снова вылез, распрямился. Огляделся повнимательней: соображение отбило. Вижу: он на пригорочке валяется, раскинув руки. Этак метрах в десяти, если не больше. Ужаснулся я, ноги подкосились; думаю: «Ну, все! Конец!» Ведь как-никак противотанковой нас хватануло. Все расколошматило. Нет нигде живого места. Представляете, аж покрышки закинуло на ту сосну – содрало и закинуло, висят на ней…
Подбежал я к Яшке, давай тормошить его – он не шевелится. А потом ребята подоспели, взяли его. Понесли… Да вот и Климов с нами был – может засвидетельствовать, – сказал Маслов в заключение, едва тот подошел к сидящим.
Также военный шофер Климов, широкоплечий и небрежно-степенный, даже несколько важный – вероятно потому, что был все время командирским шофером и что поэтому как бы чувствовал себя несколько выше своих собратьев по профессии, – подсев тоже, воспользовался паузой и досказал:
– А мы, вылезли из кузова, шли себе, дольные, по мягкой травке. Калякали обо всем на природе. Когда толкнул нас в спину недальний взрыв. Что такое? Оглянулись: дым вскинулся там, где только что ехала наша полуторка, и она уже вверх тормашками торчит. Стало быть, была судьба, что у ней заблаговременно мотор заглох. Словно мы предчувствовали что… Повылезли… Спаслись…
На другой день было почти веселое представление: обшарпанный грузовичок тащил за собой на тросе то, что осталось после минного взрыва от Масловской полуторки, – фактически одну только раму, поставленную на колеса. И на этой-то раме, за погнутым рулем, с улыбкой восседал тощий, мускулистый Маслов и показывал всем зубы, отвечая на ходу на всевозможные шутки встречающих. По обыкновению своему он держался превосходно, весело, словно на каком-нибудь спектакле.
Но его товарищ по несчастью, Гончаренко, поправлялся медленно. Видимо, морально чувствовал себя неважно. Он встал с постели лишь на третий день, к концу его, и приковылял на кухню, чтобы поесть, – такой маленький, обросший, пожелтевший и болезненно-подавленный. Последнее, возможно, и в немалой степени было связано с его временной потерей слуха: он пока почти не слышал ничего, что говорили ему сослуживцы. Приходилось либо кричать ему сильнее то, что нужно, или как-то показывать на пальцах. И поэтому он больше хмурился и сердился. Антон стал замечать: он даже сторонился всех, чаще стал курить. И едва появлялся на виду у него, Антон стремился подбодрить его и ходил за ним, как нянечка. Так сильней привязывался сам к нему. По-детскости, наверно.
Как-то они сидели вдвоем на солнечной стороне избы – снаружи ее. Было очень много мух. Они жужжали везде и кусались зло. Не хотели умирать. Яша курил, едкий табачный дым лез Антону прямо в глаза, отчего они слезились. Антон смотрел на него, несчастного, и оттого ему становилось страшно и смешно. И нет-нет и он улыбался через силу, морщась. Палкой пошевеливал желтую, опавшую листву. Той, с которой он еще ковылял, приволакивая ногу.
– Ты не тужи, – обнадежил он Антона. – Как очухаюсь, опять займемся с тобой шоферской практикой. Идет?.. Если хочешь…
– Я хотел бы, что ж… – сказал Антон.
Антона, следует сказать, восхищали ершистые и терто-обязательные трудяги-шоферы, которых он узнал получше; они заметно выделялись на фоне других своей естественной стойкостью и значимостью на войне, своим умением делать нужное дело для всех людей без хвастовства и без всяких ненужных сетований. И ему хотелось в чем-то походить на них. Потому-то, наверное, при появившейся в голове мысли о выборе своей будущей профессии он (еще не думавший нисколько о художничестве) согласился для начала пройти некие шоферские курсы. У того же Гончаренко.
Тот и другие водители веско говорили ему не раз: мол, пользуйся пока моментом, пока служишь, – изучай автовождение, мы советуем. Это тебе пригодится завсегда, поверь, – в жизни будет верный кусок хлеба…
И вот Гончаренко как раз накануне случившегося взрыва мины закатил после рейса свой замызганный грузовик под тополь и предложил с вызовом:
– Ну, так если ты готов, бери ведро, зачерпни воды из ручья и тащи сюда. Начнем прежде с мытья моей посудины… старушки…
Яша и Антон усиленно мыли-отмывали кабину, радиатор, крылья, кузов и колеса полуторки, облепленные великой грязью. А на лицах проходивших мимо сослуживцев сквозило явное недоумение. Доброжелатели вроде бы тут же осуждали или урезонивали ретивого Яшу:
Ты, мастак, аль эксплуатируешь мальца? Он ведь, знать, и на своей работе наломался.
– Да, негоже ты выдумал, умник!
Видно, не того они хотели бы для Антона, было ясно.
И он сам уже испытывал неловкость от того разлада, какой вызвало его согласие на некое ученичество профессии, разлада даже у других шоферов – его друзей: выходило так, что не все из них были дружны с Яшей. Антону же не хотелось ни с кем обострять из-за этого уже установившиеся и понятные ему самому отношения со всеми.
И был очередной прифронтовой переезд, условия все ухудшались, лили осенние дожди, были повальная распутица и месиво на дорогах. На них автомашины завязали по самую ось – и тогда приходилось выволакивать их тракторами… До какого же учения было тут кому?
А может быть, и Антону самому просто не хватало в этом деле настырности и нужного желания.
XV
По-осеннему туманилось и стыло все вокруг среди глохших смоленских полей, взгорков, огородов с паутинкой серой, скелетов сараев, разбросанных кое-где. Автобус с военными катился по проселочной петлявшей дороге точно наощупь, спотыкаясь. И вновь остановился почему-то. Сослуживцы, выйдя из салона, стали ждать чего-то известно-неизвестного, как бывает на войне. Красочно в лиловой пелене кучились деревья – их шапки, кусты и высокие растения с рыжей подпалиной и жгуче краснели, клонясь, гроздья рябины, бузины; свежий морозец и иней пробелили траву, дорожки, колья, изгороди, крыши.
Не видно было жителей села – понятно. Лишь маячили тут, там на привале бойцы, которые еще пойдут в бой, – как знак сурового военного времени.
Но вот автобус ушел. Антон и другие оставшиеся военные пока слонялись праздно, без дела. И даже грелись почти безмолвно какое-то время в какой-то рабочей конторе. Потом, наконец, все вспомнили: о, пора бы, братцы, и обедом заняться! Время уж!
– Отчего… Давайте! – было общее согласие.
Да тут не поверилось глазам своим: на дороге возник – спешил сюда увалисто-сутуловато – широкоплечий солдат Стасюк, в вытертой фуфайке, в пилотке, в неизменных обмотках и с тощим вещмешком за плечами. Какой-то спокойно-капитальный и радостный, с изменившимся красноватым лицом в морщинках, он еще издали светился улыбкой. Все заговорили приветливо, обрадовавшись ему:
– Откуда?
– Оттуда, из окопов, – махнул он, подходя к сослуживцам, рукой в западном направлении. – И после лечения в госпитале.
– Что, был ранен?
– Немножко зацепило в атаке.
Антон и его друзья очень скоро, присев кружком – на ящики и бревно около костра, поглощали из одного котелка желтоватую, крутую, но действительно вкуснейшую кашу. Поблизости дымились и другие костры, и возле них толпились бойцы. Будто и не было на свете войны – просто солдаты попали в неожиданный, казалось, мир и была у них между собой случайная встреча на родной земле. Поэтому все и разговаривали как-то вполголоса, как бы понимая друг друга и так – не разговаривая вовсе. И одинокие серые вороны, по-хозяйски каркая, спрашивали: и когда же это все кончится? С явной неохотой перелетали с места на место.





