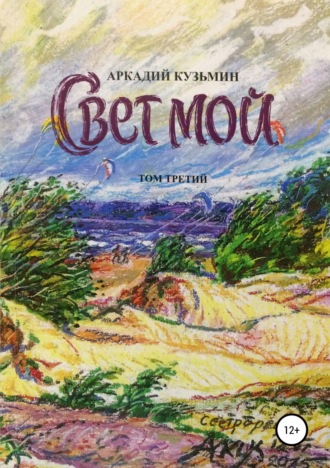
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
– Подарите три, пожалуйста! Я прошу…
– А надо собирать, – замявшись, наставительно сказал старшина.
– Кому что, – лихорадочно проговорил Антон и, взяв из его толстых рук четыре весенних желтых цветка, подошел с ними к автобусу. – Люба, прими, – преподнес он ей при всех три цветка. – А один – тебе, Ирочка. У Юхниченко много их. Ты попроси еще.
От неожиданности Люба остановилась, вскинувшимися карими глазами поблагодарила, но вздох свой сдержала и, быстрее юркнув, скрылась в автобусе. А Ира приняла цветок, как должное.
Волков отчего-то улыбался Антону извинительно.
Все садились в автобус, и он заметно осаживался.
Как ни мелок и не редок был дождь, земля все мокрела, темнея и сочнея. Из стоявшего автобуса Антон глядел на куст. От сбегавших капель упруго вздрагивали молодые листья. И точно так же, как под каплями вздрагивал лист, другой, третий, что-то вздрогнула в нем от прилива чувства, похожего, наверное, на ожидание счастья. Отчего оно? И отчего же ему припомнился опять тот прозрачный сон, в котором он будто наяву с ликованием шел вверх по дымчато-росистой траве и, оставляя в поле след, давал себе клятву – полушепотом говорил себе прекрасные слова? Но, собственно, уже кончился, кончился вещий сон: и вне его-то он испытывал то же томительное ожидание счастья, еще совестясь в душе за это.
– Она плачет. Слезы крупные так и льются.
– Кто: собака? – разговаривали женщины в салоне.
– Корова. Подошел к ней сам, обнял ее и сам выплакался с ней.
Автобус уже снова обгонял распланированные коттеджи с возвышающимися коньками.
И больно Антону стало от слова «сам». Что-то сильно сдавило в груди. Чуть нагнувшись, чтобы никто не заметил его смятенного состояния, он перебарывал в себе минутную слабость. Да, война закончилась. А убитые и умершие будут представляться нам всегда точь-в-точь такими же, какими они были загублены. Их не воскресить. И уж не посмотрят они на дальнейшие дела рук человеческих. Что прискорбно: Антон не мог представить себе гибели отца и его последних дум. Отец, простой крестьянин, полуграмотный, бывало, смешно разыгрывал на деревенской сцене отдельные эпизоды. Однажды в сарае был спектакль. Поздней ночью со спектакля они вышли прямо на задворки. Небо было с неизмеримым количеством горевших звезд.
И это таинственно-черное звездное небо всегда вызывало в нем восторг перед чем-то прекрасно-будущем.
«Что же, сбудутся ли мои смутные мечты и желания? Или это будет так далеко, как и до неба, неясного в протяженности своем, а все в мире – так же сильно будет волновать меня, волновать мое воображение?»
Совсем повеселевший Волков положил горячую ладонь на плечо Антону и, сбоку поведя взглядом в его лицо, спросил участливо:
– Ну, что замечтался, дружок? – И он некоторое время не снимал с его плеча тяжелую руку – она была недвижна.
– Будто мама, которая нас спасла, послала меня сюда, – сказал Антон. – И об отце подумалось вдруг. Не уберегся он…
– О, нашему поколению с лихвой хватило всего, – с жаром отозвался Волков. – Одна гражданская война чего стоила – Первой мировой продление… Потом восстановление, потом коллективизация, индустриализация, потом новая – Отечественная – война, оккупация, голод, опять восстановление. Вот теперь демобилизуемся – и тоже засучим рукава…
– Это даже не чересполосица, а многополосица.
– Какое! Одна непрерывная полоса, – поправил друг. – И даже не полоса, а глубокая борозда, в которую человек попал и уже идет по ней, а та все петляет и петляет бесконечно… Одного из перечисленных мной событий хватило бы на всякого, а тут… – Он махнул рукой. Но тотчас продолжал свои умозаключения: – Значит, как галактики, которые в реке Вселенной есть завихрения (я когда-то увлекался астрономией), так и человек с его жизнью, с его отношением с другими людьми есть поток во времени, и он часто разворачивается стихийно – под воздействием событий. Такова жизнь и матери твоей. Перед нею нужно только преклоняться.
Васильцов рассуждал:
– Да, Берлин, безусловно, останется немецким, как останутся и немцы немцами. Но станут ли они другими?.. Разные правительства будут решать, что им дальше делать; солдаты будут на границах, мосты, как говорится, не сведены… Только точно можно сказать одно: что после этой весны человечеству – дальше жить. С зарубкой в память о случившемся.
И кто-то поддакнул ему раздумчиво:
– И люди станут мотать себе на ус. Вот хватит ли ума?
– Вон уже возвращаются в Пренцлау сбежавшие немецкие семьи, – сказала Игнатьева.
– Везде хорошо, где нас нет, – резюмировала Анна Андреевна.
– Каждый живет своим особым миром, – заговорила опять Коргина. – Вы посадите меня в лучшее кресло – вольтеровское, – я все равно не усижу. Ни за какие коврижки. Я и говорю…
Но Аистов нелюбезно перебил ее:
– Все, все, все. Ты уже высказалась. Ира, спой! – И кивнул Ире, подбадривая ее.
Раскрасневшись, улыбаясь, Ира запела. Суренкова нежданно (она не было певуньей) подхватила за ней песню военного времени и все смелее и сильнее, верно, вкладывая в нее новый смысл.
И Люба, поднимая глаза на всех, зашевелила беззвучно ртом – в такт словам песни. А Саша, насвистывая на этот же мотив, все выжимал скорость. Вжик! Вжик! – проносились взад, отставая, придорожные деревья, и ветерок наполнял и упружил на их светло-зеленых кронах молодую листву.
По дымчато-зеленой, мокро блестевшей равнине Кашин ехал с думой о скором возвращении на родину, с желанием стать дома художником – затем, чтобы обрисовать все, что он увидел самолично. И уж больше никакие сомнения в этом не разбирали его, несмотря на покамест неудачную попытку с зарисовками в Берлине. Неудача как чувствовал, лишь раззадорила его. По-хорошему.
Оглянулся ли он?
Нет, на Берлин он уже не оглянулся.
Да, Антон, как все теперь, конечно же, домой спешил, спешил с желанием учиться художественному мастерству. А пока в свободные часы рисовал, делал наброски, постоянно общаясь с солдатом Тамоновым и выслушивая его профессиональные советы художника, очень помогавшие ему в рисовании. А также с немецкими мальчишками-погодками, с которыми сдружился и которыми почти верховодил, гонялся по улицам Пренцлау. Они нередко наезжали в городской парк – к могилам с нашими спящими солдатами. К сожалению, здесь прибавилось еще несколько могил с цветами.
XX
3 мая все управленцы, погрузившись на автомашины, переехали за Одер, в немецкий городок Пренцлау; поселились в зданиях, свободных пока от жителей-немцев, частично сбежавших на запад.
Тамонову досталась очень светлая и просторная комната: настоящая мастерская с видом на яблоневый сад, вплотную примыкавший к дому; цветущие ветви почти доставали до самых окон третьего этажа, заполняли все пространство крупным белым восковитым цветом; за садом сочно блестели и островерхие красно-черепичные крыши, изгибы угадывавшейся улицы. Уже освоившись в Управлении настолько, что он не нуждался больше в покровительстве Антона, он в приподнято-радостном настроении, порозовевший, обрастал всем необходимым, как художник: красками, бумагой, кистями, склянками, рисунками. Даже обзавелся каким-то примитивным мольбертом, сколоченным кем-то специально для него – поставил его почти посередине комнаты.
Когда же сослуживцы нашли к нему и сюда дорогу – загостили, позируя ему, тем охотнее, что война кончилась и всем хотелось увезти домой память о службе, – Антон нашел его еще суетливее обыкновенного. К тому же он вроде затушевался от чего-то. Похвастался приобретением здешним – прикрепленным к стене небольшим (меньше метра высотой) живописным холстом, который где-то поднял и развернул; изображенный неизвестным современным пейзажистом, желтел на нем уголок неизвестного сада с мокрой серой скамейкой, с опавшей листвой на дорожке. Пейзаж – как натюрморт. Несмотря на пастозную манеру нанесения красок, их созвучие было совершенным. Этот холст отдавал такой пронзительный свежестью, что, казалось, будто натуру выхватил взгляд именно в открытое окно.
Несомненно, находка принадлежала к советской школе живописи, из России – судя по сюжету и подписи. Ведь нацистские оккупанты вывезли из России сотни тысяч произведений искусства и затем часть вывезенных, не успев переправить на Запад, в спешке кидали где попало. Действовали по принципу: «Раз гибнем мы, нацисты, – пусть погибнет и весь свет. Ничего не жалко». Расстреливали же они мирных немецких жителей, в том числе и детей, осмелившихся вывесить белые флаги, уж не говоря о солдатах; затапливали же водой станции метро вместе с укрывшимся в нем берлинским населением…
Накоротке перемолвившись с Антоном соображением насчет картины, которую он высоко оценил, Илья Федорович уже усадил на стул для позирования прачку Машу, полную стыдливую девушку, и занялся ею целиком; предупредительный и более чем любезный, он почтительно и в волнении срисовывал ее и одновременно беседовал с нею, точно с королевной. Она мило, кротко отвечала ему, взволнованная тоже.
Все чаще и чаще Антон заставал у него Машу, которой он много всего рассказывал – необыкновенного и диковинного, как видно было по ее разгоряченному лицу, распахнутым правдивым глазам. Должно быть, они становились очень хорошими друзьями. Она наводила чистоту и порядок в его помещении, меняла ему воду, мыла его банки, стирала белье. Что-то общее сближало их: возможно, их почти детская доброта и чистота чувств. Вследствие этого сближения – все подметили – он даже изменился в том, что стал уже явно меньше помнить о других своих посетителях. Над чем весело-незлобливо посмеивались меж собой говоруны, находившие всегда причину обратить на что-нибудь свое внимание и поязвить немножко, если можно. Отчего ж не поязвить?
За несколько недель Маша как и появилась незаметно, так и исчезла из поля зрения всех: ее перевели в госпиталь. Илья Федорович сильно заскучал по ней, задумчиво (чего не бывало прежде) печалился о ней – все-таки она была для него лучшим благодарным собеседником: необыкновенно мило, с редким сочувствием и переживаниеь, слушала и слышала его. И он несомненно успел привязаться к такому понятливому существу. Она стала ему дорога.
Тут-то Сторошук и другие ребята решили разыграть его: исхитрились словесно создать фантастическую легенду специально для него; они как бы неохотно, ненароком обронили при нем (чтобы дошло до его ушей), что-де уехала Маша, слышали, вовсе не случайно, так как она будто бы ждет ребенка. От него. Бедный Илья Федорович! Он, кажется, и мало веря версии, и чувствуя в их словах, может быть, подвох, взволновался, главное от того, что Маша, если такое говорят о ней, может вследствие чего-нибудь подумать о нем плохо. Антона поразило истолкование им всего по-своему. В том было какое-то противоречие. Но, присутствуя при сем, он уже не мог ни разубедить, ни убедить Тамонова в ином, несмотря на то, что тот обращался к нему с робкой надеждой во взгляде, испрашивая им, справедливо ли сказанное ему насмешками. Шутники не могли оскорбить его прямой правдой, а действовали с намеками и недомолвками, что придавало их словам вес кажущегося правдоподобия. И для пущей достоверности попросили Антона быть лояльным – не мешать им. Справедливо, однако, считая, что Илья Федорович прекрасно и сам должен все понять, разобраться во всем. Антон лишь пожимал плечами; мол, не в курсе событий. Действительно, не подыгрывал – был покамест далек от проявления интереса к интимной близости взрослых людей.
– Но я ведь не отказываюсь от нее и ребенка, чей бы он ни был, если появится на свет, – казнился Тамонов. Он мучился не от того, что могло произойти подобное, а от того, что окружающие могли истолковать неправильно его поступок, могли подумать о нем худо, неверно.
Поразительно, как он, сложившийся мужчина, интеллигент, хваставшийся знанием женской психологии, так легковерно принял наговор и даже не защищался нисколько, принимая это как должное – просто свалившуюся на него кару небесную. И Антон уже не успел, как хотел, разубедить его в напрасности навета. Ибо Тамонова вскорости срочно откомандировали в госпиталь, руководимый видным военным хирургом: здесь собранная группа художников готовила красочные плакаты о боевом пути госпиталей, а также альбомы с рисунками медицинских операций, инструментов, схемами и фотографиями.
Антон, как и прежде, помимо служебных дел и поручений продолжал натурные наброски и наносил сухой кистью на больших полотнах портреты известных маршалов и героев: ими уже украсили удачно клубное помещение.
Однако же он скучал без Ильи Федоровича. На сердце было неспокойно.
Увидел его по истечении полутора недель – Илья Федорович прикатил на пару дней. Первым делом Антон зауверил его не беспокоиться из-за тех дурацких рассказней шутников, а он с затаенной верой выпытывал, не объявлялась ли Маша снова здесь, в Управлении. Видимо, он уже ни за что не хотел отрешиться от внушенной им самим готовности к чему-то бесповоротному. И, точно открываясь, наконец, он тем охотнее пояснил:
– Знаете, Антон, в Маше есть что-то схожее с Олей, о которой как-то говорил.
– И не договорили еще, – подхватил Антон.
– А знаете, как я тогда поближе познакомился с одной личностью? Я не рассказывал?
– Нет-нет, Илья Федорович.
– О, это весьма существенно. Личность оказалась любопытная. Я вкратце вам расскажу… Не обессудьте…
– Илья Федорович, вы опять на «Вы» со мной… Это не годится. Совестно…
– Нет, постойте ради бога! Что же, Сторошук ушел?
– Притом незамечено…
– Отчего же он покинул деликатно нас? На английский манер… Не знаете, Антон? Оттого, что я о Маше помянул?
– Может быть. Но он все-таки стреляный воробей.
– Тогда великодушно простите меня, голубчик мой. Я думал, что для вас двоих стараюсь. Он же сидел за моей спиной, а я все на вас поглядывал…
– Ну, опять на «Вас»… Побойтесь бога! Сжальтесь надо мной!..
Тамонов умоляюще прижал руку к груди.
– Глянул назад – его нет. А был. И то-то громко, теперь чувствую, говорил. Неправда ли? Сказывается, видно, то, что давно не виделись. Не забыть бы. Я про личность интересную начал… Так ведь?..
– Было: собирались рассказать.
Он сидел, сощуривая глаза и уперев руку в бок, как глубокий старик, и о чем-то мучительно раздумывал, прежде чем проговорил будто сам с собой:
– Итак, хорошо было то, что после всего случившегося, я его видел, знал, как на ладони.– Он вытянул ладонь с цепкими пальцами и повернул ее кверху, точно взвешивал на ней что-то. Ведь мы были двое истинных друзей. И сдружились настолько крепко, близко, что знающе уже путали нас по именам. А друг-то по своей комплекции вдвое крупнее меня… Но, выходит, всякое бывает у людей. Вот этот-то друг-товарищ в одночасье и околдовал мою Оленьку. Представь, решил, что мне некогда заниматься свиданьями. Тогда я иллюстрировал один сборник рассказов. Изобразительного материала по зарубежным странам, особенно по скандинавским, под рукою нет, не подсмотришь в Эрмитаже и не выищешь сразу в Публичной библиотеке. Все сроки же сдачи рукописи, как бывает, уже горели ярким пламенем (с рисунками предыдущий иллюстратор не справился – и отдали все мне), и я направился к писателю-переводчику этих норвежских, кажись, рассказов, чтобы уточнить, какую одежду носили герои. Важно для иллюстратора – предельно следовать во всех деталях достоверности и историчности. И то, что писатель чистосердечно сказал, меня очень позабавило. «Бог ты мой, а я и сам не знаю толком. Да и кого это может интересовать по-серьезному? Нарисуйте, что взбредет на ум». Но характер нарядов я все-таки уточнил по мере возможности. А где и свой автопортрет изобразил. Ну, и кое-какие рисунки удались, похвалюсь. Штук двадцать пять. Художественный редактор Иван Иванович чуть не погубил все. Придешь, а он вечно разбирает шахматные партии, или просто гоняет в шахматы, или косой (выпить любил), или о рыбалке мечтает.
– «Посмотри, Иван Иванович…» – «Давай, показывай»… – «Да что я буду совать под нос: вы ведь играете…» – «Ну, и не суй, если дрянь, вижу»… – «Это совсем невежливо с вашей стороны…» Заспоримся, как всегда… Ну, и над рисунками застрял. Разумеется, все – бегом. Мельком лица видел… Как в тумане… Случайно наткнулся на Оленьку возле сквера, всю светившуюся радостью встречи – стояла рядом с красавцем – говоруном Нефедовым… Тот назначал ей свидания… петушился для чего-то… Я обошел их ради приличия. Ровно препятствие…
– А где же они познакомились? – спросил Антон. – Вы не сказали.
– Каюсь: я их познакомил. На этюдах. Раз Нефедов за мною увязался. Значит, сдал эту работу… И Оленьку вновь увидал. Одну. Я-то теперь довольный… Она – печальная. «Почему же вы тогда не подошли ко мне?» – спросила она с гневом и обидой.
«Почему?» – И ответил я: – «Да потому, что вы-то были прекрасны-распрекрасны. На вас было ослепительно белое платье, золотились волосы, ресницы. И солнце, и свежая зелень, и ваше счастливое настроение – все это особенно чудесно гармонировало между собой. И я не хотел разрушать гармонию своей неприкаянностью, эгоизмом, если хотите. Был растрепанный…» «А теперь? Я уж не прекрасна?» – и она заплакала несчастно. Сорвалась и убежала от меня. Я чувствовал неладное. Обычное крушение мифа. Видишь ли: она сочла обольстителя океанной глубиной по его страстным словам, ухаживанию, а обнаружила в конце концов лишь мелкую речушечку, да и то норовящую течь побоку. Я стал, что говорится, думать, рассуждать с самим собой: что я мог ей дать? И так потерял ее окончательно. А тут война… Все закрутилось жутко…
И с другом тогда разошлись во мнениях…
XXI
Итак, раздумавшись о сложной судьбе художника Тамонова, Антон приникнул к подоконнику раскрытого вечернего окна, когда в комнату шумно ввалились сержанты Коржев и Волков. Они шутливо-бесцеремонно сцапали его и повлекли за собою. Он, сопротивляясь им, возроптал:
– Помилуйте!.. Вы – куда?
– Нечего тебе уединяться! Айда с нами на люди – свою скуку исцелишь…
В клубном зале сержант Горелов, рослый, угловато-неуклюжий, но известно-заядлый комик, с комическими ужимками наигрывал на пианино легкие пассажи; собравшиеся, больше молодые женщины, подпевали.
– Гриша, лучше спой-ка под гитару! Держи! – протянули ее ему.
Он, аккомпанируя на ней, запел:
– Шаланды полные кефали в Одессу Костя привозил…
И песню чудесно подхватили все. Допели до конца. Следом сладилась и новая песня:
– Запрягайте, хлопцы, кони…
И опять звучало пианино – тем звучней, когда открывалась дверь (словно вырывалась музыка на простор). Все смеялись, веселились; шелестели, натирая пол, пары ног танцующих. Женские глаза, притягивая, излучали одну любовь. Такое впечатление, будто бы пришел самый сезон любви, коснувшийся всех, когда все уже перелюбились, стараясь любить друг друга так, как могли и умели, и знали, как любить. Женщины подзадоривали ухажеров:
– Вот, вернетесь домой, и вас, мужчин, быстренько утихомирят женщины. Не шалите попадя!
– Уж скорей бы это сделалось; нам не терпится, вы знаете.
– Подождите; что потом вы запоете?..
– То же самое. Не бойтесь. Войну стойко выдержали…
– А ты, Антон, почему же не танцуешь? – над ним возникла – глядела на него стеснительно, смущенно и ждала чего-то – Маша! Робкая Маша!
– Ты откуда? Насовсем? – Антон вскочил обрадованный. – Здравствуй!
– Я заехала… проведать… – Теребила она руки, но ее глаза, чистые, излучавшие какой-то правдивый свет, и то, что она, войдя в зал, сию же минуту подошла к Антону, говорили определенно об одном: ее больше всего волновало желание узнать от него что-либо об Илье Федоровиче.
Было странным для Антона (ему как-то еще не верилось) это косвенное подтверждение распространявшегося кое-кем предположения об их любви. Могло такое быть. Илья Федорович и Маша сами-то еще не верили тому, не отдавали себе отчет в том. Только уже нечто отчаянное – и вместе с тем самое простое, наверное, – пришло Антону на ум. Удивленный своей решимости и храбрости и обрадованный этим, он схватил ее за руку:
– Идем скорей! – и поволок ее за собой – вежливо, но решительно.
– Куда? Скажи. – Она еле поспевала за ним.
– Идем же! Ничего пока не говори, не спрашивай! Ладно? – он точно боясь того, что, узнав, куда они спешат, она заупрямится, все настойчивей тянул ее.
Маша послушно повиновалась, видно, доверчиво полагаясь на его хорошие намерения. А может, она почувствовала что. Действительно, никакого заговора против нее в его душе не было, так же как и против Ильи Федоровича; – он лишь хотел доставить им обоим большое удовольствие – помочь им снова встретиться после вынужденной разлуки, чем тоже помочь ему удостовериться в надуманной нелепости какого-то шутливого наговора. Он очень-очень хотел их порадовать и порадоваться так за них. Почти вихрем они взлетели со второго на третий этаж по широкой лестнице, пробежали чуть по коридору. Когда Антон запыхавшись, держа девушку за дрожавшую руку, так же быстро, но молча (гулко колотилось его сердце и оттого еще, что впервые посмел столько дерзко обращаться с девушкой и близко ощущал ее дыхание) застучал в дверь Тамонову, он подумал было о том, что может быть поступал сейчас нехорошо. Но эта мысль лишь слабо мелькнула в его голове; напротив, он только лучше хотел все сделать. И старался. Он стукнул резче в дверь: по привычке какой-то или лишь для того, чтобы никто не мешал работать, Илья Федорович всегда накидывал крючок на дверь изнутри. И пока он подшаркивал к двери и возился с бренчавшим крючком, его некая медлительность и предосторожность уже раздражали Антона. И даже возмущали. «Да тут… если бы он знал… – А то еще спрашивает – кто? И нужно повторять: это я, я…»
Сердечко слышно билось и у Маши. Она уже поняла все: догадалась.
Она счастливо принадлежала к большинству прекрасных скромных тружеников, симпатичных тем, что они никогда и не при каких условиях не переоценивают и не выпячивают себя – это было бы просто противно их естественному образу жизни, ее пониманию. Такие люди по большей части стыдливы и совестливы.
Едва приоткрылась дверь, Антон подтолкнул Машу в комнату. Послышались радостные восклицания Илья Федоровича, шарканье ног по полу, всплескивание рук, а также ее тихий, застенчивый голосок. Антон уже, не видя, но слыша то, как без умолку, по-детски растерянно-обрадованно говорил его учитель за дверью, и еще стоя в коридоре, собираясь с мыслями, испытывал теперь к нему чувство какой-то жалости или превосходства, будто уже не знал наверняка, кто же в этом-то, что происходило, являлся учеником и учителем. И он уже хотел удалиться тихо, к счастью, узнав, насколько они оба – Маша и Илья Федорович – обрадованы встречей. Но вновь распахнулась дверь со словами:
– А ну, где этот виновник? – вышел Илья Федорович, взял Антона под локоть и вовлек в комнату. – Давайте, давайте сюда!
Он долго тряс его руку, благодаря его с дрожью в голосе. Пальцы у него были цепкие.
Затем он повернулся к Маше. Она, все так же, как и Антон втолкнул ее сюда, стояла на одном месте, глядя то на него, то на Антона, – какая-то вся растерянно-преображенная по-новому, даже красивая. Так Антон, словно спаситель, до конца убедился в том, что Тамонов, несмотря на большую разницу лет, любил ее, Машу. А она? Антону казалось так, что если и она его любила, то, возможно, потому что ее как бы подвели к такой закономерности разговорами, мнением, наверняка дошедшими до нее. Ведь Илья Федорович был не глуп, много знал и умел, что рассказать; он привык к ее частым посещениям, как к чему-то естественно необходимому, а она привыкла к оказываемому ей мужскому вниманию и с готовностью выслушивала его, не краснея за себя перед ним ни в чем.
Антон, разгоряченный и точно наказуемый враз той невидимой силой, которой была его молодость с ее ошибками, заблуждениями и взлетами, как в тумане, вошел снова в зал к веселившимся сослуживцам, снова прочел в чьих-то женских глазах скучный настойчивый вопрос: «Вот ты уедешь на Родину – кем же ты станешь? Обычным рисовальщиком?» Это уже преследовало его навязчиво. Невозможно. Он повернулся и спустился по ступенькам под пышно раскинувшиеся над тротуарами каштаны.
Вслед ему доносился лишь напев:
– Я так люблю тебя, я так мечтаю… пишу тебе,
Не забывай мое прощальное танго
Прощай, прощай, моя родная…
XXII
Антон вследствие военных действий не учившийся в школе, отстал от своих сверстников – ужасно! – на четыре учебных года; он и торопился домой с тем намерением, чтобы наверстать упущенное в учебе, понимая, что без нее ничего нельзя сделать. Тем более что близились новые занятия в школах, и нужно было успеть к ним. Он очень ярко видел тот описанный мамой в письме безудержный порыв, с каким тетя Поля со слезами бежала вдоль Ромашино и как она стала бить железкой в рельс, подвешенный на стояке, и вскричала:
– Люди, милые! Война закончилась!
И перед его глазами столь зримо вставали просветленные лица его матери, его повзрослевших сестер, брата младшего.
А тут еще обнаружилась проблема его личного свойства – промашка со здоровьем.
Антону доводилось слышать от раненых фронтовиков рассказы, как они, случалось, бежали из госпиталя обратно на фронт в свою часть, едва подлечившись, и еще не выписанные, как положено: им не терпелось вновь попасть к товарищам в самое пекло, чтобы вместе гнать из России врага. Однако уже в мирные майские дни, он поступился тоже назначенным ему госпитальным лечением на собственный страх и риск. Тем более, что оно не было связано ни с каким ранением или чем-нибудь еще серьезным, представлялось ему, – он не мальчишествовал тут нисколько.
Ну, обыкновенно же ему занемоглось внезапно: временами ощущал утомление, усталость, кружилась голова, а в глазах плыли круги; его при ходьбе как-то странно вело и заносило в стороны, так что хотелось порой даже прилечь, отдышаться и отлежаться; по мнению управленческих медиков, авторитетнейших дам, вероятно, происходил усиленный рост организма, и ему, которому требовалось лучшее питание, теперь не хватало каких-то витаминов. В общем, что-то здесь нарушилось. Может, и не сейчас; уж незачем уточнять, когда. Возможно, что и во время оккупации, когда все голодали. Сейчас важно было больше употреблять масла, мяса, молока, хлеба, зелени и непременно полечиться в стационаре. Под наблюдением врачей.
В особенности непреклонной была в своем суждении видная собой и величавая майор медицинской службы Игнатьева, имевшая влияние и на самого майора Рисс, своенравного начальника отдела, что он безропотно согласился с ней. Даже сухо-непререкаемо, откашливаясь, распорядился насчет легковой автомашины, и лимузин подали к подъезду для Антона. Нет, не мог же он смалодушничать перед ними. А он до самой последней минуты лишь лихорадочно изыскивал в уме способ, чтобы как-нибудь все-таки выпутаться без урона для себя и чести своей из этой непредвиденной ловушки, в которую попал, еще думал как-нибудь отвертеться от участи, ожидаемой его: да, для него было бы хуже пытки день-деньской полеживать в постели! Когда пронзительно чудная майская погода словно призывала его к прежней свободной жизни. На воле. Среди товарищей.
Но делать пока нечего. Он залез покорно в легковушку и покамест ехали, мыслью утешал себя, что, может статься, там посмотрят на него специалисты и еще отпустят с миром. Так с Игнатьевской запиской, содержащей и латынь, на которой врач предполагала характер неясной для него болезни – головокружение и слабость, проехал километра четыре-пять, за южную окраину Пренцлау, – в ближайший госпиталь.
– Тебя проводить? – командирский шофер Климов был ироничен, как всегда. – Наказывал ведь майор…
– Что я не дойду? Не с передовой. Не маленький. А ты езжай, езжай. Всего.
– Всех благ тебе, – пожелал небрежно (пилотка набекрень) Климов. – И выздоровления.
– Да я здоров же, господи! Езжай!
Климов лихо развернул свою шикарную черно-лаковую трофейную машину, газанул еще и помчал без остановки в часть.
Тихо, чинно вокруг, около серого здания с высоким (бросилось в глаза) первым этажом. Антон через пустой коридор направо прошел в приемную, где кроме двух молодых женщин в белых халатах – врача и сестры, никого не было. Словно все уснуло здесь, был мертвый час.
Скоро раздетый до пояса, осмотренный, ощупанный и выслушанный, он стоя и потом сидя на табуретке перед столом врача, охотно отвечал на малоинтересные, однообразные вопросы о том, чем и когда болел, на что жалобы и т.п.; он старался говорить впопад, т.е. так, чтобы не навредить себе могущей быть навязчивостью относительно недомогания, что в сущности представляло такой пустяк, на который и не стоит обращать внимание. Пройдет!
– Как аппетит у тебя? – Спрашивала военврач.
– Нормально. Не жалуюсь, – отвечал он бодро.
– А сон какой? Глубокий?
– Нормальный. Сплю хорошо.
– Никаких страхов нет?
– Нет. Откуда?..
Вежливые медики явно действовали по принципу: коли ты, голубчик, направлен и поступил к нам, так будь добр, пожалуйста, смирись с судьбой: уж станем мы лечить тебя честь по чести, другого и не жди от нас. Ведь спокойно-невозмутимый их вид – профессиональная к тому же привычка – говорил ему об этом. И впридачу перо скрипело – дописывало строка за строкой историю его якобы болезни. Что ж такого можно было написать в ней, интересно?
«Ну вот, – подумалось ему, – и рост и подай, и вес, и что съел, а еще они такие вроде б симпатичные, приветливые донельзя, возятся со мной, мальчишкой, что почти влюбиться можно, если б был повзрослей, – подумалось ему с тоской невообразимой, когда жизнь сияла за окном, голубели небеса. – И зачем я дался только им? Меньше стало здесь других пациентов, что ль? Не понимаю…»
Наконец, врачебный приговор:
– Итак, сейчас прямо по коридору пойдешь в санпропускник, пройдешь там санобработку и ляжешь в палату.
Он еще переспросил для чего-то по инерции:
– Прямо? И потом – в палату? – будто не веря услышанным словам и цепляясь за соломинку.
– Да. И в палату. – Глаза, врача, предписавшей ему это, строги.
Все. Пройдена последняя черта. Оглушенный строгостью, Антон вышел опять в длинный коридор, но по пути в открытый впереди санпропускник (белели там висевшие простыни) легко уже сообразил, что если он дойдет прямо – в душ, то будет ему каюк. Так как уже выход наружу, к своим, будет надолго для него закрыт. «А вдруг расформируют часть – и я никого не увижу больше, домой не сразу попаду. Что тогда? – И он молниеносно решил: – Нет, если повернуть все же налево, к выходу, куда и иду, – то будет, очевидно, лучше и как раз вовремя, ибо никто поблизости не маячит, не мешает мне»… Для того, чтобы уйти вовсе незамеченным, он по стеночке, прижимаясь к ней, прошел и под окнами приемной до самого угла этого корпуса и затем еще уклонился в сторону. Так благополучно улепетнул из госпиталя. И даже оправдание перед собой находил: «Да и что я тушуюсь? Я ж ведь добровольно сюда явился. Сам. Никто не понуждал меня к тому…»





