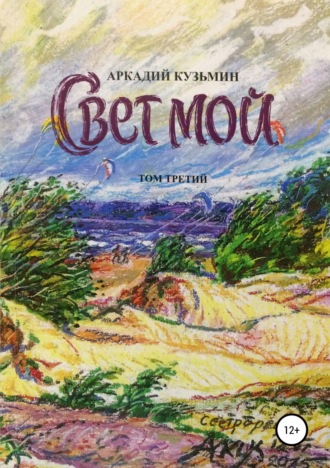
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
– Вот удумала что! Как пишет! – Люба задумалась на минутку. – Какая мать у тебя!
«А ты, Антон, мне не присылай покамест денег, воздержись. Спасибо вам за приглашение в гости. Может – там, в дальнейшем времени. Да ведь разве вырвусь от ребят: они без меня, как без глаз своих. Я им нужна. Когда собираюсь к дочкам в Москву, и то на три дня не могу. Ездила в октябрьский праздник, так Саша сам не работал накануне из-за меня. Непорядок. А к празднику всегда плохо с билетом. Так я в Новый год и не поехала уже. Деньги у меня есть. То ты пришлешь, то дочки дадут и купят мне чего нужно. У Веры дети уже большие. Костя в шестом классе, а Настя в четвертом классе учатся. И сама и Ваня ее работают. Квартира хорошая – две комнаты и кухня. С балконом. Только высоковато: на пятом этаже. Окна на солнце. И так кончаю…».
– Ну, какая мама у тебя! – повторила Люба с завистью, прослезившись.
– Вот и адрес Танин прислала на отдельной бумажке – теперь сестре напишу; напишу и маме, чтобы она ничего не присылала: ведь ей самой нужны деньги. Вон валенки купить – зима стоит…
– Да велики ль у ней сбережения? Рублей сто?
– Думаю, что и этого нет. Откуда? Нет, надо почаще посылать деньжат ей.
– Ты пошли-ка, пожалуйста, с получки этой.
– Да, обязательно пошлю.
– Таким матерям памятник нужно ставить. Она такую жизнь прожила, такое испытала – не приведи бог другим… Вас всех поставила на ноги – никто из вас не стал ни вором, ни убийцей, ни лентяем. Это ли не ее заслуга? Мне даже как-то стыдно перед нею…
– Это нам всем наука – чтобы не забывались, верно.
Прошло три дня.
Раз Люба взглянула на почтовый ящик – Антон только что вынул газеты из него – и воскликнула:
– А это, родимый, что?
– Ничего. Там вроде больше ничего нет.
– А это? – И она вытянула какую-то желтенькую плотную бумажку (в коридоре было темно), вынесла на свет. – Смотри – перевод!
– Ну, так и знал! – ахнул Антон, прочитав, – от мамы. Помнишь, о чем она писала?
– Не может быть, Антон! – Когда жена сердилась либо пугалась, она называла его по имени – как бы официально. – На сколько же?
– Семьдесят рублей. А я, обормот, и на то ее письмо еще не успел ответить, не предупредил, чтоб не высылала, – не ожидал, что она столь скоро это сделает…
– Вот так мама у тебя! – взволнованно говорила опять Люба. – Ну, поудивила нас. Ведь эти семьдесят рублей для нас меньше значат, чем для нее. Я не могу, как стыдно…
Антон заходил по комнате, хмурясь.
– Мы, давай, – предложила Люба, – доложим сюда до сотни и пошлем ей с благодарностью.
– Только нужно прежде написать деликатно как-то.
– Да, поблагодарить и объяснить, чтобы она не обиделась. Мы должны быть очень благодарны ей. Нет, я непременно своим эгоистам – родителям расскажу…
Они так и сделали.
VIII
В начале сентября Антон летел на юг в полупустом салоне лайнера (простояв за билетом у касс Аэрофлота – на Невском – более трех часов!). За блюдцами иллюминаторов синело небо и пятилось внизу хаотично-облачное заполярье.
Когда приземлились в Симферополе, Антон уже, ступив на трап, увидал ее, Любу, загорело-белозубую, смеющуюся; она, спеша сюда, к нему, казалась летящим лепестком на глянцевом летном поле. С белым астрами. Примчалась из Гурзуфа, где отдыхала уже полмесяца, на встречу с ним! И он с саквояжем побыстрей спускался с трапа навстречу ей. И вот наконец они пробились сквозь толпу прилетевших вместе с ним пассажиров – пробились друг к дружке, обнялись и, ничуть не стыдясь своих радостных чувств, закружились под крылом самолета, из кабины которого сверху смотрел на них, снисходительно улыбаясь, пилот, что успел заметить Антон.
Они ехали в троллейбусе, шедшем в Ялту; его сопровождал хорошо одетый молодой гид, который густым голосом всю длинную дорогу безумолку рассказывал в микрофон обо всех окрестностях, что утомило Любу.
– Я устала от него! – пожаловалась она. – Гудит в ушах!
И сразу оживилась, затрясла Антона в плечо:
– Море! Ты видишь: море! – Там, в просвете гор заголубела полоска.
– Что: вам в этот – гурзуфский – автобус? – спросила у них сама водительница троллейбуса (она заметила идущий навстречу автобус). – Ну, попробуем что-нибудь сделать. – И, притормозив, открыла дверцу. – Ну, бегите вперед!
– Спасибо! – прокричали они на бегу.
И автобус остановился перед ними, хотя остановки здесь не было: подобрал их! Да, самые добрые были крымские шоферы. Безотказно подвозили по пути. Только руку подними.
Как раз поднималась над морем сказочная луна. Туча разрезала ее пополам, и было впечатление такое, что это стоял прилуненный освещенный корабль.
Уютно-четко вырисовывались огни пионерского лагеря «Артек», близ которого – на отшибе – жили Одинцовы, служившие в лагере и принявшие вновь Кашиных, как отпускников-отдыхающих. Вполне радужно и гостеприимно.
Сам хозяин, сын писателя, отсидевшего в лагере сибирском, служил дл войны кулинаром-поваром на торговом судне; в ночь на 22 июня 1941 года оно пришвартовалось в Гамбурге, и немцы, интернировав весь экипаж, продержали его в лагерях до мая 1945 года. А затем Глеб Петрович еще полгода по наказу американских и французских военных отвечал за кормление бывших узников немецких концлагерей, отправляемых домой, в различные страны. Он неплохо знал польский, немецкий и французский языки, много читал и покупал свежевышедшие книги. Был словоохотлив, раскован. И здесь, вблизи лагерей «Артека» Кашиным все нравилось.
– Ах, какой отличный день! – восхищалась Люба, оседлав у самой воды большой белый камень – лежала на нем, раскинув руки, уже побронзевшая. В те минуты, как Антон выписывал акварельки черноморские.
– В августе обдаешь себя водой – столь душно было, а от тебя уже пар идет, валит, представляешь! – и Люба, спустившись с камня в воду, села в нее и сидела, ровно русалка, уставив на Антона русалочьи глаза. – Жуть! Нет, на следующий год я обязательно приеду сюда в сентябре – в сентябре мне нравится больше: все же нет такой жары.
Был штиль. Видимость дна поразительна. Представлялось, колыхалось само дно моря: ленивая волна накатывалась – оно поднималось, отступала – оно опускалось. И снова поднималось и опускалось везде неравномерно.
Пробегали «ракеты», поднимая водяную пыль, как завесу, и вода голубовато-зеленой как бы выворачивалась изнутри. И только голубели полосы, уже те, что поближе и пошире те, что вдали, там, где проплывали теплоходы, катера.
Близ Кашиных возник неказистый мужичонка с пляжной сумкой и палками и, придирчиво оглядевшись, порасчистил себе место. Затем занялся и строительством: заколотив в гальки палки, натянул на них простынь – укрытие от солнца. Вскоре пришла к нему насупленная толстуха – жена с поджатыми губами – принесла с собой на груди беленькую собачку с маленькой злющей мордочкой, посадила под этот тент. Стало понятно, для кого готовилось это обустройство: сидело тут животное – царствовало, нежилось. Жена на мужа пыхтела, сверкала глазками. Постоянно. А эта собачонка без устали визгливо обтявкивала всех. По волнолому весело бежали местные ребятишки, мелькая пятками, – облаяла их; дети, вылезая из воды, вымазались в песке, – облаяла и их; дама по соседству надела цветастые брючки – и ее обтявкала тоже. Никого не пропустила тишком.
А рядом ватага загорелых сорванцов волокла к морю темную лохматую собаку. Они скинули ее с волнолома, сама поныряли, поплыли вместе с ней к берегу. Вылезла она на камешки, бухнулась на низ и стала валяться, отряхиваться от воды. Счастливая, лежала подле них. После детвора бегала и командовала ей:
– Бежим, Кузя! Догоняй!
И она послушно носилась туда-сюда.
Девочка-трехлетка протянула ей сорванную травку, и та дважды жевала пучки. Кажется из-за доверия, приличия или просто хорошего воспитания.
Все тамошние собаки таковы, вечно, видишь, деловитой походкой спешат куда-нибудь или сопровождают кого-нибудь (даже строй пионеров), не то, что некоторые заезжие неженки, которые самой простой и невзрачной собачьей породы, а уже приучены по-человечески нежиться и брюзжать ни с чего на весь белый свет.
И вдруг все пляжники всполошились. Сорвался крик – седой мужчина взывал с валуна:
– Сюда! Скорей сюда! Кто хорошо умеет плавать? Тонет человек!
Но тонущего не видно было из-за ряда цементных блоков, защищавших берег от размыва. Оказалось же всего-навсего: молодого толстяка здесь, перед берегом, укачало на волнах, бьющих в каменную стенку, вдоль которой он плыл, и он испугался, не почувствовав опоры дня под ногами, вместо того, чтобы тотчас отплыть подальше от укачивающих волн и успокоиться.
Пловцы – добровольцы помогли ему выбраться на пляж.
И полз ленивый разговор среди пляжников.
– Что, вот этот?! Этот намудрил?!
– Да при всем желании он не смог бы утонуть. Ему, толстому, легче же держаться на воде, чем нам, перекладинам.
– А он и не тонул. Махал руками и кричал: «Лодку! Лодку сюда!»
– Да ты перевернись на спину – и все, лежи, отдыхай, сколько хочешь.
– А ты закричал бы в таком случае?
– Ни за что бы! Что я сумасшедший? Вблизи-то берега… Засмеют…
– Вот и я бы не закричала. Стыдно как-то…
В самоходных шлюпках проплывали пионеры, напевали что-то.
– Почему они поют? – спрашивала Люба.
– Там, посмотри, сидит пионервожатая и руководит ими, дирижирует, – объяснял Антон.
На солнце наползали облака. Становилось вроде прохладнее.
– Ой, накрой меня чем-нибудь со спины. – Она читала книгу.
Он накинул ей на плечи второе полотенце.
На третий день штормило. Волны глухо, сотрясая, бились о берег, раскидывали камни, валуны; с тополей обламывались ветки, сучья, они падали на крыши, на землю; полоскались в небе пирамидальные тополя, кипарисы, слышались предупреждения, усиленные по диктофону:
– Ввиду шторма на пляже находиться запрещается!
Увы, кроме ежедневного загорания и купания (а для Антона еще и писания акварелей натурных), для Кашиных тоже деть себя стало совершенно некуда. Люба поскучнела. В здешнем пионерском дворце, в котором некогда бывал среди знаменитостей и Шаляпин, не оказалось достойного для просмотра фильма, и не хотелось также тратить время больше, чем следует, на прочтение мемуаров и других толковых книг, стоявших на полках в доме Одинцовых. Так что Кашины, подобно всем отдыхающим, съездили на прогулку в Ялту. Там побродили с толпой вдоль по набережной, вроде бы соблюдая такой неписанный, но необходимый для отдыхающих моцион. С каких-то давних времен.
С моря дул немилостивый, жестокий ветер, водяные брызги залетали на набережную, обдавали прогуливавшихся отдыхающих. Еще ходили по магазинам. И стояли в очереди в ресторан.
– Представляете по всей Ялте тут у всех ресторанов перерыв с пяти до семи дня! – возмущалась женщина.
– Ну, хоть с газетами здесь нет проблем, – говорил мужчина. – В Симферополе их печатают. – И совал ей в руки газеты.
– Вот! Кому что! – посмеялась она.
Тут Люба радушно поздоровалась с тоже занявшей за нею очередь немолодой деловитой женщиной в темно-синем наряде.
– Здравствуйте! – Та быстро взглянула в нерешительности. – Что-то не припомню вас…
– На пляже в «Артеке» вы подходили к нам, раздетой… С коротким разговором. Жаловались на мигрень.
– А, всем говорю, – уже завелась с полуоборота узнанная, – Ну, скажите, что за хлипкая погода нынче! И сын ругается: он у меня художник, а дождь мешает ему писать этюды… Большой, а нужно опекать его постоянно.
– Пусть зонтик берет с собой, право, – сказала знающе Люба.
– Говорит: тяжело его таскать.
– Тогда пускай под навес или под крышу прячется…
– Нет, что вы хотите! Ему непременно нужно влезть куда-нибудь подальше, чтобы был особенный обзор или вид. Все обозреть ему надо. Все успеть… Выходного нет никогда. Ведь художники все с приветом.
– Да, да, я понимаю! – и Люба рассмеялась по-тихому.
– Да только не всегда это люди понимают, – со вздохом добавила женщина. – Все дается очень трудно в жизни, наверное: и сыну, и матери.
– И жене, – добавила Люба.
– Хорошо: у него пока этого добра нет, – сказала та.
И Люба откровенней рассмеялась. Видно, вовсе не случайно.
В обратный путь до Гурзуфа Кашины, накормленные и отчасти повеселевшие (от полусухого молдавского вина), отправились неразумно на рейсовом катере. Опрометчивость свою они, как и все пассажиры, почувствовали тотчас, едва выплыли за пределы порта – на морской простор. Бурое вздыбленное море ходило ходуном, и не было ни малейших признаков, как надеялись, на его какое-то успокоение под зудящим ветровым напором. Волны били, хлестали о борт, играя с суденышком с чрезвычайной силой; оно плясало на них и поминутно проваливалось, так что всем стало не только страшно, но и непосильно переносить его качку и пляску под ногами. Того и гляди, загремишь куда-то в тартарары.
Они мучительно еле-еле доплыли до Ботанического сада. Любу, несчастную, мутило и даже после того как они, качаясь, сошли здесь на берег. Вообще ее вестибулярный аппарат не отличался надежностью. В отличие от способности управлять собой Антона. Потому она сердилась на него из-за того, что позволил им поплыть в такую непогоду. Им было уже не до осмотра ботанических чудес. Они, не задерживаясь здесь, поднялись пеше до самого шоссе и вышли к автобусной остановке.
Люба раздосадовалась от такой невезучести.
– Чтоб я с тобой еще поехала – и не думай, не проси! – в очередной раз проявилась ее фобия – уверенность в том, что все несчастья, происходящие с ней, большие и малые, исходят точно от него – от кого ж еще? И такие незадачи она помнила долго – и вовсе не как случайность, а как явную злонамеренность против нее. Укоряла его при случае этим или другой неудачей по его же несомненно милости. Ведь он мог бы и предусмотреть последствия. Зачем же тогда он при ней!
И было непонятно, сколь всерьез предъявлялись ему такие претензии.
И все же в целости, хоть и потрепанные, добрались они до «Артека».
Между тем на втором этаже дома третьеклассница училась играть на пианино – наигрывала который день один и тот же мотив. Вымучивала. И еще пробовала голос.
Уже вновь наладилась южная погода. Установилась отличная видимость, прозрачность морской воды. Даже можно было видеть под слоем ее не только обросшие мхом камни, медуз и проплывающих серебристых рыбок, но и ползущую по дну моря свою собственную тень. Было очень приятно оттого, как вода обволакивала твое тело. Тарахтел катер, везущий пионеров к причалу. Кричал диктор:
– Парочка, вернитесь назад! Что вам – шестьдесят метров мало?
Люба поманила его знаками к себе. Сказала:
– Посади меня сюда! – И показала на валун. – Давай! Держи меня под пятую точку. Раз, два, – помедлила, передохнула, потом опять сосчитала: – Раз, два, три! – и на руках повисла на плите. – Теперь отпусти!
Но он боялся ее отпустить, видя, как дрожат ее руки: она могла бы ободраться, и слегка подтолкнул ее. Она шлепнулась в воду на живот и подбородок. И тут же заругалась на него, недовольная его боязнью, как он ни объяснял ей опасность в ее таком спрыгивании. И она опять направилась к месту, где хотела влезть на камень и спрыгнуть с него.
– Меня учил так забираться и прыгать брат Толя. А ты не понимаешь…
И вдруг:
– Я еще в первую весну нашего замужества говорила тебе, что нам нужно развестись.
– Так сделай! – не выдержал он. – Это же опять только слова.
– Ты только помоги мне разменять комнату.
– Можешь забрать ее себе.
– Что же, она не нужна тебе?
– Я как-нибудь устроюсь.
– Ну, хорошо.
– Это все авантюристичное.
– Но неужели тебе иногда не хочется попрыгать, пошуметь, покривляться?
– Не всегда. Не на потеху кому-то…
– Все-таки между нами море… – Она нашлась, что сказать… – море наших характеров.
– Пожалуй, правда, – согласился он, не споря.
Отношения между ними все разлаживались.
Люба, став его женой, любила его сообразно своему установившемуся взгляду на семейную жизнь: в ней она выступала, как главное действующее лицо, украшавшее эту жизнь; она всегда ждала чего-то от того, кого любила и видела рядом с собой что-то определенное интересное для нее, что никак не укладывалось не то, что в его представления о любви, а в реальность вещей. Но возмущаться ему было бесполезно, – он пробовал. Она была непробиваема. Все время сбивалась в разговоре на какие-то несущественные споры, на непонимание им ее каких-то устремлений, желаний. Говорила:
– И все же, Антон, мы с тобой разные. А сосуществуем вместе лишь благодаря тебе. Пока еще сосуществуем…
– Но я не тащу тебя насильно. Вижу, что не гож тебе, не мил… – не упрямился он. – Один чудик на причале у двух туристов спросил: «Вы откуда?» И ему старик ответил по-английски, что они из Америки. «А, Америка?! Ну, годится, хорошо!» – Мужик не был удивлен услышанным. Нисколько.
– Не смешно, – рассудила Люба.
– Очень грустно, – согласился Антон. – И ведь стоило шторму быть.
– Шторм тут ни при чем!
IX
Жизнь людскую не отсортируешь по какому-то шаблону, хотя она и типичной может быть у многих.
И у москвичей – Тани Кашиной и Кости Утехина, приехавшим сюда с дошкольницей Надей, тоже наблюдалась все дни разноголосица, непонимание друг друга. Словно это было такое болезненное состояние, близкое к критическому. И нужно было балансировать все время, чтобы не сорваться.
Таня, красивая жгучая брюнетка, в отличие от большинства пляжников, мало плавала и мало загорала; она плохо переносила жару, хотя таковой уже теперь и не было вовсе, и потому здесь, у плещущегося моря обыкновенно вязала, устроившись поудобней где-нибудь в тени. И невесело – удрученная чем-то – подытожила скоренько, не успев еще освоиться на отдыхе как следует:
– Нет, я больше никогда и ни за что не поеду отдыхать на юг. Точка!
– Отчего? – спросила Люба. – Голова болит?
– Заболит, если здесь я одна взрослая с двумя детьми: и за мужем нужен пригляд не меньше, если не больше, чем за дочкой, сколько не долби его, безголового. Вон залег медведь… И ухом не ведет.
– Он же, Танечка, сгорит! – всполошилась Люба. – Он заснул!
– Ничего ему не сделается, – успокоила Таня. – Раскалится докрасна, а утром снова весь порозовеет: свойство кожи у него такое.
Рядом Надя увлеченно рыла пещерку.
Между прочим Антону и Любе нравился этот мужиковатый великан Костя своей добродушностью, общительностью, подвижностью, хозяйственностью. Он обладал и певческим даром. Здесь много плавал, нырял, добывал продукты, заводил знакомства. Его же везде сразу узнавали и признавали за своего человека. Антон даже удивлялся тому, что Таня – невеликая росточком жена – командовала Костей, как хотела, к чему тот, однако, относился очень спокойно и покорно, принимая все как должное.
– Вы его не защищайте, – сказала Таня. – Тут же в первый день, как приехали и с вами спустились к морю, ему душно захотелось выкупаться. Ну, мы только что разошлись с вами после этого купания, как он и говорит: «Ох, и приятно же искупался! Ты себе не представляешь…» А я тут спохватилась, ахнула: «А где же моя сумка? Ты ее в руках держал…» «Да, у моря, на камнях оставил», – говорит, не веря себе. «Вот тебе и юг и отпуск!» – подумала я с ужасом: в моей сумочке лежали почти все наши деньги. Костя потом рассказывал, что я стояла белее белого камня. И вправду, со мной едва обморок не случился. Даже ноги подкосились, не держали меня. Страдаешь-то не за себя, а вот за нее, – кивнула она на дочь. – Ну, подхватился мой Костя – так понесся сверху, с кручи, куда мы уже поднялись, – наверное, за одну минуту скатился вниз, к пляжу. И как только не разбился о камни и не разодрался о кусты. И я, безумная, бросилась вслед за ним. А Надюша – за мной. Закричала: «Мама! Мама!» И ее не кинешь. До самого низа горы я с ней не успела добежать, как увидала, что твердо подымается нам навстречу Костя. И уже в себе, веселый. Мою черную сумочку несет. Размахивает ею, чтобы было мне видней издали. И я только после этого опомнилась. От сердца отлегло. Шутка ли! Все деньги отпускные… И он уже подошел. Повеселевший. Объяснил:
– Там москвички ее подобрали. Сидят себе и посмеиваются надо мной. Говорят: «Здесь, милый, москвичи не бросают своих вещей». Как хорошо, что попались честные люди!
И Люба так радовалась благополучному исходу семейных неурядиц у Утехиных, говорила о порядочности местных крымчан, никогда не запирающих своих дверей. Между тем Константин как примагничивал к себе всякие происшествия. Начиная с небольших.
Так, он, понабрав в Гурзуфе, кучу овощей и фруктов, нагрузившись ими, вышел уже из города и, остановившись для того, чтобы только переложить ношу поудобней с плеча на плечо, положил на парапет зеркальные очки. И двинулся дальше, позабыв про них. И, вспомнив о них, вернулся, когда их след уже простыл… Потом он приговаривал: «Ой, нужны очки?» «А что, тебе в магазине работать? – подзадоривала его Таня. – Ты в зоопарке служишь. Очки ведь тоже надо уметь носить». Что ж, он купил себе новые. Пришлось.
На пляже он посмотрелся в зеркальце, что имелось в жениной пудренице, и ту оставил на камне. Но о ней спохватились сразу.
Антон постоянно делал наброски и писал небольшие акварельки. Красками фирмы «Pelican», коробку которых ему, как и Махалову, давно подарила их друг – издательская выпускающая Римма, работавшая переводчицей на книжной международной выставке в Югославии. Он в коробку лишь добавил некоторые цвета ленинградской акварели.
Надя тоже устраивалась рядом с ним, чтобы рисовать. Бесконечно спрашивала:
– А это какой цвет, дядя Антоша?
– Оранжевый, – говорил он.
– А этот?
– Фиолетовый.
– А вот этот?
– Серый.
– Ты будешь сейчас рисовать?
– Если будет настроение.
– А что такое настроение?
– Когда хочешь чего-нибудь: что-то делать, купаться, петь…
– Я буду кипариса рисовать.
В очередной раз она, выкупавшись, вылезши из моря и улегшись на подстилку и накрывшись полотенцем, причитала, как умеют причитать малыши:
– Полотенце протухло, подмышками болит…
В непогодные дни Кашины вместе с Глебом Петровичем и его дочерью Настей (шестнадцатилетней) поднимались на Медведь-гору, восходили на Ай-Петри.
А перед отъездом москвичам вновь не повезло. В полдень Таня с дочкой ушли первыми с пляжа в обход, через тенистый парк, а Костя должен был, как наказала Таня, взять с собой все пляжные вещи. После обеда они к морю не пошли. Потом спали. А вечером, когда начало уже темнеть, она первой спохватилась, что им чего-то недостает… Костя все забыл у моря! Втроем они немедленно направились сюда, где днем загорали. Да только было здесь все пусто.
– Странно… – рассуждала и обескураженная Люба. – Местные, я ручаюсь, не возьмут, если только кто-то из отдыхающих… да и то… сейчас отдыхают тут все мамаши с малыми детками – кому эта пляжная сумка нужна? Я, например, не понимаю, как можно пользоваться чужой вещью? Скажем, полотенцем… А что в сумке-то было? Пойдем, еще поищем хорошенько…
– Три резиновых шапочки для купанья, Надин купальный костюм, надувной ребячий круг, – подробно перечислял Костя на ходу, пока они впятером шагали на пляж, полотенце, зонтик, но это отдельно… И зонтик все же жальче всего: как-никак я его подарил любимой жене на день рожденья… – И он, рослый, широкоплечий, неловко пытался обнять идущую рядом с ним Таню, совсем не расположенную в этот момент к его ласкам. Она искренне недоумевала и, сердясь на него, с ворчанием отталкивала его, и он виновато чесал в затылке:
– Еще пакет из-под фруктов, которые мы съели. Вроде бы и все.
– А очки, которые ты вторично купил? Уж, не забывай, голубчик, что теряешь.
– Да, и очки еще, –покорно согласился он. – Не везет мне. Ну, это Танечка, наживное… Я куплю тебе все, – пытался подластиться к ней. А она сердилась пуще:
– Отстань! И слушать тебя не хочу. До того противен.
На спуске им встретились полноватый мужчина, заведующий местной столовой, и женщина.
– Здравствуй, Степан. – Константин остановил его, подал руку.
– Здравствуй, Константин! – Сказал тот. Что такой печальный? В воскресенье, когда в горы ездили, ты был веселее.
– Слушай, тебе в столовую случайно не приносили сумку?
– Какую? – спросил Степан.
– Мою. Белую. В красных крапинках. Я, понимаешь, по-рассеянности оставил ее на пляже. Жена вот не любит…
– Ты?! – Мужчина стукнул его ладонью по могучей спине, раскатисто засмеялся, и только. И дальше пошел своей дорогой.
– Я-то не знаю, – участливо отозвалась его полноватая попутчица. – В столовой я нынче не работаю. А завтра спрошу обязательно.
– Там, главное, был зонтик с такой длинной модной металлической ручкой, – оправдывался Костя. – Десять рублей стоит.
– Все! – Сказала Таня твердо. – Ты завтра же поедешь в Симферополь покупать билеты на обратную дорогу. Разве это отдых?
И что же было в результате?
Они битых два часа находились на том же самом месте, что и накануне; однако, как ни старались тщательно все обыскать, сумка все не находилась.
И вдруг Таня громко и радостно вскрикнула:
– Ой, сюда, сюда! Мы все плохие сыщики! Сумка-то нашлась!
– Где? Где? – искатели обступили ее, как фокусника.
– Да тут, где мы сидели. Видите: закопана в гальку, только штырек зонтика торчит! Для ориентации. Для нас, балбесов.
– Как же ты увидела?
– Я не увидела, а почувствовала, когда пересела поудобней, что что-то острое колет мне в бедро… Посмотрела – это зонтик мой… – По ней было ясно видно, что ее сильнее, чем даже радовало, удивляло то, что столь необъяснимо находилось потерянное.
– Странно, что у тебя сразу же явилась самая правильная версия, – сказала Антону Люба: – Ты стал искать пропажу под камнями. Как Шерлок Холмс… Нет, это только для рассказа… Прелесть… Я ведь верила…
– Если бы не со мной такое было, – я бы не поверила… И все-таки я больше не поеду, не поеду отдыхать на юг. Ты, Любочка, уж не уговаривай меня!
– Ну, зайка, ты же все нашла разумно, – ластился к ней Костя. – Посидим еще.
– Ты увертлив, что твой пройдоха «Партизан», – попрекнула Таня. – Тебя не переговоришь.
– О, друзья, теперь я вас повеселю, послушайте; да если бы про это книжку написать, Антон, было бы не оторваться от нее, – воодушевился Костя. – Его похождения – первейший класс.
– Что: у мужика фамилия такая… пистолетная? – спросила Люба с интересом.
– Нет, эта кличка закрепилась за Петром. За его пройдошливость. И никто уже – ни приятели, ни соседи – его имени не помнит. Партизан да Партизан. И он откликается на прозвище. Он тоже мотыльщик, как и я; ловит по бассейнам, по притокам эту комариную приплодь – червячков для прикорма аквариумных рыбок. По существующим нормативам и без плана – для себя. Мотается также, как и я, повсюду. Вплоть до Крыма. Со снаряжением, с амуницией. Все – накладно. Очень.
– Антон мне рассказывал примерно про это, – сочувственно сказала Люба. – Представляю. Сверхтяжелая у вас работа.
– Да еще приходится играть в прятки с инспекторами рыбнадзора. Они у нас в области (в Клину) сами для себя создали АО общество. Указали районы, где можно ловить мотыль; выдавали лицензию на ловлю такую, что в течение раза улов не должен превышать, скажем, пять килограмм; а за превышение – штраф тысячный. Это-то – за то, то мотыль ловится в грязных протоках, речках. Ловко они, жулье, устроились. Штраф-то – в пользу их, инспекторов; они-то за счет этого понастроили себе особняков, понакупали дорогих иномарок. Не жизнь, а малина.
Так вот «Партизан» ночью ловил в Истре мотыль для продажи. Надевал зимой белый халат. Инспектора на автомашинах. Вроде бы засекли его. А он – под белый куст. Накрылся халатом – и нет его. Потом (они теряют его из виду) он на плоту переправляется на другой берег. Они ищут его здесь, на этом берегу, а он там, бьет себе по заднице и приговаривает: «Ну, что, ищейки, поймали, накрыли? Вот вам!..»
Плот у нас – три на два метра; под ним – камеры автомобильные – для непотопляемости. Диск автомобильный – для грузила. Доску приподнял, подтянул груз – можно плыть, шестом отталкиваться. Рыбацкие костюмы уже привозят с Запада. Раньше сами клеили – приклеивали сапоги к костюму.
Вот инспектор – прыг на плот, чтобы схватить «Партизана». Тот шестом оттолкнулся, и плот под инспектором в булю (ил, грязь) стал зарываться. Инспектор воды в валенки (дело было зимой) стал набирать. Грозит: «Ну, погоди! Я до тебя доберусь!» Но он уже по пояс в воде. Уплыл «Партизан» на другой берег. Инспектора подобрала машина.
– Как его фамилия?
– Не знаем. «Партизан» и есть «Партизан».
Второй мотыльщик (с третьего этажа) сигал от рыбнадзора – милиции. Третий – валялся: «Не пойду в милицию! Берите мою снасть!»
Милиция его водопроводные трубы взяла (на ней сеть), пронесла метра два. Бросила: «На кой черт нам твоя снасть! Нам ты сам нужен!»
А один водолаз собрался на мотыля. Приготовил снасть. Оделся как следует. Сидит на диване. Жена ему: «Ну, ты коли собрался, так иди!» Толкнула его рукой. А он уже отошел в мир иной. И ведь никогда не жаловался на нездоровье.
Ну, не стоит о грустном. Есть и веселое.
«Партизан» раз пошел к другу на праздник. Там стало нужно сходить еще за дополнительной бутылкой. А он надел лучший костюм, галстук, лучшие ботинки. Денег взял. Все, как нужно. А тут на улице его подцепила дама. Пошли они с ней в бытовку (от строительства). Выпили, переспали. А наутро он проснулся – хвать около себя: одежды нет! Ни обуви. Даже носки эта дамочка забрала. Здесь он нашел какие-то пожарные бутсы пятидесятого размера (а сам-то был худенький), робу пожарную, каску. Выбежал на улицу, уговорил таксиста подвезти его. Говорит: «Такие дела приключились, довези, сейчас деньги вынесу». Подъезжает домой (первый этаж), звонит. Открывает жена: «Ты откуда?» «Что, не видишь: я с работы!» Быстренько робу и обувь выбросил и лег спать. Проспавшись, жена говорит: «Странный какой-то сон приснился мне, или это было что-то еще. Будто был ты пожарником, приходил с работы…» – «Ну, вечно тебе что-то несусветное грезится!… О-о, а где же мой костюм, ботинки? Что, нас кто-то ограбил ночью? Выходит так. Хорошо, что еще документы не взяли…»
У «Партизана» была любовница. Жила рядом в пятиэтажке на пятом этаже. Бабы, которые посиживали на скамеечке, однажды засекли его и говорят его жене: «Марина, твой-то у Маруськи сейчас. Голого его видели». Та – на пятый этаж. Звонит: «Маруся, открой! Говорят, что мой мужик у тебя…» «Что ты, проверь!» А «Партизан» свои вещички в охапку и гардероб залез, за платья любовницы. Марина вошла, туда-сюда, под кровать, в шкаф заглянула; видит: одни платья висят, зачем ей рыться? Пока она тут глаголила, он, полуголый, прополз в другую комнату, выскочил на лестницу и, минуя бдительных баб, зашел с обратной стороны дома, открыл окно и через него пробрался в квартиру, забрался в постель и лежит – вроде спит. Жена пришла: «О-о, а ты тут?…» – «А где ж я? Видишь: сплю…» – «А женщины сказали, что ты к Маруське побежал голый.» – «Ну, тебе вечно кажется невесть что или снится. Бабы наговорят – ты больше слушай.»





