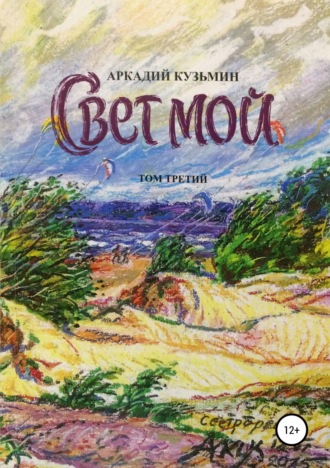
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
Залиловел вечер. Пугающе шелестели на ветру высокие, разросшиеся заросли акаций, окаймлявшие дорожки, когда Антон заспешил в большой сарай за углем; нужно было протопить камин, чтобы нагреть помещение, в котором они работали. Он, насилу столкнув примерзшие к наледи ворота, проник в глубокий неподвижный мрак сарая. Наощупь лихорадочно накидал в плетеную корзину гладкие брикетовые плитки еще немецкого завоза. Да еле выволок ее наружу, притащил в отдел. Только принесенного угля могло не хватить на топку, и он поневоле вновь скользнул в сарай за углем. Настороженно в синей темноте приглядывался ко всему…
Зато после он сидел подле топившегося зеленого камина и чувствовал на лице и руках теплое дыхание огня.
С мороза впорхнула к ним в отдел капитан-медик Цветкова, миловидная женщина со спокойными светлыми глазами и спокойными, полными обаяния и достоинства, движениями. Она зашла не одна – вместе с провожатым, щеголеватым капитаном Шелег, начальником автохозяйства. К его характеру – несколько беспокойному – Кашин не мог привыкнуть, а потому в его обществе испытывал некоторое неудобство и беспокойство. Цветкова, завидев весело горевший камин, сразу от дверей подошла сюда; она распахнула плотный теплый полушубок и, подсев к Антону на скамейку, протянула вперед – к живому огню – тонкие гибкие руки, и расправляя их, застывшие на холоде, пошевелила пальцами. Доверительно улыбнулась ему, отчего на ее припухловатых щеках обозначились ямочки-двойники, ровно у девочки-подростка, и заговорила с ним. Сопровождавший капитан не перебивал ее. Он явно ухаживал за нею, или, может пытался ухаживать. Подобно другим офицерам.
– А-а, почитываешь тут роман? Небось, начал с середины? Разве нет? Признайся уж, Антон, – со свойственной ей мягкостью сказала ему Цветкова. – А что именно? Я пока около тебя, у печечки, погреюсь чуточку. Зябну на морозе – прямо дикий ужас. Сущая мерзлячка.
Кашин обычно тушевался перед ней слегка, не знал, о чем таком с ней говорить, вернее, как, чтобы не сфальшивить.
Она с самого первого раза их знакомства, как увидела его в военной части (полтора года назад), шагнула прямехонько к нему и, с ласковостью коснувшись ладонью его лица, сказала вслух при всех: «Славный мальчишечка!» И так навсегда определилось его особенное отношение к ней – неизменно восхищенное, благородное. Вероятно потому она всегда улыбалась ему, что своему хорошему знакомому.
Молча, чуть смутившись, он приблизил к ней страницу книги, которую она ж сама дала ему почитать, – с рассказом Льва Толстого про любовь полячки Альбины.
С привычностью искушенного читателя Цветкова, скользнув взглядом по истрепанным книжным страницам, внимательно опять поглядела на Антона, чем привела его в еще большее смущение.
– Значит, повесть о поляках? Их страданиях? – Старший лейтенант вздохнула.
Привалившись к камину грудью и разогреваясь, Шелег поводил ладонями по глянцево-зеленоватым кафельным плиткам, и, в свою очередь, подступил к Кашину без всяких околичностей – спросил напрямик:
– Ну, ты-то как, Антон, надумал или нет?
– А что, товарищ капитан?.. – Он в сильнейшем замешательстве глядел на него, должно быть, глуповато, – сразу не понял, о чем тот спрашивал его.
– Да, учиться… в школе… на художника… Или ты забыл наш разговор? Я ведь предлагал тебе…
И Кашин простодушно кивнул ему – вполне утвердительно, витая в данную минуту в своих мыслях где-то далеко-далеко.
– Вот напрасно, скажу тебе, Антон: нужно время не терять – золотые его дни, заспешил Шелег высказаться. – Ведь прекрасная художественная школа есть и в Одессе. Если ты не хочешь поехать в Москву, чтобы там учиться, поезжай, пожалуйста, в Одессу. Приглашаю ведь… Поживешь, как родной сын, у моей жены Фроси; у нас двое детей, мальчишек, так ты третьим в семье будешь, самым старшим.
Когда Антон отказывался поехать в Москву для того, чтобы получить образование художника, этого, хоть убей, не было. С чего капитан взял? Должно быть, у него такая странная манера: как бы отвечать самому себе на свои же собственные умозаключения.
– Разве есть в Одессе? – засопротивлялся Антон слабо, досадуя на себя за то, что оказался втянутым в никчемный и бессмысленный разговор в присутствии Цветковой. Нет, никоим образом он не усомнился в честности и искренности намерений капитана, но ему было бы трудно, если бы он и захотел принять честь по чести его предложение в обмен на свою бесспорную свободу. Ему в высшей степени было неловко отказаться от услуги капитана – и в то же время жаль его за что-то, точно опрометчиво он своим отказом лишал его какой-то человеческой радости. И все-таки Антона сильней всего останавливало чувство долга перед сослуживцами, мнением и отношением которых он очень дорожил. А поэтому он и ни за что не мог принять во внимание очень разумные, казалось бы, доводы, капитана. – Но в Одессе школа еще вряд ли действует: город-то совсем недавно освободили… Все в нем, наверное, разрушено…
– Великая оказия: напишу домой и попрошу узнать. Сегодня же!
– Ну, напишите, – согласился Антон. – Только я, наверное, все же не смогу…
– Что не сможешь?
– Да поехать уж туда.
– Опять двадцать пять! – И Шелег, досадливо морщась, отвернулся от него. Затем он, откачнувшись от камина, размеренно двинулся вглубь гостиной; там за столом, весело споря, играли сержанты, заядлые шахматисты – Коржев и Юхченко. Они переговаривались меж собой по ходу игры:
– Что мне ставить коня, когда у меня других фигур еще достаточно. Вот так!
– Не согласен. Я ничью предлагаю.
– Давай! Давай! Испугался?
– А чем ты угрожаешь? Подскажи…
– Как-никак у меня две лишние пешки…
– Ишь ты! Значит, так?
– Я не могу так играть уже. Атака у меня иссякла.
– Отлично! Но я считаю, что тебя еще надо погонять.
– Я в гробу все это видел.
Сверху, с антресолей, по деревянной лестнице скатился, что бильярдный шар, майор Рисс в накинутой на плечи шинели. На мгновение остановившись внизу, он повертел туда-сюда круглой головой и отрывисто велел Кашину сходить к шоферам и передать солдату Шарову приказ о том, чтобы он завтра утром выехал на новое место, за Острув-Мазовецкий.
Шоферы размещались примерно в километре от усадьбы.
– Но ты, кажется, занят, брат? – сощурился он на Цветкову, подмигнув. – Тогда извини. – И резко повернулся, как на шарнирах, к капитану Шелег, опять оказавшемуся тут как тут.
– Пусть, товарищ майор, и Антон поедет вместе с ним. Все-таки вдвоем будет как-то понадежнее. Больше послать некого. А нужно. – Шелег, видимо, не мог уняться: все хотел определить Антона куда-нибудь! И при этом он исходил, возможно, из самых искренних своих желаний.
– Нет, серьезно, капитан! Вы не обижайте моего подопечного! Да! – Майор по своему обыкновению мерил короткими шажками гостиную и вздыхал, сосредоточенно обдумывая что-то: он, расхаживая взад-вперед, оценивающе взглянул на Антона, привставшего с места и ждавшего дальнейших его распоряжений, и он понял, главное то, что тот понял, как он любит его.
– Что ж, он отказался от суворовского училища и не хочет поступать в художественную школу, сколько я ни предлагаю ему, – ну и пусть себе возится на службе, а? – полушутя-полувсерьез говорил ему Шелег.
– Прав, капитан; ты прав: непорядок – Майор хмурился, сдвинув на переносице жесткие, торчащие пучком, брови. Развернулся к Антону корпусом. И уже с сопутствующими строгими наставлениями разрешил ему поехать тоже. Для подготовки места очередной стоянки.
А минутой позже по-старчески сипло и как-то ненатурально рассмеялся: Цветкова во всеуслышание призналась, что боится шума ветра в деревьях, и попутно попросила Антона (а не Шелег) проводить ее до другой парадной особняка. Всего-то!
Порывистый ветер и вправду дико свистел в вышине, над ними, раскачивал султаны елей, и Кашин, проводив Цветкову, давшую ему последние наставления – одеться завтра потеплее, под этот свист вприпрыжку пустился в ночь.
Очутившись в одном из длинных бараков, в котором поразительно бедно, тесно и жалко ютились местные поляки, и поднявшись с их помощью (они ему посветили) по приставной лестнице на чердак, который занимали шоферы, он застал Шарова, прослывшего молчальником, в необычной роли рассказчика. Здесь так же тускловато, как и внизу – у поляков, светила керосиновая лампа возле горящей печурки, а шоферы, рассевшись кружком кто на чем, трапезничали. Он тоже подсел к ним, но, к сожалению, Шаров уже кончил свой рассказ, улыбаясь грустно.
Находясь под впечатлением от чтения повести Льва Толстого «За что?» и теперь еще от посещения этого захудалого жилища, испуганно теснившихся в нем поляков с детьми, Антон при возвращении в ночной особняк всю дорогу, не переставая думал о причинах общих людских мучений – отчего они? Отчего насилие злобствует, бесчинствует над отдельной личностью и над целыми народами? Отчего же скверненькие люди испокон веков жаждут так уничтожения себе подобных и охотно участвуют в убийствах? Неужели, думал он, и теперь, будучи освобожденными, поляки жмутся потому в плохих, малопригодных для жилья бараках и не занимают опустевшее, например, имение, что настолько напуганы могущей быть расправой со стороны закоренелых бандитов?
XIV
Уже голубело позднее зимнее утро, Кашин с надеждой еще дальше почитать в пути начатую накануне книгу засел в кабину старой трехтонки, груженой железными печками-времянками и трубами к ним, тридцатипятилетнего Матвея Шарова, божьего человека, как уважительно-почтительно его величали товарищи, – и грузовик вынес их на застыло-звонкую дорогу.
Все-таки Кашину везло на исключительных в доброте своей людей. Несмотря на их естественно-простительные слабости в характере, он привязывался к ним. А особенно тянулся к таким великим работягам, каким был Матвей Шаров с его открытостью души.
И сегодня, виделось ему, было ласково-серьезное выражение на его крупном загрубелом лице и неторопливо-неуклюжи, как и весь он сам, движения его сильных голых рук, словно не боящихся несильного прибалтийского мороза. Он жил с утра в своем обычном душевном равновесии, а не то, что был просто в расположении к Антону, своему младшему товарищу, – жил как будто в отблеске своего обычного настроения. Антон, едва обменявшись с ним несколькими малозначащими словами, снова почувствовал себя его единомышленником, и ему стало на душе легко и радостно.
Было легко потому, что он, юноша, завсегда откровенничал, доверяя Шарову даже свои личные планы, и что солдат отвечал такой же взаимностью; стало быть, платил ему той же симпатией, не делая скидки на его юный возраст. А интересно с ним было потому, что он, бывалый человек, превосходно знавший свое шоферское искусство, успел в жизни испытать немалое. Он как бы уже сросся со своей трехтонкой – она была в его руках тоже неустанным работягой, выполнявшим самую что ни есть черную и тяжелую работу, очень нужную для всех.
Когда они поехали по дороге с относительно небольшим движением автомашин, Антон вслух прочитал – Шаров попросил – несколько страниц повести. Однако изрядно-таки машина тряслась, из-за чего книжные строчки сильно мельтешили перед глазами, и еще тарахтение мотора заглушало голос Антона (нужно было напрягать его). И, устав от чтения, он отдыхал. Наслаждался видом ослепительно чистого рассыпчатого снега, лежавшего повсюду на равнине с перелесками, с селениями; на нем нежно голубели тени, следы и всякие углубления; темнели седые обыневшие деревья, кусты и высокая устоявшая трава, которая все еще кропила по снежному наносу семенами. Грузовик мчался ходко. Лишь веселое красное солнце поспевало за ним – низко-низко плыло в сплошном густом седом тумане.
– Слушай, Антон! – взволнованно проговорил Шаров. – У меня ведь была своя история, когда я в Одессе жил…
– Шелег, капитан, меня туда сватает – в художественную школу, – поделился Антон. – Говорит: езжай – там не пропадешь.
– Вот что, – Шаров загорелся вдруг, его глаза заблестели, – мы давай-ка после войны, когда нас распустят по домам, закатимся туда вместе, а? Вдвоем нам было б очень кстати… У меня-то там было что…
– Что, любовь? – спросил Антон, всерьез, как взрослый.
Он усмехнулся как-то криво, горько-сожалеючи:
– Эта моя любовь окончилась быстро. Вернее, мы разошлись друг с другом после первого же вечера. Я к ней не вернулся.
– Отчего ж, Матвей? Если так жалеешь…
– От трусости, Антоша. От своей необразованности, бескультурья.
– Это именно о ней ты, Матвей, помянул вчера? – Его признание Антона весьма заинтересовало – еще и потому, что он говорил о ней с какой-то особенной печалью.
– Да, была видать, чудная, душевная на редкость женщина. Я не хвалился никому о встрече с ней. Боже упаси! А она, Сима, и теперь светится в моих глазах, хожу ли я, еду ли в кабине за рулем, сплю ли где. У меня ведь никого почти из родных, кроме тетки, уже не было, когда я нечаянно встретился с Симой. И что касается женщин, то я, молодой, таким робким был в обращении с ними. Мне казалось, что они – существа высшего порядка, ангелы небесные: я стеснялся неуклюжести своей, не смел подойти к ним запросто… А ведь есть такие-то ребята удальцы…
Слушать взрослых собеседников Антон любил – их, пусть, не сногсшибательные, незатейливые, но по обыкновениям колоритные рассказы о себе, разные истории и приключения занимали его интерес не меньше любых книжек. Таким образом для него лучше открывались сердца его старших друзей.
Матвей говорил медленно, он как бы просеивал все через сито своей перекатно-нескладной судьбы.
– В молодости, знаешь, я мечтал стать летчиком, – признался он с усмешкой. – Авиацией тогда все парни бредили. Но туда, выходит, мне была заказана дорога: сначала по сердцу прошел, да по зрению не пропустили (хотя вижу-то неплохо); потом – наоборот дали мне поворот. В общем, знай, сверчок, свой шестой. Я смирился со своей долей. И уже подался в шоферы. Прикинул так и сяк: чем не специальность. Верно?
– Ну, конечно же! – сказал Антон с горячностью.
– Это даже здорово: сидеть за рулем, водить машину, хоть работа и накладная, требует внимание. На это еще подбил меня один мой приятель (завелся у меня). Ну, стал я учиться на шофера. Курсы были. Сесть за руль, однако, не успел: взяли меня на действительную службу в армию. Пообвыкся, знаешь, малость там среди однолеток. И свободно было. Гуляй сколько хочешь, только к отбою в свою часть приходи, чтобы при проверке тебя досчитались. Всякое бывало со мной. Кое-что вспомнить теперь совестно. Потом появилась у меня одна зазноба – Клава: я сошелся близко с ней, наведывался к ней. Она-то на язык была огонь, дай бог. Из-за этого в последние дни я перестал к ней заглядывать; не то, что бывало прежде. Но, стало быть, снова пожалел ее, вертушку, – как демобилизовался, так и остался в ее родном городе Николаеве, у нее под боком, под присмотром. У знакомого, Петрухи, поселился. Пошел на завод работать. Разнорабочим. И уж вроде стало для меня очень хорошо, что я по-прежнему к ней захаживал. Глядишь, она то винца тебе припасет – даст, то поджарит вкусненькое что-нибудь на сковородке – веселее как-то жить холостяку (я не решался на женитьбу с Клавой, и такая моя роль ее вполне, знать, устраивала). Зажил я в своей удовольствие, новых товарищей приобрел. А из-за них вконец испортились мои дела с Клавкой. Она, знай, свое толкла. По-сорочьи. И мамашенька ее, – голова, что кулачок, а ухватистая и крутая по части денег – ужасть: не упускала ничего.
И говорит между прочим:
– Эва, прискакал! Больно ты нужен нам! Свет в окошке. Ты, Матвей, не столько пьяный, сколько наглый; лезешь, будто генерал заслуженный. Мы и так замучавши с тобой, как собаки. Вот откель расходы образуются: щелк, щелк, щелк…
Во, артистки сущие! Совсем ошалели бабы. Рубль свой оплачут. И скандалили мерзко. Совсем не в счет им то, что я приносил; это так – бог послал по милости. Так что через пару лет после демобилизации решил я мотать отсюда, дернуть подобру-поздорову, покуда вконец не пропал у них. С ума сойти можно, когда с ножом к горлу пристают, и не то сделаешь и скажешь. А я не привык к плохому обращению. Все внутри меня взвивается само собой. Гордость подымается…
Махнуть в Одессу, славный город, вознамерился. Но вот задачка: как уйти с работы? Знаешь, ведь существовало положение (или закон), что работников не отпускали с предприятий – могли, в лучшем случае, только выгнать. Прогулять день-два? Могли б судить. Пораскинул я своим умишком – и удумал (что?) фонарь «летучая мышь» украсть, так, чтоб меня заметили, схватили, выгнали за воровство. Долго, между прочим, не решался красть фонарь, духу не хватало. Было очень стыдно, непохоже на меня. Но потом все-таки украл. Меня и, точно выгнали с завода. С происшествием таким. И подался я в Одессу.
Потом моя Клавка хорошо определилась замужем. И зла никакого не имела на меня. Проезжал я однажды мимо ее дома, так что видел ее… – Матвей на минуту замолчал, свободной правой рукой достал из кармана фуфайки бычок самокрутки, зажигалку, одной же рукой зажег зажигалку, и, поднеся пламенек ко рту с папиросой, жадно затянулся табачным дымом.
XV
– Сколько ж лет тебе тогда было? – спросил Антон, дождавшись этого момента.
– Ой, Антон, молчи! Салаженком еще был. Неопытным. Хоть и стукнуло мне полных двадцать пять. – Он опять затянулся цыгаркой и продолжал. Все время глядя вперед, на дорогу, притормаживая или убыстряя бег грузовика: – Долго ли, коротко ли – в Одессе стал водить машину. Но главное, о чем хочу рассказать я, – здесь как-то повстречал малознакомого мне инженера, Сашку, с которым где-то мы уже встречались. Пьющий, он, конечно ж, сразу поволок меня в дешевенький кабак, где можно пить до бесконечности. В те годы никто не возбранял: бери пиво, бери водку – и пей, сколько влезет. До упаду. Инженер уж до меня был хорош. Язык заплетался у него. Но ему все было мало: бойкий был. Ну, еще выпил со мной. Все выламывался передо мной, салагой, поучал меня. Сиплым, пропитым голосом. Как же, он, инженер, почти вдвое старше меня… Он знал в жизни смысл.
И тут-то я узрел ее, мои глаза навострились на нее: она слепила своим невиданным полосатым голубым платьем и чудесной улыбкой. Она одиноко притулилась в уголке за столиком и оттуда будто половчей приглядывалась к нам, я каждый раз ловил и перехватывал ее взгляд устремленный.
Я говорил тебе: ее Симой звали. Она исключительно была сложена. Не девушка, а загляденье одно. Это самое я увидел, когда со своим приятелем сиповатым заказывали еще раз у стойки (мне уж стало все равно, напьется он или не напьется) водку. Она тут подошла к нам. Обратилась вежливо, культурно:
– Можно мне маленько с вами посидеть? Одной – невозможно скучно…
Инженер – волк стреляный – вмиг почуял дичь. Он, известно, бывший чернофлотец, женский сердцеед. Хоть и накачался водки и несет околесицу, а соображает стройно, точно. Не собьешь. Она направилась обратно к своему столику. За кружкой или стопкой (уж не помню). А он подмигнул мне, просипел: «Годится баба!» Сама она была блондинка. Смуглая, с загаром. Очень интересная. И одетая со вкусом, не пестро.
Ну, подсела она ловко к нам за столик, малость посидела, поболтала с нами. То да се. А держалась, знаешь, прямо царственно. Видно было сразу: цену себе знала. И, главное, оберегала меня всячески – прижимала, чтоб я сдуру тоже не напился. Это я тотчас же понял, все сообразил… и старался ее слушаться беспрекословно, что мальчишка, – она взяла меня чем-то… Но ей, верно, уже наскучило здесь; она вдруг поднялась с места, предложила.
– А теперь, мои кавалеры хорошие, если вы не против, айда кой-куда, где поинтереснее, я вас угощу. – И величаво встала, поплыла вон из нашей забегаловки прокуренной.
Мы с инженером, больше удивленные, чем обрадованные, пустились вслед за ней. Минут, верно, двадцать шли втроем. И затем вкатились в настоящий ресторанчик – со швейцаром, с зеркалами, с позолотой, с музыкой удалой, с приглушенным чадом голосов. Опять плюхнулись за стол. Было здесь и по публике культурней. Несравненно. Инженер со знанием дела снял с себя пиджак, на стул повесил. Как уселись, Сима извлекла отсюда, – Матвей рукой с папиросой показал на грудь свою, – пачку денег; столько денег сроду я еще не видывал ни у кого, не видывал и после – никогда.
– Ну, соколики, что пить-то будете? – спросила запросто.
Странный чад стоял в моей голове. И какой-то радостный вопрос мучил меня беспрестанно – пытался, знаешь, разрешить его с самим собой. Обо всем же остальном не думалось, или мало думалось: все отошло на задний план, как измельчалось, поуменьшилось. А вот у инженера моего глаза повылезли на лоб, только он увидел кучу денег; язык даже заплетался у него, но он все-таки сипло бормотал, жадный до питья:
– Я – коньяк… Я – коньяк… Давай коньяк… – И еще кулаком по столу стукнул. Решительно.
Сима налила ему; он выпил рюмку, среднюю величиной, – еще подлила ему. Кажется, был уже десятый час вечера. И я испытывал кое-какое неудобство: ведь как-никак старший товарищ был со мной, а он подклинивал ее и косящими глазами незаметно для нее подмигивал мне – показывал и просил меня, чтоб я не мешал ему сейчас.
Ну, все кончилось тем, что инженер налакался и еле стоял, бледный, а меня еще в бок толкал снова: мол, ступай домой, я сам провожу ее. А Сима меня держала около себя, не отпускала ни на шаг. Да и я уже не простофиля будто. Подкатил нужный нам трамвай. И при посадке она вдруг поддала Сашу задницей. Тот упал на мостовую, а трамвай уже пошел по улице. «Зачем она так?» – подумал только я. – Матвей опять пыхнул папиросой, глядя вперед, на дорогу. – Что ж ты думаешь, остановки через три-четыре она высадила меня из трамвая, сама тоже вышла. Повела меня куда-то. Я спросил:
– Ну, домой? – А ведь весь дрожал. И о брошенном товарище уже не думал.
– Да, Матвеюшка, ко мне, – сказала она опять ласково. – Глупенький, а чего же ты боишься – так дрожишь?
– Я вел ее под ручку, все, как полагается, и она учуяла.
– Да нет, что-то зябко мне. – И мне уже казалось, что у меня у самого аж пятки отчего-то красные, а лицо так горит…
Мы брели к ней глухими городскими районами. Надо сказать, что порой боялись мы, парни, простого финского ножа из-за угла. Ведь в открытую врага, шпану не боишься никогда; страшно, если кокнут тебя в спину. Я поэтому квартирный теткин ключ здоровый носил в кармане наготове. Мало ли что. Мог и пригодиться.
В сквере я остановился, чтобы оглядеться все же.
– Нет, я не умею целоваться в подворотнях, – объявила мне Сима. – Воспитание не то, не взыщи.
Наконец, зашли в какой-то обомшелый дом. На второй этаж поднялись. И она открыла дверь входную и меня впустила в комнату. И всерьез проговорила:
– Поскольку, видимо, ты наслышан, что любовники подчас сигают с этажей… можешь осмотреть все, чтобы убедиться в том, что я здесь нигде никого не прячу. Заходи! Вот тебе и кухня, ванная… Взгляни!
Снимала она у кого-то, знать, отдельную приличную квартирку.
– Пожалуйста, воды мне принеси, – попросил я гнусно.
Пошла она за водой на кухню, а я тем временем – шасть под кровать и в шкаф – действительно, никто не прячется. Но подумал, что в соседней, может, комнате…
Как в романе диком, да? Ты не смейся. Собственно, знаешь, дальнейшее нельзя тебе рассказывать: ты еще молод, чтобы эти вещи знать, – сказал он, и показалось Антону, что он слегка покраснел.
Назавтра мне новое свидание она назначила. И что ж ты думаешь – я герой? Ничуть не бывало. Сдрейфил: не пришел я. Засомневался кое в чем. В том, что, конечно же, подхватил заразу… К врачу подался виновато. Будь что будет. Пропадать, так уж с музыкой, как говорится. Заглянул к нему, начал объяснять ему: доктор, дескать, так и так… со мной что-то… кажется я влип…
Он поднял на меня жгучие глаза, уточнил:
– У вас это было, что ли?
– Было третьего дня…
– Это еще ничего не значит. Раздевайтесь!
Осмотрел меня. Весело сказал:
– Ну и продолжайте, молодой человек, в том же духе… Вы свободны.
А я пропустив свидание с Симой, и к ней домой больше не пошел – стыдился глупой своей трусости; и соврать бы для приличия ничего не смог: не такой я ловкий и пронырливый, как другие парни.
Вот что приключилось со мной в Одессе. Я потому, знаешь, Антон, и говорю тебе: а давай-ка вместе мы закатимся туда после войны, а? Постараюсь там разыскать свою Симу, – может быть, жива она. Хочу увидеть ее сейчас.
И Антон уже мечтал под влиянием его рассказа: ему виделась то Альбина, придуманная им, то шумная Одесса, то счастливый его теперешний спутник – в кепочке, в рубашке белой.
XVI
Короткий зимний день угасал, когда по накатанному, желтоватому от множества следов шин, шоссе они въехали в просторное нетронутое зимнее польское село с садами, амбарами, калитками, крылечками, заборами и возвысившимся, как водилось в здешних местах, костелом. Они этому немало поразились: чаще попадались везде разбитые города и села. Здесь и даже Пехлера, сержанта, было не узнать: весь распухший от теплой одежды, в полушубке и в валенках, он, начальственно распорядительный и подвижный, вдруг перехватил их на повороте дороги и немедля определил на окраину села, к одному зажиточному пану, если судить по большому двору с домом, обнесенному еще забором в несколько сот метров…
Пехлер вскочил на подножку, и автомашина доехала, завернула к указанному дому.
Казалось, довольный решительно всем на свете хозяин-поляк, еще не старый, хорошо и ладно одетый, вышел к ним с дорогой сигарой во рту; понимающе и дружелюбно выслушав военного квартирмейстера, завел их ко двору и отвел им для ночевки какую-то полутемную хозяйственную пристройку со сложенной в ней посредине плитой; устоявшиеся в помещении запахи свидетельствовало о том, что оно предназначалось, очевидно, для варки пищи домашнему скоту, который еще наверняка сохранился у хозяина. И дрова во дворе валялись.
Печки вместе с трубами можно было сложить под навес. Это – на час работы.
– Ладно, поживей благоустраивайтесь. – И Пехлер, потоптавшись на месте, исчез.
Провозившись с разгрузкой трехтонки значительно больше предполагаемого часа, Антон и Матвей, измученные и проголодавшиеся, так как не ели полный день, затопили плиту, чтобы сварить чего-нибудь и нагреть помещение. У них была мука, выданная в счет сухого пайка, но спечь оладьи было не на чем. Что же делать? Обратиться опять к хозяину? Но тут внезапно дверь открылась и возникла на пороге остроглазая молоденькая светлоликая паненка в темной шали. Слабый желтовато-теплый свет от двух зажженных плошек падал на красивое продолговатое лицо девушки с продолговатым разрезом глаз, и она, как видение, окруженное сумрачной вечерней синевой, свежая с мороза, с тайным любопытством разглядывала русских солдат. И тихо-строго поздоровалась. Антон ответил так же, точно загипнотизированный. Потом спохватился, пригласил ее зайти и попросил у нее какую-нибудь сковородку.
– Паненка, только испечем оладьи и вернем в сохранности, – разговорился он. И еще горячими оладьями вас угостим. Чи можно? Правда, приходите в гости к нам? Добже? Добже? Ну як?
Он не расслышал, что она сказала ему в ответ, так увлеченно приглашая ее. Тут же она нажала на дверь, спустилась со ступеньки на снег, оглядываясь на гостей с веселым нетерпением, и густая синева поглотила ее совсем. Как будто паненки не было вовсе, а это Антону лишь пригрезилось.
Пока он, возясь у плиты, медлил, Матвей, к удивлению, достаточно проворно юркнул за нею. Сказал:
– Я схожу. Заодно и попрошу табачку. Может, разживусь…
А вскоре, вернувшись со сковородкой, говорил с воодушевлением:
– Вот увидишь, Антон, я познакомлю тебя с ней поближе. Она тебе понравилась?
Она – девочка что надо. Лет шестнадцати. У ней точеная фигурка… И на личико она мила на редкость. И там же я другую – ее сестру – наглядел… для себя. Пропадай моя телега, все четыре колеса. – Он закраснелся невиданно, как ребенок малый. И чувствовалось, что сейчас испытывал большое удовлетворение, подъем в душе. – Она сидела дома за пианино и играла, когда я пришел… Тоже девушка пригожая.
– Да?
– Ту, которая постарше, зовут Ганна, а другую, помладше, которая приходила, как называется в твоем рассказе полька?
– Ну, Альбина.
– … другую – вот Альбина, значит. Эта –помоложе.
– Интересно. – Антон с благодарностью верил в серьезность намерений Матвея, в его искренность, простоту и естественность в общении и при обсуждении очень деликатного вопроса…
– Я их тоже позвал… угостим оладьями, если придут, – сказал Матвей.
– Не дай бог: оладьи плохо пропекаются… – Испугался Антон.
– А хозяйские хоромы чистые, отменные. Богато живут…
Но паненки не пришли, и Матвей после ужина попросил Антона почитать еще про Альбину. Лежа на тряпках, слушал рассказ, и, засыпая, ахал над бедной любовью пани и Мигурского.
На улице разгулялся ветер. Ставни бились, скрипели за окном.
Антон еще долго лежал под теплой одеждой в темноте чужого помещения и думал тут, заброшенный среди чужой жизни, о свете чьей-то любви, заглядывавшей им, солдатам, в душу. Заглядывавшей каждому. Отчего же тогда, непонятно, еще торжествует мерзкая людская жестокость? И когда же она сгинет с глаз долой?
«Нет, не зря, совсем не зря мне выпало быть и сдружиться с такими людьми, как Матвей», – почему-то думал он уже сквозь дрему. И уже куда-то прорывался.
Когда он прорвался сквозь дремучие ели, перед ним выросло величаво белевшее в зеленоватой тьме высокое сооружение из камня. Он чем-то влекло к себе, и он приблизился к его решетчатым окнам, но они располагались высоко от земли, и он подошел к темному проему в светлой стене (но дверей не видел), ступил на чудно пахнувшие еловые веточки у входа, перед маленьким порожком, и открыл этот проем в толстенной стене. Сторожко зашел в огромный зал. Здесь, внутри, было полусветло – светился тот же зеленоватый, словно лунный свет, проникший в высокие окна, гудевшие каким-то особенным мелодичным звоном – может, оттого, что были такие высокие, стройные и все залитые светом. И вдруг бесшумно пол разверзся под Антоном, и он полетел вниз так, как летают лишь во сне, – плавно, тихо, медленно и далеко, но только вниз. Приземлился он опять во тьме. В каком-то бесконечном подвальном помещении со всевозможными переходами, заваленными какими-то разбитыми и сдвинутыми каменными стенками и заборами. Музыка пропала. Но зато возникли и все собой заполонили звуки, похожие на беспрерывное открывание и хлопанье то тут, то там огромных заржавленных железных дверей и мерно бегущие от этого туда-сюда по подземным переходам различные отголоски. Неожиданно звуки эти, устрашая, либо лихо догоняли его и обгоняли, либо бежали ему навстречу; он летел и летел на них, обегая препятствия и спотыкаясь впотьмах, и так надеялся как-нибудь добраться к выходу из лабиринта, – ведь кто-то же распахивал здесь двери вполне уверенно и несомненно даже забавлялся теперь беспомощностью Антона… В конце концов он выбежал на простор – впереди смутно различил уступы каменных ступенек, которые вели наверх. Но едва он туда рванулся, как в этот самый момент его остановил раздавшийся оттуда раскатисто-громкий голос: «Ты – славный мальчишечка…» И кто-то невидимый издевательски засмеялся на самом верху ступенек. И будто какая-то высокая фигура в длинном темном одеянии там двинулась, исчезла. Вслед за этим послышалось уже знакомое ему дребезжание и знакомый ужасающий стук закрываемой двери – последний, там он увидел лишь полоску голубовато-зеленого света, мелькнувшего на мгновение. Эхо отозвалось где-то в дальних уголках каменного подземелья, и, множась, тотчас вернулось обратно. Все стихло затем. Совершенно. А сквозь те двери, что закрывали лестницу вверху, все отчетливей и явственней стала проникать знакомая и приятная, как звон хрусталя, музыка. И Антон, легко прыгая по ступенькам вверх, подгоняемый уже ее звуками, взлетал все выше и выше – к стройному играющему свету. И вот последняя кованная дверь уже сама собой с шелестом разъехалась, как занавес перед ним. Он снова был на воле. Испытание его закончилось. И он с облегчением вздохнул…





