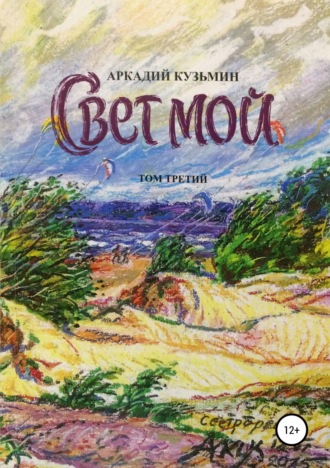
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
– А от нее требует невинности? – вставил Кашин.
– Разумеется! По-азиатски…
– А вы не можете с ним поговорить? По душам…
– Говорила уже много раз. И зареклась. Поначалу не хотела его знать. Потом увидела. И произвел неплохое впечатление. Рассудительный. Но иногда будто теряет голову. Какие-то крайности. Либо-либо. Полутонов нет. Говорит, что зарежет ее, дочь. Я сказала ему, что у нее с тем парнем ничего быть не могло. Он схватился за голову…
– Что ж, он хочет в колодец ее запрятать, Юлия Антоновна?
– Да, примерно. А она веселая, общительная. Парни так и липнут к ней.
– Она еще наплачется, найдет себе муку.
– И я так думаю. Однажды в его присутствии один молодец, привставая, ненароком коснулся рукой ее колени. Так он настоял, чтобы она под краном вымыла эту коленку.Ого – какой ревнивец!
– Она разве не могла выбрать кого-нибудь поближе к нам?
– Говорит: разведется, если не сладится. Но ведь он развода не даст. Она этого не знает – почем фунт лиха…
– Что же ее тянет к нему? Могла б еще два-три года подождать – молода еще…
– Видно, далеко уже зашло. И опять же: связи, работа на студии вроде бы, деньги родительские проматывают вместе… а с жильем-то плохо, он снимает. И им придется снимать. Приданого я дать не могу. Не накопила. Одна комната в коммуналке. Тридцать метров. Просила у директора: заберите ее у меня да дайте взамен квартиру. Он вроде бы обещал добиться у начальства да об этом прослышали некоторые сослуживцы по редакции – и такой трам-та-ра-рам поднялся, что теперь мало кто из них здоровается со мной.
– Не волнуйтесь, Юлия Антоновна. И особенно не надейтесь на обещания: местная администрация – калека с костылями…
– А вот, если у них, детей, здесь ничего не образуется с жильем, тогда ведь утянет он ее в Баку. И будет ей совсем крышка. Он поставил и так условие: как выйдет замуж – не будет выступать в театре, а только может преподавать танец!
– Ишь как! Я не понимаю тех жен, которые хотят переделать своих мужей и знают лучше их самих, что тем надлежит делать, но тут же верховодит мужик…
– И он, верно, знает: она не сможет хорошо выступать, а в кордебалете – какое это выступление! Притом у нее косточковая болезнь (ломит кость, как и у меня) и еще второй палец на ноге вырос длиннее, чем первый, а у балерин должен быть равен первому, тогда легче стоять на мысках, и теперь ей больно стоять. А просить роли, где меньше этого приходится делать, – несерьезно. Но пусть бы сама в этом убедилась скоро. Без наката на нее.
Какая-то все-таки вседозволенность у детей – все заботы на родителей переложены. Я ночей не спала, а они пришли как ни в чем не бывало. Хотя бы извинилась: мол, мама, извини, мы постараемся учесть. Какое там, какие извинения… Мы, родители, как заложники у них… как бесплатное приложение…
А еще и возникший Виталий (собрат Антона и Константина по художеству) вдруг развлек их скрытной предприимчивостью – на ходу затаенно выложил:
– И вы, людья, послушайте: я решил в партию вступить. Ваше мнение на этот счет? Я продумал все.
– Нам, что, придется с тобой целоваться после этого? – съязвил Махалов.
– Нет, не смейтесь… По-серьезному…
– И не смеем даже.
– Я всерьез интересуюсь… Как вы к этому – положительно относитесь?
– Сударь, положительность – штука спорная. Ее на хлеб не намажешь.
– Да, в жизни, главное, практически нужно судить. Молодость для партии – живительный родник; она, знаете, поможет снять закосневелость, ржавчину; заново преобразит ее изнутри, взорвет клапан и высвободит все людскую энергию. О-о-о!
– Ну, ты – гусь хрустальной честности. Дока. Нас по ветру держишь. Норовишь побыстрее хапнуть неположенное, а затем пустить свою матушку в заклание, как овцу, – лишь для еще большего своего насыщения, не так ли? Болезнь века, бессилие.
Виталий пожал плечами извинительно – в знак согласия.
– Просто грешно не воспользоваться конъюнктурой. Иначе – нет смысла жить.
– Во-во! Даже так. Зреет либеральность распущенная. Толкуй! Ты, брат, далеко пойдешь. Что ж, валяй, прокладывай себе дорогу. Только не забудь, что в свои-то беспартийные ряды мы тебя обратно уже ни за что не пустим. Не надейся. Нам с тобой не по пути.
Он заулыбался лишь:
– Я ведь продумал все.
Все было обычно. Звенел день.
– О, здравствуйте! Приветствую! – с вежливостью знакомого, хотя он впервые вошел сюда, в производственный отдел издательства, который разместился в одной университетской аудитории, поклонился всем сияющий рослый Ефим Иливицкий и энергично пожал руки Кашину и представленному им Махалову, взглянувшего на подошедшего к нему ястребом. – В какие же Петровские хоромы вы забрались! Фантастично! Топаешь себе под гулкими сводами, по каменным плитам – и настолько ощущаешь великодержавную эпоху. И мало о чем думаешь – видишь воочию, что где-то тут поблизости схватили ворюги и ограбили бедного чиновника Акакия Акакиевича – сняли с его плеч шинель новенькую – последнюю его радость. Так и просится все на карандаш – зарисовать…
– Не робей, сочувствуя, коллега: гоголевских ребят нынче не видать, и у нас; с нас, художников, стащить нечего, – отпарировал находчивый на язык Махалов, остановив на нем изучающий взгляд. – А может, я шибко ошибаюсь на сей счет?
– Вы смеетесь, граждане? Я еще и на пиджак не накопил, не обновил его. Подайте, ради бога, книжечку нарисовать. – И Ефим звонко рассмеялся, показывая ровные белые зубы. В нем видна была порода.
– Что, в родном издательстве заработки не густы?
– Какое! Мелочь. Лимитируется как-то. То да се. Свои корифеи есть хотят.
Кто-то из сотрудниц слышно хмыкнул.
Иливицкий, с кем Антон еще поддерживал послеслужебные приятельские отношения, стал заметно вальяжным, раскованным, демонстрировал умение быть непринужденным и вписываться с ходу в любую обстановку. Он уже вполне обжился на гражданке после демобилизации. Спустя год после демобилизации Антона, который поддерживал ее первоначально всем, чем мог, и помог устроиться ему на один завод художником, и сейчас познакомил с Махаловым, художником издательства. Теперь Иливицкий, работая по протекции тети тоже художественным редактором, уже попробовал претворить мечту в жизнь – напечатать свои иллюстрации к художественным произведениям. Были ему карты в руки.
Получив у Махалова заказ на оформленные книжки по литературоведению, Ефим говорил даже с апломбом, свысока:
– Я постараюсь сделать современное оформление. Как принято сейчас. Постараюсь не разочаровать вас.
– Не забудь, однако, что это научная книга, строгая, – не простое книжное чтиво, – предупредил Махалов. – Нас могут не понять. Не должно быть революций, беспокойств… Дескать, вот тут нежелательный крест вырисовывается… – Упомянул он одно из типичных замечаний главного редактора по одному из эскизов книжного оформления.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
I
Цветком-девушкой светло-русой вдруг явилась неожиданность Антону Кашину в ясный день сентябрьский. Он ее заметил сразу, увидав среди сонма лиц, полнивших кабинет библиотечный – крепость, дом, что стоял на Биржевой линии. Их, сотрудников, отсюда посылали на двухнедельную уборку овощей под Приозерск; такая помощь сельчанам – из-за нехватки рабочих рук – сезонно практиковалась во многих советских учреждениях. Чему, конечно же, служила уже стойкая рутинность в ведении сельскохозяйственных дел.
Итак, библиотекарей в двух автобусах довезли до тесового крыльца совхозного правления. Здесь желающим выдали раскладушки. И потом все они гуськом пошагали на постой к дальним деревенским избам, разбросанным вдоль обширного озера. Так что Антон, ступая по размешанной проселочной дроге рядом с привлекательной незнакомкой в сизой куртке, и тотчас же взял – перехватил у нее из рук пружинную кровать:
– Давайте – понесу тут… налегке…
Так он с Любой познакомился. Возмечтал и ближе сдружиться с нею.
В шестидесятые, известно, словно гагаринское время распахнулось – стало невозможное возможным; люди несказанно воодушевились, как бы заново очнулись и встряхнулись, пристальней на самих себя взглянули и прикинули: а какие мы на самом деле – не зачерствели ли душой в мелкой суете и дрязгах бесконечных, в потакании брюзжанию и немощи? Есть ли и для нас местечко, чтобы встать рядком с достойными творцами и достойно показаться миру? Ибо – долг велит. Человеческий.
Антон сообразно практиковал, как настаивало институтское начальство, сначала два года корректором в издательстве ЛГУ, а теперь, закончив институт, уже работал по специальности – литредактором в издательском отделе БАН СССР и немного художничал в оформлении изданий, так как зарплата была скудна и требовались деньги на бытовые расходы.
Антон и Люба часто встречались и после их двухнедельного бытия у озера, где он маслом написал два десятка осенних этюдов; они даже зачастили бывать вдвоем – был у них такой период – в музеях, в Филармонии, в театрах, в кафе, расположенных рядом, в центре города. И хотя за нею прилежно ухаживал очень симпатичный парень-брюнет.
Впрочем, теперь стоило учесть, что Люба уже заканчивала вечерний институт, куда Антон нередко провожал ее после работы; значит, для учебы ей требовалось больше времени, и ее психологически тоже утомляли ухажеры, хотя она и не отделывалась от них немедленно; она колебалась, не зная, как ей лучше (и с кем из них) поступить, была потому несдержанной. А потому порой и разговор у Антона с ней был неутешительный, совсем бесперспективный. Только смириться с этим, все бросить и разлюбить ее – он уже не мог ни за что. Он по-тихому страдал и, переживая неудачу, маялся втихомолку. Но не досаждал ей своей любовью, не навязывал ее нисколько, полагаясь на благоразумие и некую справедливость, данную ему судьбой. Своей житейской неустроенности вопреки.
В послевоенный период существовала особая обостренность с нехваткой жилья. Особенно для молодых – неустроенных.
И поэтому он вновь появился перед Анной Акимовной: он знал, что пустовала комната в Невском районе, принадлежавшая ее брату, жившему еще у нее.
– Помилуйте! Батюшки – свет! – воскликнула она скорей с испугом. – Ведь Вы с Оленькой, кажется, согласовали все.
– И все рассогласовалось разом у нас, – сказал он без утайки.
– Сочувствую Вам. Что: не поладили?
– Не я. Видно, не устроил ее.
– Сочувствую. Я же предлагала Вас познакомить с одной скромницей…
– Анна Акимовна!
– Ну, молчу, молчу… Что ж, женская логика летуча и многообразна; не предвидишь, не предугадаешь всего верно, точно. Но это не беспечность, а ее чувство тут. Вы долго держали ее при себе, ухаживая за ней… Устала она, видно, от Вас…
– Возможно, не гневаюсь… Да и перспективы мои не блестящие… Особенно – с жильем…
– Ну, и женщины решили себя показать наконец, – зарассуждала Анна Акимовна, расхаживая по комнате и что-то делая руками. – Теперь посмотришь: у красавицы и рукава платья, что надето на ней, какие-то игривые, волнистые, что все ее тело до пояса видно; и вырезы какие-то объемные, что груди торчат, как рога; и халатец такой, что когда она идет царственно мимо, то у нее коленки телесно блестят под его полами.
– Ну, не в этом суть.
– Ну и ваш брат тоже, не отстает. Девушки смотрят, как им лучше, не пропаще выйти замуж – это у них кровное исторически; а молодой человек хочет того, чтобы она была писаной красавицей да и чтобы в придачу у нее была обязательно квартира или комната в Ленинграде. Все эти свадьбы превратили в чисто коммерческие сделки.
– Но нам нечего было превращать, Анна Акимовна.
Только она и дальше высказывалась в своем стиле:
– Мужчина по физиологии – стадное животное: изменила жена мужу, изменил муж жене – ну и что ж! Мужчина все равно что бык, что петух. Если он и не позволит себе этого сделать физически, то мысленно всегда будет позволять себе – до самой глубокой старости. Понаблюдаешь иногда: вот хорошенькая смазливая дамочка как войдет в трамвай, так едущие в нем мужики зенки свои уставят на нее с нескрываемым вожделением… Видят тут не хорошенькую блондинку или шатенку, а просто очень хорошенький, лакомый кусочек мяса. Мужчина женится, а все равно ищет хорошенький кусочек мяса в этом смысле. И, видимо, так по природе заложено, – если этого не будет, тогда люди перестанут охотиться и жениться и замуж выходить – тогда и прекратится род человеческий… Вон я знаю Ларису Нефедову, женщину культурную, вежливую. Ей сорок пять лет. Она дала религиозное обещание: не выходить замуж. И теперь ведь женихи для нее находятся, атакуют. Стенографистка она, работает в военной академии. Посватался к ней один полковник, собой важный, вдовец. Она отказала ему начисто: нельзя ей замуж!
– Тут без обмана – и нет претензий.
– Ну, так, нынче девы головастые! Быстрей парней соображают. Моей знакомой Свете – двадцать четыре. И та уж проповедует свободную любовь. «А если замуж захочет, – говорит она, – так пусть подделывается под меня, если уважает. Ты носишь девять месяцев ребенка в животе, а разве мужик это поймет, проникнется, отблагодарит за муки?». – У брата как-то объявился приятель – обольстительный русач, и он попытался приухаживать за мной, – рассказывала дальше Анна Акимовна. – Да я уж воспротивилась наотрез: не в моем вкусе был этот ухажер. Но больше мне противила его профессия – танцор! Не могла себе представить и смириться с этим: что он, ладный собой мужик только пляшет – ногами кренделя выделывает на сцене на забаву публики и своих поклонниц! Нет, увольте меня! В то время все так считали, культивировался лишь рабочий образ жизни. Ну вот тебе, дружок, шишь! – сказала я. И я его отваживала, да он не внял тому. Думал, верно, что я шучу, так заигрываю с ним. Набиваю себе цену! Ведь он наверняка считал себя таким неотразимым. А раз даже силу применил ко мне, пытался задержать меня на свидание. «Да ты что себе позволяешь, Саша!» – Отшила я его. Однако я однажды вышла на балкон зачем-то и увидела его на улице: он направлялся ко мне! И тут-то и он увидал меня, заспешил… Я мигом дверь в квартиру закрыла на ключ, а сама на чердак вбежала. Он звонил и звонил мне в дверь, стоял и стоял около нее долго. А затем пошел вон. Я спустилась в квартиру, вновь вышла на балкон и посмеялась ему вслед. Думаю, теперь он окончательно понял, почему я так бесцеремонно обошлась с ним.
Антон снял у Анны Акимовны комнату в пятиэтажке.
Как же все случайно, сложно и запутано в жизни у людей; только и живи для того, чтобы нечто подобное разрешить, уметь распутывать как-то, а жить по-настоящему и некогда. Ты думаешь что-то сделать хорошее, а подруге кажется: это плохо; начинается дутье, объяснения, заверения, клятвы, что ей «больше всего нравится»; ссора усугубляется – дальше больше: и тогда может возникнуть разрыв отношений.
Антон с самого начала, можно сказать, двойственно воспринимал неординарный характер Любы, узнавая ее ближе, но не мог уже насовсем разочароваться в ней и оставить ее одну, такую незащищенную, доверительную и упрямую, отчего еще и прибавились жизненные осложнения и страдания у них. И взаимное непонимание друг друга.
В нем жила какая-то неодержимая вера в то, что он может и должен сделать что-то дельное, благое и не на потеху самому себе. Дано ли это было ему? Или все его усилия будут напрасны? Попросту не хватит сил, как у других романтиков?
Его предупреждали сведущие незнакомки, что она очень корыстна, что тут нужно седьмым чувством отмерить, чтобы принять верное решение. А ему казалось, что она – самая чудесная девушка, которой можно довериться. И он вел с верой свою партию до конца. Как во всем. Никуда не уклоняясь от видимой вешки.
В конце же нового лета Антон написал Любе в Закарпатье, куда она уехала раньше (а они договорились вместе провести отпуск). Он позволил себе было усомниться (не слишком ли?) в ее желании видеть его рядом.
«Любовь милая, – писал он, – из писем твоих я вижу тебя – прелестную, милую и близкую, и настолько, что хочется руки протянуть и обнять тебя. Неужели это сбудется? Должно быть! Тогда стану глупейшим счастливцем. И сердце мое полниться именем и светом всего того, что есть ты и неотделимое от тебя чувство счастья. Но ты, как ни странно, своим третьим письмом из Карпат чуть не убила во мне надежду на продолжение мечты, которой я жил все эти дни, отсчитывая их по пальцам: восемь, семь, уже шесть осталось…
Ты, Любушка, вдруг восхитилась каким-то интересным собеседником, нечаянно встреченным тобой, будто поделилась о том же не со мной, а со своей хорошей подругой. Но, очевидно, мне не дано что-то понять разумно. В сущности мной, наверное, упущено из осознания то обстоятельство, что тебе может быть интересно времяпровождение с веселыми контактными мужчинами, которых ты благополучно сносишь, а не только со мной; вижу, что если и тщусь тебе высказать свои симпатии и чувства, то это ни в коей мере не обязывает тебя отвечать мне тем же образом, т.е. взаимностью…
Дивно же знать, голубушка, что рядом с тобой будет та, которую ты любишь и которой готов все отдать с радостью. Это счастье».
Но это письмо Антон, благоразумно рассудив, не дописал и не отправил по назначению.
В конце августа он сам прилетел во Львов, немедля поспешил на вокзал и сел в вагон вечернего мукачевского поезда, избыточно переполненного едущими, что характерно было для предвыходных дней и для всех индустриально-крупных центров страны. Он надеялся достойно пережить пассажирскую толкучку на пути к заветной встрече – с возможно самым близким ему человеком, привечавшим и понимавшим его, дававшим тем самым веру в то, чтобы надеяться на самое лучшее в их отношениях.
Где любовь, там и светел мир.
II
Предотпускные волнения его были напрасны. Они встретились превосходно. Любя друг друга.
И даже акварели здесь (Антон благоразумно не взял с собой громоздкий этюдник с масляными красками) получались у него, как нечто закономерное, заранее предвиденное им: характерно южные виды окрестностей Мукачево – порыжелые. На фоне синевших горных складок.
Он и Люба, побыв в гостинице два дня, на третий поселились в доме одной приветливой верующей адвентистки Раи, вполне зажиточной, любезно-хозяйственной, многодетной.
И до чего ж приятно было уже в восемь часов утра вкусно позавтракать за гроши в чистеньком кафе, в котором иногда в обеденный час слышался предупредительный мелодичный голосок официантки: «Купатов больше нимае!» По вечерам же вся центральная улица-малышка испускала душистый аромат кофе, жители Мукачево фланировали по ней и посиживали в ресторане, слышалась музыка. В хозяйкином доме по четвергам собирались друзья-верующие и пели церковные песни под аккордеон.
Антон и Люба дважды поднимались по склону к старым строениям мощного Мукачевского замка, что опоясал конус горы, образовавшейся от давнего-предавнего вулкана (здесь ныне размещалось сельскохозяйственное училище). Антон выполнил тут акварель и несколько карандашных набросков. Но чаще он и Люба выходили к бурной каменистой реке Латорица. И, пока писал акварели, вокруг Любы, загоравшей поблизости, уже «светились» местные парни из мадьяр, готовые как-то зацепить чужака. Хоть тут, на берегу, хоть в ресторане. По типичному у задир сценарию: «Эй, приятель, ты почему так плохо относишься к хорошей девушке?!» Такой вот смешной наив!
В старинном белокаменном монастыре, рисовавшемся за серебристо плескавшийся среди камней горной рекой, у склона, регулярно велась служба; его осанистый батюшка, в простой ризе, встретившись Антону, приветливо поздоровался. Так же приветливы были и служительницы монахини, носившие черные длинные – до земли – юбки, ходившие. Они вели монастырское домашнее хозяйство, содержали гусей и кур, возделывали посадки винограда, стирали белье, пряли на старинных прялках. Участвовали в крестных ходах.
В утренние часы мукачевская прибазарная улочка бывала особенно шумливой, когда спешил народ на базар; сюда везли товар на легковушках, тракторах с прицепами, на таратайках, на мотоциклах и на велосипедах, и несли в корзинках на лямках за плечами: дичь, овощи, фрукты, лесные дары. Глаза разбегались и от обилия выставленных керамических изделий – выбирай на любой вкус! А гусей, кур, цыплят здесь, в Мукачево, покупали всюду (кроме рынка): в «перукарне», в «iдальне», на «вулице» – ощупывали дичь, торговались покупатели и продавцы, как полагалось…
Один же добрый хозяйственник-мелиоратор, муж дальней родственницы Любы, пригласил ее и Антона в инспекционную поездку вдоль реки Тисса: он собрался проверить размывы и укрепление ее берегов. Тисса бурна и своенравна, и его служба следила за тем, чтобы не было наводнений. И Люба с Антоном бездумно согласились поехать, рассчитывая хорошенько рассмотреть природную красоту этого края; и они залезли в кузов полуторки в 12 часов, когда температура воздуха была уже 28 градусов тепла, а на небе не было ни облачинки.
До городка Вилка стлалась ровная асфальтовая дорога, все было сносно; а вот после – потянулась неровная проселочная, и было тряско. Проезжали большие пыльные села: Бобаво, Вовчанское, Петрово, Федорово.
Они целый день колесили в междугородье – в долине, пограничной с Чехословакией, Венгрией и Румынией, и их покровитель – Андрей Матвеевич – инженер участка, – встречался с мелиораторами и осматривал берег Тиссы, особливо в местах изгибов реки, где волны подмывали его сильней и куда закладывались камни в корсеты – переплетения из ивовых ветвей. Такие вот испробованные сооружения.
Поэтому лишь несколько карандашных набросков сумел сделать Антон при остановках.
Наконец они повернули назад к парому, чтобы переправиться через Тиссу и ехать в город Виноградов. Паром застрял у противоположного берега – видно было, что что-то там делали, суетились люди, – не успел Антон набросать в альбом очередной рисунок, сидя прямо в кузове; им сказали, что их грузовик нельзя на пароме перегнать, – вон даже с легким «Козликом» на мель он сел. Пришлось возвращаться в Вилок по той же пыльной дороге.
– К девяти приедем? – спросил Антон у шофера в нетерпении.
– Что вы? До Вилка километров сорок будет! – ответил он.
Автомашина бежала ходко и как-то меньше трясло на неровностях дороги. Медведицы развернулись и находились над головой где-то сзади. Млечный путь – прямо в зените. Ярки были звезды. Луна заходила, когда они подъезжали к Мукачево. Голодные и злые на себя за то, что ввязались в такую неудачную экскурсию. Зависимые от других.
Зато потом они старались побывать везде самостоятельно. Съездили в Сваляву, в урочище с местоположением санатория «Карпаты» (в замке). Потом – в Ужгород. И отсюда, из окна, Антон зарисовал вид города, а затем и улицу Суворова.
На лохматом кукурузном поле полз комбайн, убиравший спелые початки зерна; те падали по трубе в кузов грузовика, идущего бок о бок с ним. Антон и Люба ехали в Берегово, любимый в прежние годы старожилами и избранными закарпатцами летний курорт. Неожиданно автобус стал, не доехав триста метров до конечной остановки: заглох мотор – и никак не заводился. Так что всем пассажирам пришлось выйти из салона и дальше пойти пешком. Только что прошедший дождик освежил воздух. Народ сновал по улицам. Слышалась смешанная речь. Тутошние жители могли знать и понимать три языка: польский, венгерский и русский; в этом же веке они сначала поживали как польские граждане: часть Закарпатья входила в состав Польши, а часть в состав Венгрии и Румынии, а после тридцать девятого года – уже были гражданами СССР.
Антон и Люба, шедшие по наитию вперед – туда, куда глаза их глядели, вышли на каменную площадь, в сквере которой стоял серый памятничек советским воинам-освободителям. Антон остановился пред ним, стал читать надпись, обозначенную на нем:
– «Здесь похоронены»… Люба, послушай… Тут есть имена погибших с двадцать шестого года рождения, как и мой брат; значит, солдату было всего лишь восемнадцать лет, когда он погиб. На два-три года лишь старше меня в то время! И есть безымянные погибшие… «Здесь лежат два красноармейца». И все. Видишь: даже нет даты их гибели – указан только месяц – римская цифра десять. Вот где-то так и отец наш лежит – безымянно… Под Ленинградом…
– Но ведь нужно искать и искать, – сказала Люба уверенно.
– Да, все время искали, безуспешно. И сколько ж еще подобных могил нам напомнят о минувшей трагедии, чем заплатил наш народ не только за свою свободу!
Они тотчас посмурнели… Не сразу пришли в себя. А город жил себе, как жил, и торговал тем, что имел в достатке, в том числе и книгами по искусству, поступавшими сюда из-за рубежа. Напрямую. По свободному обмену.
Здешний ресторан устроен был тоже типично для Закарпатья: полукрытый квадрат с открытой серединой. Здесь имелось белое столовое вино береговского же производства и разлива. В 800-граммовых бутылках. Официант небрежно сказал, кивнув на центр заведения – на стоявшие тут грубые деревянные ящики:
– А вино вон – сами возьмите из ящика, сколько вам нужно.
Вечером собравшиеся у Раи – хозяйки гости, адвентисты, пели под музыку. И Антон записал на листке бумаги:
«Нужно продолжать то, что делаю – как выйдет, лишь бы только прибавить что-то к чему-то звеньями, да так продолжать, чтобы все делать совершенно по-новому, в соответствии с новыми чувствами и настроениями – продолжать развитие начатого. И силы, и желания, кажется, есть. И еще нечто ценное. И это все хорошо, красиво, пленительно. Все это отчетливо уяснил себе после чудесного разговора с больной (Люба простудилась во время поездки вдоль Тиссы), сидя у нее на постели. Посмотрел на один этюд, сделанный накануне, на второй, сделанный сегодня, и зуд писать безошибочно, здорово разбирает меня – все сильнее и сильнее. Писать красками и описать словами. Как можно понятнее. И описать и то и другое, что есть в мире прекрасное и волнует. Главное, то, что волнует, не дает обрести равнодушие».
III
Их отпуск завершился трехдневным пребыванием во Львове – городе чудном, настораживавшим: Люба хотела получше рассмотреть его – побродить спокойно по нему; их мукачевская хозяйка Рая любезно написала своей хорошей и верующей львовчанке (прежде Рая жила здесь), и та приютила их на эти дни в светлице: предоставила им двуспальную кровать в красном углу под образами. Отчего Антон по крайней мере давно отвык и к чему Люба не привыкла с самого детства своего. И такое благородное гостеприимство незнакомой простой львовчанки им было по душе, оно венчало отдых их, ленинградцев.
Город им очень понравился в архитектурном устройстве. Они всюду бывали, ходили, ездили. И слышали жаркие споры толпы футбольных болельщиков на театральной площади. И полемические споры среди посетителей парикмахерской, куда Антон зашел для стрижки. А так же испытали смутившую их благожелательность (или навязчивость) бывшего белогвардейского офицера, кавалера четырех георгиевских крестов, недавно вернувшегося на родину из эмиграции. Он тащил их на осмотр знаменитого львовского кладбища, которое они осмотрели и без его сопровождения, поскольку были все же вдвоем – заняты собой. И слышали несколько раз за обедом в уютном ресторане-подвальчике виртуозную игру скрипача, игравшего для них на скрипке. И все это виденное и слышимое казалось для них чем-то ирреальным, живущим по своим неизведанным законам. Так казалось Антону.
Однако им не давала покоя история (они не забывали ее), рассказанная им в вагоне поезда, шедшего сюда из Мукачево. Вагон был малолюден, и в купе к ним присоединилась в пути одинокая русская мятущаяся женщина с посеребренными прядями волос и со страдальческим лицом, очень грустная. Ее открытую грусть, ее страдальческое состояние нельзя было не заметить и остаться равнодушным. И Люба заерзала оттого, что, не выдержав своего благополучия перед ней, участливо спросила напрямую у ней, что случилось. И несчастная пассажирка, с виду достойная, лишь поинтересовавшись, кто они, откуда, мало-помалу стала рассказывать о своих злоключениях, не сдерживая волнения и слез. Как на исповеди. Под стук колес вагонов.
И они услышали нечто ужасное, недостойное людских деяний.
Спустя вот годы после-то минувшей войны она потеряла вначале взрослого сына, а совсем недавно и мужа: их, выследив, убили бандеровцы – вездесущие бандиты; они убили их за то, что мужа поставила партийная власть быть председателем родного же колхоза, но не сумела защитить. Бандеровцы раз за разом убивали активистов, запугивали всех землевладельцев; они, повинные в убийствах евреев, поляков и русских, в этом раже человеконенавистничества видели в себе героев, способных на такие подвиги. Это был их промысел. Они служили своему дьяволу, который дергал их за крючки.
И к ней, идущей даже в соседской похоронной процессии, подкатывались оборотни и пришептывали по-быстрому:
– Вот, чуешь, и голубя твоего ждет такая ж участь, учти! – И вмиг исчезали, как бы растворялись в воздухе.
И не спас ее сына и мужа автомат, как оружие, при них. И посейчасный осмотр глазами кустов и леса, росшими перед их домом, не спас их.
И уж теперь – увы! – ничто не держало ее здесь. Все для нее постыло.
Этот рассказ несчастной женщины ужаснул и как-то пристыдил отдыхавших вольготно и развлекавшихся здесь молодых Антона и Любу. Да, печально везде, где крайние радикалы, исповедующие убийства и насилие (уже ради лишь принципа: уничтожь!), уже ни на что разумное не готовы; каждый человек делает в жизни только то, на что он способен и годен – иного ему попросту не дано. Уж с чем человек уродился. С какой звездочкой.
Терроризм – обозлившийся мутант эпохи капитала, слуга злодеев, а злодейство – культивируемый стайный и доходный продукт мироустроителей, тем живущих и ничем иным. Ведь жить по-человечески – сложней, не получается у бандюг. Кишка тонка. Они уж прикипели к оружию, его полным-полно везде; гуляй себе вольно, устраивай вольницу и охоту на людей. В маске и без маски национальной. При полном презрении к отечеству и обществу, в котором родился и живешь. И пока есть духовные вожди, ведущие по утесам. Как все просто в мире. Ибо с ненавистью мужи не рождаются нигде. Ни в каком уголке Земли.
Свет открыт глазам всякому. Но у злонамеренных воителей смещенные понятия обо всем и мнят они себя героями, не иначе. Как собственно и геройски злодействовавшие у нас в России во время войны немецкие вояки. Антон нисколько не забыл тот нацистский маскарад и понесенные жертвы того всемирного насилия. Когда подручными палачей становилось немало европейцев, а также предатели-власовцы (с кем не может быть у нас никакого примирения!). Когда малодушествовали пацифисты, уклонявшиеся от стойкой службы в рядах Красной Армии (твердившие: «И без нас есть кому – кому нужно – защищать страну»).





