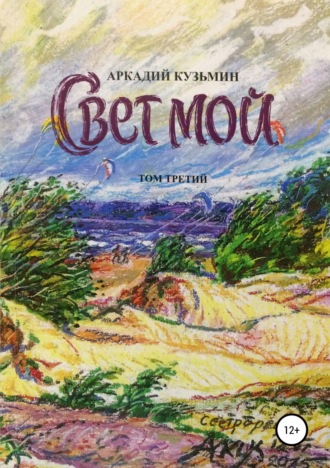
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
Безусловно он, бородач, зато и выглядел внушительно-импозантно, и привораживал к себе всех, с кем общался, простым обхождением. Держался он без малейшей рисовки или надменности, или хвастовства, был сердечно открыт, оптимистично настроен, раскован. Так что вследствие этого сейчас, во время разговора, сержант Коржев и солдат Сторошук почти в рот ему глядели…
– И, что ж, не познакомились вы? – бойко, с лукавинкой спросила у него Люба Мелентьева, машинистка. Для нее-то сразу все вынь да и положь: была с острым характерцом. – Мне несколько не верится.
– И мне, знаете, самому… до сих пор. Мы чуть поговорили дружески. Да скоро разошлись. Увы, даже имени друг друга не узнали – не спросили. Встречи не назначили. Был мой грех, винюсь.
– Отчего же: интересно?
– Не хотел этим связать ее. – Лейтенант помедлил. – Показаться сразу заурядным приставалой, что ли, в ее глазах?… Нежелательно бы…И я к тому же торопился по делам киношным.
– Ну, такое может быть, – вставил Сторошук. – Я вон знал одну, дружил с ней, да и то…
– Еще потому и сделикатничал, что было это в Ленинграде (сам-то я москвич) в предвоенную весну, – рассказывал лейтенант. – Да, в конце апреля шел через Фонтанку по Чернышеву мосту – весь он был запружен народом. Увидал я, значит, толпу и услышал вокруг возбужденные голоса: «Она упала за парапет, представляете! Ей, бедняжке, искусственное дыхание делают».
– «Да разве можно спасти – столько она проплыла… Обессилела… Она долго боролась за жизнь». Кинулся в гущу толпы – не пробиться с ходу. А юркие ребятишки знай себе под ногами лезут, кричат: «Вон, вон она лежит! Искусственное дыхание ей делают…» Еще я подумал с недоумением: «Отчего же «Скорой», врачей нет?» Повернулся к женщинам: «Скажите, пострадавшая – девушка?» Те переглянулись меж собой как-то странно, засмеялись: «Кошка это, милый!». «С ума сойти можно!» – Проговорила вдруг рядом та, с которой я незамедлительно и разговорился по-хорошему. В то время, как собравшаяся публика ждала результата – оживет ли выловленная из Фонтанки кошка. Нет, только в Ленинграде могло быть такое.
– Поэтому и выстоял он, город, несмотря на ужасную блокаду, – заметила Люба.
– А я приехал тогда сюда как раз на съемки фильма. Очень торопился, значит. Вот и теперь, похвастаюсь, отращиваю бороду с такой же целью – чтобы сняться в роли одного народного мстителя…
– А сейчас, видать, жалеете о том несостоявшемся знакомстве?
– Такое впечатление произвожу? – продолжил серьезно Волин. – Увы, вы правы: точно знал ее всю жизнь. Выжила ль она в страшной блокадной переделке?..
– Так вы простите, что выпытываю: еще не женаты? – Люба покраснела чуть.
– Нет. Чести не имел, как говорится, быть представленным. Еще потерплю. Пока полжизни прожил.
– Неужели?! На вид больше вам. Из-за бороды, видать…
– А меня, знаете, что спасло раз… – доверительно сказал опять Сторошук.
– Что, тонули тоже, извинилось? От чего спасло?
– Спасло от женитьбы этой… Что нет малых в случае чего….
– С ума можно сойти! Извините, присказка эта привязалась и ко мне с того дня.
– Меня же, к счастью, спас ее какой-то страстный, безумный шепот, когда я рядышком с ней сидел в темном кинозале на сеансе… Слушайте…
– Ну, брат, погоди, после оправдаешься, – повелительно перебил его лейтенант Нестеров, молча сидевший на табуретке до этого со слегка ироничным выражением на красивом лице. Он, новый кумир Антона (так же недавно переведенный в госпитальное Управление), в кого уже влюблялись и мужчины, не только иные женщины, выделялся крепкой фигурой, общительностью и решительностью. И подлил масла в огонь. – Все хвалитесь своим холостяцким житьем-битьем, а проку-то что! Вот я, похвалюсь, женат – и нисколько не жалею. Двое малышей. И жена у меня – грузинка.
– Вот не представляла себе. Не вяжется как-то с вами…
– Влюбился, Любочка, – и конец. Что тянуть резину. – Нестеров встал и заходил туда-сюда по комнате. – Все произошло в Тбилиси. Там работал. И пришлось из-за женитьбы, разумеется, выдержать долгую осаду со стороны местных парней – грузин. Они больно горячи, скоры на расправу, коль считают, что затронуты их традиции, привилегия, уклад жизни; встречали и провожали меня на узкой улочке – направлялся ли я с Ниной на прогулку, в кино, или еще куда. Хотя при ней меня не трогали. Из глубины веков такое зло идет. Национализм… все чужаки – неверные по их понятию…
– Да какое! – сказал Волин. –И в российских деревнях, если чужой парень пришел погулять, местные ребята ополчаются против, петушатся, хватаются за колья. Дикость это! Ну так что ж?..
– А я не могу уж отказаться, – говорил Нестеров, – по-настоящему влюбился. Тем более, что Нина отставку дала одному кавалеру, Рамазу. Предпочла меня. Вот они и поднялись табуном. С угрозами. Захотели меня взять измором, выжить. Только уж и меня задело крепко. Страсть! Я решил не уступать, хоть и был кругом один. Что же делать? Увезти Нину из Тбилиси? Но ведь здесь были ее корни, была вся ее родня. Бог миловал меня каждый раз.
Обстоятельства меня заставили – стал, значит, увертлив и предусмотрителен; вел себя везде настороже, как зверь. То, сё. О, и надоело же все! Ведь ненормально это. Уж подумывал от лиха: а не завести ли оружие какое? Для страховки. Чтоб оборониться в случае чего. С одним рассудительным знакомым, значит, покалякал насчет этого. Он и вник во все с сочувствием: но, ты, Николай, не тушуйся, я устрою тебе штучку подходящую – она похлеще, гарантирую, сработает. Люкс! И никакого криминала. Будешь благодарен мне. И вот изготовил же он для меня, знаете, точнейший макет пистолета (точнее некуда)… Ну, взял, всунул я макетик тот в задний карманчик брюк – красота, полный ажур: и не догадаешься, что это есть обман, хитрость; этак и продефилировал разок, значит, мимо подкарауливавшей меня компании грузин – с оттопыренным от оружия карманчиком. Затем – и еще. Вроде в невзначай. Ну, представляете… Все, что нужно мне, засекла их братия. И чую, вскорости стала она отдаляться от меня. Таким образом избавился от измора, напряжения.
Из рассказанного Нестеровым всем впечатлительно понравилось, главное, его проявленное мужество и верность женщине. Тем с большей критичностью – наглядный повод для Антона сравнить – находил он покамест весьма незаметными, ничтожными свои возможные юношеские качества и способности. он их еще пока что не знал в себе. Еще робость или, может быть, мнимая деликатность, отличала их, если в себе сомневался, внушал себе: «Да куда же мне тягаться в этом с кем-то по-мужски! Бесполезно».
Зато недаром он вновь пристрастился к рисованию, именно здесь в Замбруве, к чему примерно с лета 1941 года, знать, под влиянием несчастий и невзгод было начисто охладел; отныне оно наконец нашло свой выход, приносило ему нежданное чувство удовлетворения. Все вновь началось у него с удачно нарисованного портрета Валерия Чкалова. Листок с его изображением он принес в столовку и прикрепил к стенке над столами. Отобедав же, хотел снова снять рисунок, чтобы унести с собой; однако сержант Петров, повар, баском пристыдил его:
– Э-э, отставь, Антон! Ведь любуется на него ребята. И ты людям служишь все-таки… Коли есть способность, – нарисуй что-нибудь еще…
После этого и повелось в охотку: в свободные минуты он стал рисовать портреты русских полководцев и советских маршалов и героев, благо под рукой были и бумага ролевая, и простые карандаши, – все, чем он мог располагать пока.
Впрочем, интересно: теперь, Антону обычно – в процессе его тщательной прорисовки и детализации форм на бумаге ли, на ткани ли, – лучше и спокойней обдумывалось за этим занятием все происходящее вокруг него или только занимавшее вдруг его настроение. Он ведь никак не собирался подражать кому-нибудь в поступках – мог лишь позавидовать чему-то по-хорошему, и все; ему что-то просто нравилось – было по душе, либо не нравилось совсем. Такой расклад.
VIII
Да вскоре Антон неожиданно опять увидал в отделе ее, таинственную незнакомку, смутительницу его спокойствия. И он, хоть и взволновался от того, прежде всего постарался не попасть впросак по-новому: увидав ее, поздоровался с ней. И однако она очень приветливо ответила Антону певучим голоском. Да и вновь взглянула ему в глаза (их взгляды встретились), показалось ему: взглянула весьма значаще – с той же узнаваемой им ласковостью и с тем же готовным светом расположения, внимания, добра и даже будто явного подбодрения его в чем-то истинном, правдивом. Оттого он, вновь несколько смущенный, незамедлительно прошел к себе – в рабочую комнатку, доставшуюся для работы ему и Любе – им на двоих.
Он злился на себя: девушка опять приветила его, а он непростительно терялся перед нею на людях!
Она явилась сюда с очередным служебным поручением из госпиталя. Она тем немало уж и порадовала обходительных кавалеров истинно: они опять увивались около нее с привычной молодцеватостью.
А в следующий раз сослуживцы уже ввели Валюшу – так любовно ее все называли – в Антонову «портретную» комнату, увешенную по стенам в основном карандашными портретами советских военноначальников.
– Вот, взгляните на работы его, Кашина, – как бы хвастались перед ясной девушкой его творчеством. – «Второй Третьяковкой» это люди окрестили. Наезжали посмотреть. Соскучились по искусству…
– О, новенький портрет?! – завосклицал говорливый солдат Сторошук. – Уже дорисовал? Сегодня? Да тебе скоро не хватит места в казарме этой? Нужна галерея!.. Факт!
Он, чернявый, большелобый и скуластый, с ястребиными глазами, был всюду смел, невоздержан, нетерпелив; но он и, несмотря на свою молодость, иногда знал, как иносказательно сказать что-то так, чтобы все подумали, что он знает кое-что существенное.
Антон никогда не рассуждал и не спорил ни о чем с ним.
Между прочим Валя, оглядев портреты и похвалив его, сказала, что в их госпитале тоже есть художник-сержант. Настоящий. Он красками рисует все. Красиво.
– Ну, это годится для нас, Валюша, – подхватил старший лейтенант Шаташинский с оживлением. – Мы ему покажемся, Антон. Не так ли? – И весело подмигнул ему, благорасположенный всегда к нему.
Да, теперь, когда в нем, юноше, наконец ожила острая тяга (было притупленная войной) к настоящему рисованию, когда он попробовал все снова начать и начатое это дело сладилось и спорилось вроде б с видимым успехом и когда он испытывал еще смятение перед чем-то более значительно торжествующим (и не ложным) в своей душе, – теперь в его воображении уж рисовался рядом учитель-друг, который сможет помочь ему советом и открытием необходимых истин в художественном мастерстве. Он очень мечтал познакомиться с хорошим профессиональным художником, кто стал бы по-настоящему учить его искусно владеть карандашом и кистью.
И сделалось ему почему-то грустно. Перед необъятностью – ширью какой-то в пространстве, которую и ощущать-то мысленно нельзя никак. И что не стелется перед человеком удобной видимой дорожкой.
Увы, и не думал он о том, несколько же длинен и труден предстоял избранный путь, по которому предстояло ему пройти пожизненно, ничего не минуя, – конечно же, не от одной соседней парадной до другой, и сколько же еще неизвестных истин откроется ему впереди.
А пока, еще веря в особые, возвышенные чувства человеческие, Антон ощущал в своем сердце сидящую и так саднящую занозу и размышлял: «Ну, почему вот так? Ты мечтаешь о добре, а рядом красавчик, кого ты только что поэтизировал по-ребячьи за ум и физическую красоту, деловито-знающе уничтожает твою мечту и саму жизнь… От чего? Какой-то распространенный садизм в сообществе людей? И не избавиться от него никак?».
Был им невзначай подслушан один вечерний разговор. В полупотьмах.
Лейтенант Нестеров из первого отдела попыхивал папироской перед досужими Коржевым и Сторошуком. Говорил:
– Нам не стоит заблуждаться шибко. На Кубани прошлым летом когда мы быстро – с дивизией – наступали, попалась нам в руки парочка необычных влюбленных: немецкий франтоватый офицер и наша девушка Маруся, представляете, блуждали они где-то, вольные, все до фени им; тот, ариец блондинистый, аккуратный весь, аж отстал намного от полка своего – и хоть бы что ему. А Маруся, смазливая девочка, напрасно все высовывалась – молила на допросах о том, чтобы мы сохранили ему жизнь. Она, значит, о себе не беспокоилась нисколько, глупая; она, видать, не считала случившиеся изменой. Ну, пофинтила, мол, с хорошим человеком, и что из того? Ерунда какая!… Что же, вразумлять ее?… Зачем? Она нам надоела: все твердила, как попугай – он хороший. Ну и дали команду особисту соответственную… Тот повел ее впереди себя. Будто бы на новый допрос. В общем она так ничего и не поняла и не узнала. Так вот что насчет наших заблуждений…
– А что же с офицером тем? – промедлив, спросил Коржев.
– Не знаю я, не знаю, – признался Нестеров.
И неведомо всем было; да зачем же лейтенант похвастался таким ужасным эпизодом – так разоткровенничался на публике? По инерции? Или же искал дешевой популярности, полностью уверенный в том, что мог безошибочно карать заблуждающихся сограждан и что все разделяют его умозаключения и действия судьи-палача?
После этого Антон стал решительно избегать его, не общаться с ним. При случайной встрече с ним отводил свои глаза в сторону.
Антон со своим рукоделием (скатал листы с портретами трубкой) сразу с улицы спустился в клубный зал госпиталя, украшенный плакатами, панно. Здесь буднично суетилась троица девушек санитарок – они прибирались и мыли пол, и упитанный моложавый сержант, стоя за грубым столом, докрашивал кистью броский заголовок стенгазеты на ватмане. Это был художник Самсонов. Он, не прекращая свою работу, когда Кашин представился ему, деловито велел:
– Ну-с, парень, показывай, что принес. Посмотрим…
– Вот… – Развернул Антон на полу свои рисунки.
– Так… А других-то нет у тебя? – разочарованно огорошил специалист Антона. – Да это все не то, что нужно для тебя. Понимаешь, братец, нужен живой набросок, не замалеванный. Хорошо бы: с натуры. Ты рисовал что-нибудь еще?
Антон в замешательстве лишь отрицательно помотал головой.
– Ну-ка, накидай примерно… – Сержант протянул ему листок бумаги и дал карандаш.
– А что именно? – озадачило Антона его сейчасное предложение.
– Что сумеешь… Найди свой мотив. Любой… Трудновато? А ты хочешь, чтобы работать с красками – и не было бы трудно? Не жди тут легкости никакой…
– Я и не рассчитываю на это…
– Попробуй-ка хотя б такой набросок сделать.. – Самсонов на листке бумажном стал словно прорисовать мягким карандашом лицо некой красивой девушки, глядящей вполуоборот. Да, чем больше он размашисто-умело, просто играючи, водил карандашом по листу ватмана и растушевывал, воссоздавая все точнее и характернее овал девичьего личика и высветляя его обрамляющей тенью, тем все уверенней Антон узнавал, что это проявлялось Валино лицо. – Вот изобрази по памяти и ты, что сможешь.
Бесспорно, он только время занимал у него, делового человека. Чем-то неприятен был для него сержантский ровный, равнодушно-менторский тон. И в провидящих серых глаза художника, без искорок, въявь отражалось его превосходство умения и познания перед ним, неумехой младшим, просителем.
Антон, разумеется, не справился с заданием: действительно был плох наспех нарисованный им зимний пейзаж с оленями. Он тоже не удовлетворил строгого экзаменатора
– Не следует тебе копировать – себе губишь; натурные рисунки делай – твое спасение, – наставлял Самсонов. – А когда из этого что-нибудь получится у тебя, тогда и приходи ко мне – посмотрим, что к чему. Потолкуем. Ладно?
Антон растерянно пообещал. Он, сумрачный и озабоченный выскользнул из клуба: не умел покамест рисовать! Ну и ну! Позор!
Но он полностью прав, наверное…
Антон заспешил отсюда с белым своим рулоном еще и потому, что испытывал – сам-то ходящий, здоровый – неудобство быть в самой атмосфере госпиталя, когда видел озабоченных врачей в белых халатах, носилки, раненых, ковылявших в коридоре и около санитарной машины, стоявшей наготове у входа. Как будто в этой зоне каждый спрашивал у него совершенно безулыбчивыми глазами: «А ты, малец, зачем здесь? Чем таким, приятель, занимаешься?»
Было хмуро, ветрено, продувало; оголенная тропинка, пересыпанная опавшими листьями, влажна и оттого скользка под подошвами прохудившихся сапог – поскользнуться можно; редкие прохожие, в основном военные, спеша, поеживались зябко.
Прошлепавшая мимо него неловкая фигурка старой польки вдруг поразительно напомнила ему неприметно тихую и вместе с тем шуструю старушку, временно учительствующую в начальной сельской школе. Маленькая, сухонькая, в старомодных пальто в ботах, с палочкой, приходившая в школу города, с особыми словечками, она вначале всех, можно сказать, обескуражила (ждали же вовсе не такую!); зато очень быстро они, школьники, привыкли к ней и успели полюбить ее за то, что для них сорванцов, которых она помнила по именам и привычкам, у ней находилось столько неистраченной душевности, тепла и так молодо сияли ее глаза. И никто из учеников не был плох для нее. Она любила всех. Как-то по весне, помнится, они запускали змей. Так она мимоходом подошла к Антону и, погладив его рукой по голове, прежде всего поинтересовалась тем, как ему рисуется, – она отмечала его способность рисовальщика и желала ему успеха, в художестве.
Видимо, эта подвижная лучезарная старушка видела в невинных ребячьих набросках нечто достойное чуткого уважения, уважения и похвалы. Она-то была, как теперь Антон понимал, индивидуальна, личностью, хоть и говорила, как жила, неприметно-тихо, почти извиняюще за то, что жила.
IX
Короткий осенний день все заметней убывал, темнело рано. Торчали под ногами грубые почерневшие стебли осота с расклеванными наскоками ветра белым пухом склоняющихся шапочек. Между тем было далеко не безопасно расхаживать здесь поздно: участились нападения экстремистов, сторонников польского лондонского правительства и переодетых власовцев, на советских офицеров и солдат с целью заполучения оружия, формы и документов. И поэтому рекомендовалось по вечерам-ночам ходить хотя бы вдвоем. Тем более мало у кого имелось при себе оружие. Лишь у офицеров…
Хозяйство же военной части – жилые помещения, склады, столовая, гараж и пр. – занимало большие дощатые бараки; они отстояли в стороне от главного – штабного – здания на километровом примерно расстоянии, за бесхозными капустным полем, принадлежавшим раньше какой-то немецкой части. А заниматься чем-то в штабе приходилось далеко допоздна: хватало снабженческих дел для подопечных госпиталей, в которых врачи лечили и спасали раненых.
В бывшем местном клубе – виадуке с блестевшей под солнцем металлической крышей совещались трое командующих снежных фронтов. По периметру от него, в метрах трехстах было расставлено плотное оцепление автоматчиков наизготовку и те строго делали отмашку управленцам на обход прямо по капустному полю, когда те шли на обед в барак и после возвращались обратно. Антон проходил здесь в момент, когда маршалы вышли из клуба, видно, в перерыв, наружу, чтобы подышать свежим воздухом и размяться и хорошо различил – по росту и телосложению – Г. Жукова и К. Рокосовского. Эта встреча командующих очень обнадежила всех добрых знаком: она несомненно могла, как водится, предварять начало нового наступления.
Вечером праздничного дня – 7 ноября – Люба приструнивающе-строгим тоном, не допускавшим возражений, скомандовала Антону и Вале, успевшей сдружиться с ней:
– Вот сейчас Антон проводит тебя, Валя, туда в барак. Идите вы вперед! А я – чуть позже… У меня есть попутчики…
В обступившей их густой холодно й непроглядности ночи они шли, неловко касаясь рук друг друга, и бессвязно говорили о каких-то пустяках, не о главном чем-то. Скользила под ногами многослойная никлая трава, листва; редко доносился, проносился звук бегущих автомашин с шоссе. И прерывисто стучало у Антона сердце. Ведь около него пел бархатный голосок Валюши:
– Ой, слышишь – падают плоды каштанов! Была я с родителями в Крыму перед войной. Там спелые абрикосы, вишни, ежевика падали на землю и чернили – пятнами ее, что кровинки, что ни пройти по тропинке. И их никто не брал, не собирал, представляешь! Этой беззаботности ведь уже не будет больше никогда! – И она вздыхала. – Я не потеряюсь, нет? Где ты, Антоша?
И он слышал ее дыхание рядом с собой: дескать, провожая ее, проявляю вежливость – обычное дело, только и всего, но ему-то самому было очень радостно, волнующе-смятенно. Был же и холодок в груди – а должным ли образом он вел себя? Ведь еще не умел-то, понимал, и сказать своей девушке что-нибудь приятное, хорошее, а не то, что значительное что-нибудь.
– Валя, а художника Самсонова ты знаешь хорошо? – почему-то не давало ему покоя самодовольство сержанта – прежде всего. – Он нарисовал при мне твой портрет…
– А-а, пускай рисует бездну их, – сказала она беззаботно.
– Мне он… В общем, не пойду я больше к нему…
– Значит, душа так велит. – Она снова прикоснулась к руке Антона ладошкой. – И не нужно объяснений, если душа есть, понимает.
Незаметно разговор их в пути упорядочился, выровнялся.
Вступив же в жилой барак, они враз – словно береглись от всех – расстались.
Антон с надеждой постучал в дверь к Шаташискому – захотел его увидеть в этот день. К счастью, оказалось, он уже прибыл из командировки: был у себя. И, обрадованно усадив его в своей комнатке на вторую койку (напротив себя), только начал расспрашивать о том-сем, как сюда шумливо пожаловали также Люба и Коржев, а с нами заодно и Валя. После приглашения хозяина, в то время как сержант подсел на кровать к нему, старшему лейтенанту, Валя, выбирая мгновение, куда сесть, опустилась рядышком с Антоном, между им и Любой, севшей на противоположный край койки. Оттого-то все они пуще заголдели-расшутились, ровно малые, без ума:
– О, смотрите-ка, куда она нацелилась, а!
– Нет, мы не отдадим ей его! И не думай, милая!
Смешинка напала на всех.
Конечно, непросто быть под сущей пыткой, сидя бок о бок с милой девушкой и уже физически ощущать ее близость, и краснеть оттого по-глупому, когда для взрослых окружающих, он знал, все это могло казаться лишь чем-то любопытным, забавным, эпизодом, сопутствующим их случайно веселому времяпрепровождению, только и всего.
После, когда все уже разошлись по углам своим, Кашин вспомнил, что хозяйственный сержант Вихорев, кладовщик, обещал ему дать александринскую бумагу, прибереженную им. Но, завернув в слабо освещенное лампочкой вместительное помещение, что было перед складским, внезапно замер на пороге, едва отвел рукой занавеску: услыхал здесь названным свое имя! В дальнем конце комнаты капитан – медик Михишина рассказывала о том, как накануне он, Антон, очень учтиво провожал ее сюда, в барак, и как любезно уговаривал ее не бояться темноты. Никто не почувствовал присутствия здесь Антона, еще помедливавшего с уходом (хотя знал, что негоже было подслушивать чужой разговор) – он затаил дыхание, так как Микишина следом и спросила:
– Валюша, ты-то молодая… А тебе-то он, Антон, понравился в роли провожатого? Или кто-то другой есть у тебя?
И Валин голосок за шторкой ответил с заметной заминкой:
– Ну, есть – не есть. И, знаете, о нем, наверное, следует судить тогда, когда он станет мужчиной, например, таким, каким был мой отец. Все, что я могу Вам сказать.
О, до чего ж Антон тут возненавидел себя в свете ее неприкрытой правды, очевидной, ясной и логичной, тотчас разрушивший его хлипкую и несбыточную надежду на что-то исключительно романтичное. Он самому себе был противен. Итак, потерпел поражение везде…
Он, по обыкновению подсвечивая себе спичкой в темной комнатушке, узрел свою постель, разложенную на матрасе, кинутым прямо на полу у стенки, наощупь разделся и забрался под одеяла с великой думкой. Ему предстояло по-новому жить.
И к какому же выводу он пришел в конце-концов? К самому простому и естественному: главное, не суетится и не носиться впредь с собственной персоной – ни к чему. Потом ему показалось такими плоскими и нудными шутки и смешки окружающих взрослых над чем-то значащем, подобном тому, что он переживал, и сами сослуживцы обыкновеннее, чем думал о них, в том числе и Валя, которую он уже видел все реже, неохотнее и от которой уже отдалялся мысленно. Чтобы уступить ей не привязанность.
Везде уже пустел, сквозил простором Замбрувский краснокирпичный городок; все снимались с мест – повсюду возле зданий были накиданы всякие вещи в ожидании погрузки и вывоза отсюда; возле немногих грузовых и санитарных автомашин сноровисто сновали хозяйственники, командиры, шоферы, экипированные тепло, по-дорожному.
Задувал холодный ветерок. Белели обсыпанные мелким снежком, как синеватой крупой, доски, палки, крыши и блеклая трава, обращенная прерывистой, что рябь на воде, поверхностью к северу; прихваченная морозцем, осыпалась шелухой с кустарников последняя листва.
Антон возвращался сквозящей липовой аллеей к себе в часть. Когда взглянув попристальней вперед, вдруг заволновался и нахмурился невольно. Навстречу ему мягко шла она, Валюша, в шинели и беретке. Точно маленький, либо напроказивший, он нагнул голову: ему стало страшно и отчего-то стыдно быть наедине с ней. Было неудобно также, как всегда, и за свой допотопный вид в фуфайке и в порванных брезентовых сапогах. Он лишь поздоровался несмело, все же надеясь на то, что умом Валюша все поймет и остановит его своим чудным голоском, и замирая в ожидании того самого. И так было уж совсем прошел мимо нее. Чужой. Какой-то заколдованный. Однако, чувствовал, и она, удивленно онемевшая не менее чем он, проговорила на ходу потушенно:
– Здравствуй, Антоша! – словно тоже стыдилась чего-то теперь – и не могла первой опомниться, остановиться.
Тогда он глухо, сделав усилие, позвал ее:
– Валя, до свиданья, что ли? – сказал к спеху подвернувшиеся слова, а хотел бы сказать-попросить, чтобы она простила его за что-то скверное, за что ненавидел себя в эти дни. Да, было нечто нежеланное, насилие над собой. – Ведь мы тоже уезжаем. Знаешь?
Она развернулась к нему:
– Что, сегодня же? Готово? – не сдержала вздох.
– Все. Упаковались. Транспорт ждем.
И Антон с ней, было разошедшиеся на несколько шагов, вновь сблизились на холодной дорожке, засыпанной хрупкими мертвевшими листьями.
Сблизились под негреющим солнцем. Он подал руку ей. Она задержала его ладонь в своей. Казалось, оттого, что он позвал ее, она вновь преобразилась вся; она улыбалась ему, и ласковость светилась в ее теплых глазах с искринками. А солнечные лучи золотистые, как и тогда, когда – в первый раз – он увидал ее, били ослепительно из-за нее, играли в ее волосах, что ему опять было ломко глядеть в лицо ей. Но они были одни на тротуаре. И тут он особенно остро почувствовал вдруг ее всегдашнюю хрупкость и беззащитность.
Им никто не мешал. Никто не видел их вдвоем. Благословенный же был момент – тот самый удобный, когда им можно бы было поговорить друг с другом о чем-то самом главном. Ему все-таки нравилась Валя – она была очень мила, особенна… Да, как на грех, откуда ни возьмись, на шоссе, шедшую параллельно аллеи, выкатил на телеге согбенно сидящий поляк с бочкой. Рыжая его лошаденка как-то сама собой вкопанно стала с тоской вечной покорности в глазах – как раз напротив Вали и Антона; полусонный возница, держа в руках вожжи, и не подгонял свою лошадку, а с передка телеги уставился на них, стоявших среди осеннего запустения; он словно видел нечто диковинное, невиданное им здесь еще прежде. Там что вследствие этого сызнова скомкалась последняя встреча Антона и Вали: он по-прежнему засмущался, стал поскорей прощаться. То – немыслимо!
– Ну, надеюсь, еще увидимся с тобой, Валя? – сказал он робко.
– Я тоже надеюсь, – присказала она с легкой грустью. – До свидания! – Она, медля, сделала шаг в сторону от него.
– Пока!
– До свидания, Антон!
Он запнулся и потом пошел быстрей, быстрей.
Вдруг его слух уловил захватывающе-чарующую песню.
«Неужели вот этот – такой редкостный певец?» Он вгляделся пристальней. И увиденная им картина была для него столь необычной, бесподобной. По шоссе шагал прямо, даже величественно, положив на голову длинное двадцатидвухкилограммовое противотанковое ружье и не придерживая его руками, а лишь словно балансируя телом, стройный и сильный, видно, грузин-боец в серой шинели, истребитель фашистских танков, и так красиво – мужественно пел на грузинском языке о неиссякаемой любви к своей матери, к своей невесте, к своей Родине. И его гортанные звуки чарующе разливались и таяли в морозном воздухе под чужим небом.
Ничего естественней и величественней этого Антон еще не слышал и не видел. Его ожидание в душе чего-то еще неизведанного прекрасного вполне соответствовало этим подаренным ему звукам песни. Да, если бы он мог, он тоже так бы запел – пусть все слышат вокруг; ах, как здорово было бы, если бы он мог так петь и мог так любить. Несомненно же все, что было с ним хорошего, вместе с этой прекрасной песней, было для него сказочным подарком судьбы. Он знал это.
Х
Минуло еще несколько месяцев. Кашин урывками – между штабными делами – также занимался прежним рисованием портретов. И еще увлекся почему-то и тем, что с жадностью почти выслушивал правдивые исповеди о самих себе простых работяг-бойцов, с кем сближался в дружбе и кто так открывался ему. Иные рассказы их, как правило, отличались поразительно колоритной правдивостью, что и в книгах порой не сыщешь; а хорошие книги Антон любил всегда читать, читал их с сызмальства. Услышанные от рассказчиков яркие истории точно пробуждали и обогащали больше его воображение. Это был такой узорный калейдоскоп событий всяких – таких разнообразно насыщенных, цветных!
Уже шел апрель. Сырые дни. Теперь Управление занимало здание в приграничном с Германией польском городке. И здесь, мимо дома, уже тек поток изможденных европейских жителей, освобожденных из нацистских концлагерей; они, и полуобтрепанные, шествовали с каким-нибудь скарбом, с мешочками, с колясками и с тачками, обозначив себя различными флажками. Шли к вокзалу: хотели поскорей вернуться из плена к себе на родину.
Как обычно в третий отдел бодро, вкатился начальник-майор Рисс, в распахнутой шинели: он только что вернулся из поездки. И сазу же с порога направился к столу Антона, сообщил:
– Ну, теперь порадуйся, художник Кашин. Еще не догадался? Нет?
– Нет, никак, товарищ майор, – Привставший Антон лишь пожал плечами отрицательно: он терялся в догадках. Майор любил иной раз и пошутить над ним.
– Ты пляши: я нашел для тебя хорошего учителя.





