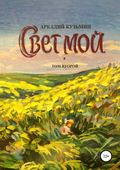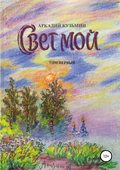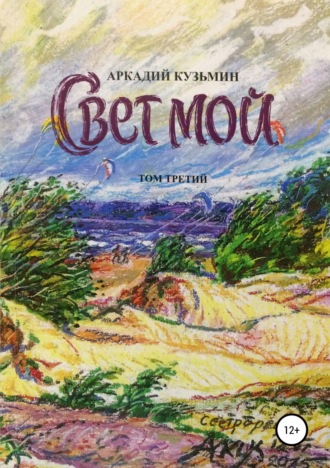
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
Они уселись в салоне автобуса. Торчащий черный дом искрасна тлел под лучами солнца. И вот полетели назад еще пустынные городские улицы. Клара прислонилась к кабине Саши, они оба довольные, оживленно переговаривались о чем-то.
«Вот же как просто все, – подумал Антон. – Вон какие у них счастливые лица; я не хочу им мешать своей серьезностью, ее выражением…» – Машинально он сунул пальцы в карман за платком носовым и неожиданно нащупал ключ к своему удивлению – ключ от комнаты, которую они снимали в Торуни.
Он подошел к кабине, посетовал на свою оплошность.
– Не горюй, друг, – утешил Саша, крутя баранку. – Может когда-нибудь проедем… отдашь. Если не забудешь. – И стал опять слушать Клару.
Они в конце февраля переезжали у Быгдощь. Через Торунь. Антон до самого Торуня сидел в салоне того же Яшиного автобуса, рядом же с майором Риссом, Коржевым, Сторошуком и, слушая насвистывая Яшины, маялся от возникавшей проблемы с забытым ключом. Прямо просить майора о том, чтобы заехать ради этого к Броневским, – у него духу не хватало.
И все-таки он позвал вслух:
– Товарищ майор, а товарищ майор!
Тот подозрительно оглянулся на него.
– Может, завернем к торуньским знакомым? Я ключ забыл им отдать… – Он вытащил его из кармана.
Но майор, старый человек, – верно, занят был чем-то важным, – лишь помотал головой отрицательно, как если бы он отказывал ему в игрушке какой.
И так Антон проезжал Торунь, и почти все здания, которые они миновали, казались теперь ему похожими на тот гостеприимный дом, где он встретил Ладу.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
Тогда же Антон, странствуя вдали от дома и беспокоясь о родных, по сыновному долгу писал матери, слал ей весточки о себе в воинских треугольничках; взаимно мать сообщала ему всякие подробности об их нынешней, еще не налаженной деревенской жизни, заботах. Однако она ему открывалась не во всех своих переживаниях и домашних заботах, словно оберегая его от напрасных волнений из-за этого. Потому-то иные из них оказались неизвестными для него – из-за отсутствия дома в этот период.
А здесь, известно, нелегко налаживались будни.
И покамест не оттого, что божья предсказательница в ту февральскую стужу внушала выселенцам, загнанным немцами в скотный загон:
– Попомните – еще взыщится с нас за внуков и с внуков за нас. Дела людей длятся и людьми же продолжаются.
Как в театре каком…
– А ты, Поля, сходила? – справилась вернувшаяся из Ржева Анна в июле 1943 года. Опустилась на скамеечку сбоку ее избы, у крыльца. – Уф! Устала…
– Куда? – спросила Поля.
– Ну, куда следует. По вызову дознавальщиков.
– А-а, сходила. Туда, в Алешево. Прогулялась, значит. – Поля подсела к Анне.
– И что ж ты сказала о пустобрешках? Что и я?
– Сказала, что не знаю ничего, никакой крамолы. Что тут говорить: получается как вроде б наговор, напраслина – никто же не видел этого ничего, окромя лишь нас, чего недостаточно. Да и после всего…
– Ну и ладно. Я тоже не хочу брать грех на душу. Мне легче простить. Я сказала военному следователю: вы уж сами тут решайте по совести, что сделать. А я – мать. Мне жалко всех людей, не только детей своих.
Вот как-то решилось все по-христиански: они по добру пожалели балаболку языкастую, трепливую, которая безжалостно, например, выдала немцам на расправу невиновного Валерия, Анна это помнила хорошо.
– Но Наташа и теперь, спустя целый год после того случая, еще сердилась на них, сестер Шутовых, за брата – не могла им простить ничего; она-то, вызванная повесткой в военную разведку несколькими днями раньше своей матери и тети Поли, и показала там против Лидки Шутовой персонально. На ту вроде бы дело завели…
Наташу трижды туда вызывали – приходил какой-то нарочный военный и приносил строгие повестки: «Срочно явиться в дер. Алешево». Она их проигнорировала. До деревни Алешево, из которой в последний раз гитлеровцы обстреляли Кашиных и других ромашинских возвращенцев, около семи километров, если не более. Пойти туда ей даже не в чем. Наконец она собралась. И насколько она была обычно смелой, звонкоголосистой, настолько внезапно струхнула, ушла в себя. Когда вошла в кабинет вызвавшего ее начальника, сидевшего за столом, в кителе с погонами. Это был сравнительно молодой капитан с пронзительным, бьющим в упор взглядом, под которым невозможно скрыться и испытывать который не хочется долго. И когда тот взглянул на ее повестку, то накинулся на нее распаленно.
– Что же не являетесь, гражданка Кашина? – стал он отчитывать ее, поднявшись из-за стола и прохаживаясь перед нею по избе. – Ведь я могу заарестовать и посадить вас за неявку, за отказ подчиниться советским органам. Ишь, какое легкомыслие! Значит, так нужны вы нам. Мы вызываем всех на допрос и знаем все про всех, кто как вел себя в период оккупации и кто сотрудничал с немцами. Но нам требуется помощь от населения. И мы на вас остановились – выбор пал… Будете нашим агентом. – Выговорившись так, капитан успокоился, стал более корректно-обходительным.
Наташа отказывалась наотрез, мотала головой. А он заставлял с угрозами… «Ну, попала как кур во щи», – думала она с ужасом, разгоряченная. Тем более, что ей запретили рассказывать об этом даже матери, не то, что другим: полная конспирация должна быть. Чтобы комар носа не подточил… Однако она не стала доносчиком, несмотря ни на что.
Полина продолжала между тем:
– На ком же у нас война выехала? Ты скажи мне, Аннушка.
– На всех, – сказала Анна. – Всем достало, достается.
– Нет, не поровну. Когда тянешь воз, тебе еще подкладывают сверх всего прочего. Если бы все у нас поровну делили меж собой меру несчастья, выпавшего на нашу долю, героев нигде не было бы. Незачем было б геройствовать. И враг бы не дошел досюда. Да кое-кто ждал его, учти!
– Может быть, Поля. Чувствую себя неважно. Хотя теперь верно, уже годы знать дают. Года да и время. Вот как зимой болит все, – думаешь: все, не доживу до весны; а вот как приходит весна-красна, – и как будто оживаешь опять в ожиданиях – себя чувствуешь лучше. А так надоело это все. Ой! Даже жить не хочу. Жизнь свою нам и вспоминать-то нечем. Была она вся в переживаниях, сколько ее помню. Да и сейчас все держит так. Только бы дождаться тех, кого ждешь… А там…
– Ай, Анна! – Полина вздохнула и замолчала. Это значило все, что угодно. – Право, ты святая…
– Наверно, мое сердце твердое: сколько оно перетерпело – и все до сих пор меня держит. Думала: ну, помру быстрей, чтобы никому не надоедать, а выходит, смерть от меня убегает, отступилась от меня, и я все живу, глаза мои все смотрят по-прежнему. Я скучаю, хотя и некогда вроде разогнуться мне, а о ком, сама не знаю. Что-то охота все время плакать неудержимо, помолиться совсем одной, на могилку Маши тянет – захаживаю.
– Родятся такие в сорочке, которые всю жизнь свою великомученицы. Ты, Анна, наверно, одна из них. Сдается мне, как я послушала тебя. Человек обязан делать только добрые полезные дела – он не один живет на белом свете, создан думать. А ничтожное добро невзначай у него получится в море лжи, зла, и гадости – он на весь мир кричит о небывалом прогрессе человечества и своей причастности к этому. Как же, мы поверили… А ты ходила в город?
– В военкомат. Чай, думала, исправят документ. На Василия.
– Ну и что ж, переписали?
– Дали от ворот поворот. С чем пошла, с тем и вернулась.
Анна потому отправилась в военкомат, что ей присоветовали переправить мужнину похоронку на ее имя, а то, так как извещение было послано на имя Наташи, получалась, будто Наташа, а не Анна, являлась женой Василия. Из-за этого могла потом возникнуть серьезная путаница; ходи тогда везде, доказывай всем, как должно быть по правде.
Но опять Анна пришла сюда, знать, не во время. На нее накричал здесь такой хрипатый начальник: мол что у нас и так дел много, а вы приходите сюда со всякими документами и еще указываете нам, что делать. Так она поплакала здесь, и он в конце концов обошелся и сказал ей, что этого мы исправлять не будем, коли из самой Москвы прислана бумага. Москве виднее было. И ничего не посоветовал, как быть дальше.
«Вот люди! – подумала Анна. – Ты пришла за делом – и нет ответа тебе, не способствуют ему. А мечутся по пустякам таким, – вспомнила она допрос. – Но мы еще живые. А он, Василий? Я плачусь вот… А какая жизнь была у него? Погиб в сорок пять лет. Почти десять лет провел в войнах. Работал в колхозе, как вол, а его подозревали в чем-то; члены ревизионной комиссии цеплялись, посадить хотели – был он поперек им горла…»
– И ты ему ничего не сказала? – спросила Полина.
– Ну, что я скажу? Пожала плечами – и повернулась к выходу.
– Ну и зря спустила…
– За то, наверное, таких людей – работничков помахивал Василий мой.
Так на том и кончилось ее, Анны, замужество, кончилось без почестей, наград и памятников – обычная история.
– Я вот о чем хочу поговорить с тобой, Аннушка, – приглушенно между тем сказала Поля, наклоняясь поближе к Анне. – Ты уж извини, не бросай мою мать, хоть она и сильно досадила тебе, – ты терпеливая, я знаю, да и сына не оставь, если что…
Анна тихо ахнула, раскрыв рот и прикрыв его рукой:
– Что ты, что ты, Полюшка, родимая… Может это тебе показалось так?
Вроде б она не случайно тогда, при угоне, на большаке смерти себе желала: то вновь повторилось; даже не желала она ее, а просто исживала, с достоинством могла встретить ее.
– Не, я знаю, Аннушка… Точно знаю…
– Ты хочешь сказать: скрипучее дерево больше живет? Что я всех переживу?
– Что ты! Я скажу тебе, что нас закалила жизнь. Но за нее-то ты плати когда-нибудь. Плати и… не греши…
В золовке было что-то от брата Василия. Теперь Анна могла лишиться своей последней опоры. Это было бы ударом для нее.
Отчего же можно умереть в полжизни? В самом расцвете лет своих. Все – причина и следствие. Женщина эта, как никто, все принимала близко к сердцу своему, болела, голодала, тащила все физически; и она прошла через такую жизнь во время немецкой оккупации – с игрой смерти… под дулом пистолета или карабина. Отчего ж еще ей умереть? Она как дерево была – крепкая. Сухопарая. С ухваткой мужичьей и бесстрашием, точно воин. И все тянула, тянула на себе.
«Печально, – думала Анна. – И кому ж она передаст жар сердца своего?»
И словно в подтверждение ее мысли Поля сказала, что жаль: не воспитала сына как следует. Сказала дальше:
– Пальцы сводит. Как понервничаю.
– Господи!
– Их вывертывает у меня. У-у! Руки отключаются, и все.
– Так что же: спазмы сосудов?
– Сердце… Колит, как иголками. И вот оттираю их. Не знаю… Наверное, ревматизм тоже… Все время от плеча правая рука болит. Сейчас на работах почувствовала.
– Может, от копки этой?
– От выселения эта заработала в наследство. А может, оно и раньше было, да прибавилось что-то еще… Кто знает.
Мимо шел куда-то Голихин. Как ни в чем не бывало, не помня ничего из старого, поздоровался, спросил:
– Две кумушки сидите и судачите?
– Ишь заважничал как: устроился на заработки на железную дорогу.
– Что? – переспросила Полина.
– Я говорю: две кумушки сидите – и судачите себе?
Ни Анна, ни Полина уже не ответили ему, занятые таким важным разговором друг с дружкой.
И самим существованием их ныне.
II
Они вынесли уже и тяжесть первоначального восстановления колхозного хозяйства.
Обязательная копка земли вместе с обработкой ее вручную, хотя все от мала до велика и втянулись уже в нее, изматывала до предела возможного – нету сил. Намахаешься, накидаешься и накланяешься за день – о-о! Гудят, ломят спина, плечи, руки, ноги – не разогнуться всласть; ладони – в мозолях сплошных от лопаты, пальцы загрубели, что наждачные стали; в глазах красные круги плывут, жучки прыгают; горят лица, накаленные земным паром, – нечем смазать их, чтобы защитить их от горения; побаливал живот – от того, что надрывались, и от пищи худой, отрубной. А дома – что? – еще свой план вскапывали, сажали картошку, свеклу (откуда-то семян понавезли – мешками), капустную рассаду, рожь посеяли. И Анна, Дуня, Поля ждали-считали дни, когда подымется зеленая ботва, чтобы ее можно было в варево пустить. Для подспорья.
– Бедненькие, до того устали вы, – сжаливалась Анна, как всегда, около своих, наработавшихся ребят, с готовностью подхватиться и бежать куда-то для того, чтобы сделать для них что-нибудь облегчительное. И когда ж только обзаведется колхоз лошадьми да тракторами? Будет же, наверное, возвращено что-то за тот колхозный скот, что был эвакуирован тогда, в сорок первом? Ненароком вы не слышали?
Саша только засмеялся:
– Мама, тебе бы председателем самим работать – не пойдешь? Все ты знаешь!
– Ну, так это, небось, каждому известно. – Анна не обиделась. – Для того же скот эвакуировали: возврат должен быть какой-нибудь. Так тяжело!
«Да, видно, назло это все, – подумала она, уверовываясь уж в закономерности всего происходящего. – Как мне говорил боец пребойкий, хоть и чахлый: «Да ты даже и внимания на себя не оборачивай, все норови – на других, в том кроется истинный смысл жизни. Другим еще тяжелее, чем тебе, учти; об этом нужно думать денно-нощно – тогда станет легче всем. Тяжести поровну разделятся, как и кусок хлеба. А мы, родненькая, всех переживем, что ты! Вон мое сердце с двадцать седьмого, нет, раньше – с двадцать шестого года, уже бьется-бьется, как мышь пойманная, а я все живу; представь себе, я еще не брыкнулся долой с катушек – прыгаю. Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось. Дружно – хвори одолеешь все».
Анна только и сказала ему, что у нее в двадцать шестом году первяшка – дочка Наталья – родилась и что с тех пор она была занята детьми. Бессменно при них. Никуда не отлучалась. Ни на фронт, ни в тыл. Увольнительных никто ей не давал.
Часто моргая глазами, Полина сказала, что взялись они вчетвером – три площадки там, за выгоном, и мотанули. Чуть пробороновали.
– Я, пожалуй, сделаю плужок самоходный, похвастался Саша. – Чтобы он пахал.
– Как ты сделаешь? – спросила Анна. – Какой умный!
– Не бери меня на пони, мам. Моторчик и колесики прилажу – будет люкс.
– Ну-у, какой ты шустрый, погляжу. Надо б раньше делать – не ломалась бы.
– А что, строил же наш батька всякие-превсякие такие механизмы и приспособления, и даже круподерки, мельницы…
Все: слетела с его языка растрава матери; сейчас тенью на нее хмурь опять найдет – вспомнится ей он, а также то, что с ним. Антон испугался за нее и чтоб заговорить ее – перебивчиво проговорил, как кидаясь в омут:
– Фу-у, мне жарко!
Тетя Дуня подхватила понимающе, хотя и сама была в переживаниях – не было ей слышно ничего о Станиславе, сообщений о нем никаких.
– Ну, жар костей не ломит.
– И кости наломало тоже, – сказал Антон дальше. Преготовно.
– А тебе не тяжело, как сидишь склоненный ты подолгу над рисунком?
– Об этом и не думал я еще. Не уставал с карандашом.
– Пашню пашут, так руками не машут.
– А где ж это видано, – опять заговорила с дрожью Анна, – чтобы жареная рыба и жареные птицы сразу – без труда – подавались бы на стол?
– Ну, ты, мам, загнула больно. Что мой плуг тут! Я что-то ничего из этого не пробовал еще.
– Может статься, и попробуешь когда-нибудь. Может, все вознаградится.
Пронесло, кажись.
– Если плуг свой сконструируешь, мой братец.
– А что, бляха медная! – И Саша, поднявшись, весело показал всем язык.
– Фу, нелюбязь! – Анна перед ним отпрянула, отмахнулась от него. – Лопату-то свою вывернул. Во весь рост. Нет тебе уема никакого.
– Вы пока сидите тут, в избе, я схожу-ка по своим делам. – Пошел он вон.
– Саш, ты, по каким? – вдогонку спрашивала Анна.
– Я сказал ведь: по своим, – огрызнулся он.
– Ну, неверный дух. Сказать еще не хочет толком.
– А скажи вам – запретите мне…
– Разве запретишь тебе? Ты у нас – беззапретность полная…
– Подумаешь! – и Саша вышагнул на улицу.
Да, если было в ком пристрастие к тому, чтобы что-нибудь мастерить отменно, так это было особенно в нем. Но только еще негде было ему развернуться с этим, а не то, что ему больше нравилось раскупоривать снаряды. Его выдавала стойкая тоска по плугу ли или по чему-то еще такому, приходящему к нему на ум. И он бередил всем этим еще чисто по-ребячьи. Как бередила, например, Таня. Помнившая спиленные деревья до того, как они были спилены, и жалевшая их и то, что их теперь не было, она приговаривала, когда заигралась где-то около пней, что она будет поливать водой тот отросточек, какой листочки пустил от пня тополиного, и тогда из них вырастит тополек большим-пребольшим, еще больше и сильнее прежнего. И она тогда будет гулять под ним, и у нее будет маленький жеребеночек, нет, не жеребеночек, а лошадка большая, настоящая лошадка будет бегать и летать. Как Таня и сама летает во сне.
Оживленная этим детским оживлением, Танечка в избу проюркнула – едва Саша вышел. Сообщила всем тоненьким голоском:
– Слушайте, я стих сочинила. Пло лошадку.
– Ну, давай, рассказывай.
– Вот. – И она стала читать его, стоя посреди комнаты:
– Бежит лошадка.
Прямо цветы помялись,
Будто бумажки помялись,
А облака кличат:
«Сюда, сюда, лошадка!»
И вот летит лошадка
Плямо в облака.
– Что, холесе? – спрашивала она тут же. – Я еще могу насочинять. И налисовать.
III
Сыновей Анна Кашина, конечно же, ждала домой (и спасшийся из лагеря Валерий уже больше года служил в войсках). Она регулярно слала им и также получала от них солдатские письма-треугольнички; она неотложно ждала их хотя бы потому, что вследствие всего перенесенного под фашистскими колесами еще трудно складывалась жизнь с малыми ребятками, хоть и улучшалась медленно: требовалась постоянная помощь в делах, чтобы как-то развернуться, выправиться. Но – само собою – она еще надеялась дождаться своего хозяина-мужа: в ней всколыхнулась и прибавилась опять надежда на то оттого, что неожиданно нашелся и нашел свою жену Дуню, прислав им письмо, воевавший Станислав, – и все-таки она думала вопреки всему, что и Василий ее вот-вот тоже объявится где-нибудь; думала так вопреки даже приговору наотрез одной нездешней молодой, но притягательной гадалки, которая ей запомнилась. Это – еще с лета 1944 года, с конца августа; тогда только что Кашиным поставили за счет государства избу в два оконца из отрытых бревен прежней их избы – отрытых из немецкого блиндажа.
Как-то одним ласковым предвечерьем Анна и молодежь – девчата, рассевшись на травке, перед уже новой кашинской избой и рядом с цвевшей, благоухавшей геранью, насаженной Наташей, вели тихую беседу. Вот любила Наташа и попеть, и повышивать, и с цветами повозиться, и поговорить душевно. Незадачка только та была, войной заданная, – просто же несчастье не только для нее одной: что такие, как она, девушки, сами цвели-невестились, а не было достойных им женихов вокруг, куда ни глянь, только одни подростки; рассчитывать можно было лишь на каких-нибудь застрявших на тутошних квартирках тыловников – уж без особенного выбора. И тут девичья беседа прервалась: царственно подошла сюда подвижная вся цыганочка, как картинка. Она попросила подать ей что-нибудь. Наташа сбегала в избу и вынесла ей большой кусок хлеба – примесного. Отдала. Как возблагодарит ее цыганочка (верно, дети были у самой) ! Быстро глянула в правдивые Наташины глаза, сказала ей:
– Давай за это погадаю. Так уйти я не могу. – Засмеялась.
Наташа стушевалась и отнекивалась:
– Нет, я никогда еще у цыганок не гадала; лучшей жизни все равно не выгадаешь ведь.
– Но я не цыганка, а сербиянка, – доверчиво пояснила неизвестная. Вынула колоду карта, на корточки возле всех присела и велела ей: – Нет, тяни любую карту, что приглянется.
Наташа вытащила карту, на которой значилось лишь слово «Москва». И тогда-то сербиянка сказала, обращаясь к Анне:
– Ну, береги, мать, ее: она – временная гостья у тебя, будет скоро жить в Москве. – И к Наташе снова: – У тебя сейчас двое ухажеров, но никто не будет с тобой; один через бумагу не будет, а с другим – не сойдетесь просто. Ну, не поладите… А будет у тебя девушка, чернявый молодой король и проживете вы с ним в согласии; и будет у вас мальчик и девочка, а больше никого.
И потом поразительно, но с какой-то неохотой, сказала она Анне, запросившей погадать и ей:
– У тебя одна дума – о молодом короле и старом. Молодой король вскорости придет к тебе, а старый – нет: его нет в живых, не жди его. – Вот что она выгадала Анне. На этом она споткнулась нехотя.
Сербиянкино пророчество действительно сбывалось. Что касалось Наташи, то первый ее ухажер, с которым она переписывалась, погиб: пришла похоронка на него, а со вторым она разругалась вконец; а что касалось молодого короля – Валерия, то он бежал осенью 43-го из немецкого лагеря – в селе Красный Бор (это под Смоленском) и вернулся в Ромашино в захолодившем ноябре.
Лагерь просто разбежался однажды утром. Проснулся в бараке Валерий, протер глаза и стал в испуге будить Толю и еще двоих товарищей: что такое? Лишь они остались за колючей проволокой, а весь лагерь и все село налегке бежит в лес, – уже в самом лесу мелькают платья, рубашки, зипуны. Подхватились мигом и они туда – подалее. Все перемешались, толклись в лесной гуще день, а есть что-то нужно. Добрый здешний мужичок попросил ребят найти его бродившую где-то здесь телочку, чтобы мясо сварить – в этих-то краях еще и животинка припаслась. Только телочкин след давно простыл: ее уже нашли, видать, и мясо съели другие бегуны из лагеря. Тогда нарыли неубранной картошки.
На следующий день владелец телочки пропавшей снова с предложением подстроился. Мол, немцы дают деру, кругом ездят, жгут все, а уже вроде бы вступили наши в Красный Бор. Пойти бы на разведку, что ль? Но ему опасно. А вот лагерникам все сподручнее как-то. Точно: им, ершистым молодым парням, было все равно, фашисты ли или наши там, убьют ли их или они уцелеют – абсолютно никакого страха не было у них. Как затмение нашло. Стало все трын-травой.
Все такое с ними стало, что жизнь сделалась для них сущим пустяком, только потому, что не единожды уже они, молоденькие, травленные и прозакаленные по-своему вершителями судеб с автоматами, не единожды уже седевшие, и среди них Валерий в неполные семнадцать лет, умирали мысленно и наяву после всех команд, построений и экзекуций лагерных, после всех неинсценируемых или отложенных в последний миг расстрелов – все похожее на то, что у гитлеровцев было также с пленными красноармейцами. Один адов круг.
И так легко, не сумняшись, пошли в разведку трое добровольцев: Валерий и еще один юнец, а с ними – согласившийся бывший наш сержант. Сказал он, что знает, как осуществлять такое дело, как разведка, – ведь разведчиком он был в Красной Армии до плена. Но, попав в окружение, сменил фамилию – другим назвался и поэтому в конце-концов стал таким же цивильным лагерником, что и все они, ребята, с которыми он был здесь.
Вообще, очень скоро, выйдя из-за оголившихся зарослей к селу (притаившись, было невозможно различить, что за конники там), счастливые разведчики встретились с советскими кавалеристами; она рассказали о себе, кто они такие, а кавалеристы в свою очередь сказали только, сожалеючи, что они были бы здесь еще раньше – окружили бы немецкий гарнизон (потому он драпанул, паскудный), да вот вражья авиация мешала им с конягами, хотя и не наносила она им большой урон. Кавалеристы эти были щеголи. Известно: не пехота; пеше они не ходили, не отмеривали километры.
И вот враз, лишь посланные опять в лес дошли с таким известием, все местные жители стремглав дали из леса стрекача опять в свое село; немедленно они потащили красным всадником из домов и погребков своих сало, мясо, булки и яички – все, что у них еще было, сохранилось непонятным образом. Ну, а лагерников, даже рисовавших все-таки собой в разведке, уж никто совсем не замечал. Наступила самая пора навостриться им домой, не откладывая ни на час того.
Меньше месяца они побыли дома (и Валерий тоже) – попризывали на действительную их. Кого на фронт направили.
А Валерий угодил под Улан-Батор, как с удивлением узнал из его первого же письма Антон; догадался он просто по маленьким цифиркам, что проставил брат над буквами, в обход цензуры: выписал в таком порядке эти буквы – и тогда прочел название этого монгольского города. Прочтя, сильно удивился. Не ошибся ли?
И отсюда уже долго – полные семь лет –протянется, протянется без всяких отпусков (как и у отца его, Василия, и потом продлится у Антона также), дальневосточная служба Валерия, включая дни его участия в сражениях с японскими милитаристами в Манчжурии, на Сахалине, на Курилах и при освобождении Китая.
Да, служба тогда была долгой, потому как это были и такие годы для нас всех. Потому как неистощенная и не напрягшаяся и в сто раз против нашего в этой мировой войне, не напрягшаяся даже никаким воображением, милитаристская военщина США, желая сама везде господствовать и разбойничать – не хуже усмиренных только что, уже подвесила за хвост над миром атомную бомбу и пугала нас. И по этому сценарию даже правительство Великобритании, тоже наш союзник по антигитлеровской коалиции, разрабатывало, как известно теперь, точные планы атомной бомбардировки 56 крупных советских городов.
В письме материнском не про все напишешь и поведаешь, как на духу сыновьям.
“Видно, перегружаю себя, оттого болею: часто печень мучает, но выходит смерть все убегает от меня и я все живу… А праздники у нас до войны бывали шумные с плясками, а нынче шуметь больно некому. Отшумелись и большого шума 1 Мая не было, а были дураки из молоденьких. Они ни один другого не умнее и ничего-то не подействует уже на них. Словно ветеран какой за столами уже председательствует Голихин Семен – смертью сына заслонился. Мне ведь давно еще в выселении такое снилось, не поверила я. А председательница наша тоже нос воротит, важная вся, в партию вступила…»
Пока Анна писала так, она раздумывалась обо всем; ее одолевала дремота, зевота, был вечерний час, и ручка падала из рук ее. Но все прошлое и нынешнее, само по себе соединяясь в ее разуме, в голове у ней гудело, пред глазами ее явью представало, хоть давно и отошла в небытие оккупация немецкая – и навечно отдалился отсюда гул войны.
– В Ромашкино сейчас вы не попадете – там запретная зона у немцев, – с такой определенностью говорил им, беглецам-выселенцам, в феврале 1943 года бывалый, приставленный к лошадям, военнопленный красноармеец.
Он не уточнял, как они не попадут: не имело то значения.
А они все-таки пошли, фронт переползли, но пришли к себе домой. Так и тут – с гаданьем этой сербиянки – она всякое навыскажет! Нет, Анна ей не верила, едва вспомнила ее и нагаданное ею – что не нужно ждать Василия. И в ушах у ней, кажется, прорвался вновь ветровой вой пурги, как и тогда, когда они путались, гонимые, под колесами у оккупантов.
Как же звали ездового-то? Федором, кажись? Где-то он теперь? До самого Берлина с немцами отпятился? По какому-то расчету, что ль? И где, Анна, остро вспомнила, тот сердешненький боец, отставший от своих осенью, тот, который не смог даже выпить поданную ею кружку молока – его настолько колотила дрожь и которому расчетливый Артем Овчинин сдаться врагу присоветовал? Сдаться присоветовал – и сам поплатился за расчетливость.
А ведь они, сирые, сидючи в окопишках под бомбежками, бывало, мечтали о немногом – лишь о том, что после войны уж не будут покупать ничего из тряпок, мебели, а будут только есть получше. Вот как.
Почти сразу после освобождения откуда-то в избытке поступили сюда семена сахарной свеклы. Это было дело. Свекла была всюду: ее сеяли все. И потом сушили. Девятилетняя Верочка, хотевшая есть, говорила Анне:
– Мам, можно я на печку влезу, полежу?
– Ну, иди, залезь, – разрешала Анна.
Залезала та на печку; дырочку в мешке с сушеной свеклой проделывала, таскала ее потихоньку и жевала там.
Анна окликнет, окликнет ее:
– Спишь ты, Вера? А, Вера?
Молчок. Та притихнет чуть – и потом опять за свое занятие.
А в колхозе и лошади, что появились (больше было, разумеется, волов, которых прежде и в помине тут не было), только слушались матюгов. Слышит председатель: молотилка в шоре встала, а на молотилке этой с завязанными глазами лошади-доходяги по кругу гоняются, но вдруг стали, – летит сюда на тарантасике своем, исходит блажью. Как трехэтажным матом заложил – конь так понес его, что за полверсты сразу вынес, только кудри председательские соломенные развеваются. У молотилки же четыре девушки управлялись. Посмотрели она на такое горячее руководство своего председателя – и давай пробовать по-председательски тоже ругаться на безвинную скотину, когда останавливалась та. А скотина и вправду вроде б мата боится, а больше ничего. Договорились они меж собой по очереди сквернословить. Вот веселая работа пошла! Ни тпру, ни ну не надо говорить. Одна что-нибудь пульнет – и все остальные надрывают животы, лежат, смехом давятся.
И другие последствия также сказывались. Кое-что шло наперекос, не развертывалось, как лепестки в цветке, естественно – правильной формы, потому как кризис в руководстве. На местах – порой были поставлены случайные руководители, орастые, с лужеными глотками, – тоже было вследствие разорительной войны и нехватки кадров и их расстановки. Как всегда это везде было и есть; так было и в начале войны, за что многие люди своими жизнями расплачивались.
Так, Наташа учительствовала целый год в сельской школе. Дети льнули к ней. Она любила возиться с ними. У ней не было пальто и ничего такого из одежды – она ходила и зимой в суконном костюме, а туфли сама мастерила, – верх из парусины, а низ – как попало. Но в январе РОНО посылало всех недипломированных учителей на полгода на курсы повышения квалификации в Калинин. И Наташа, придя в РОНО, попросила ей помочь – для того, чтобы ей было в чем-то поехать на такие курсы (а поехать она хотела), – выдать валенки, либо еще какую-нибудь обувь. А здесь взглядом ее смерили работники РОНО, культуропроизводители. И ответили с чиновничьим бездумством ей, девчонке: знаете, мы здесь помогаем в первую очередь тем учителям, кто не был в оккупации. Как приклеили тотчас порочащий ее какой ярлык, что с ним уже ни в какую следующую очередь не становись – везде дадут отбой. Ждать нечего. Наташа покраснела, повернулась, тихо удалилась. Ей не помогли. А через некоторое время прислали ей замену – дипломированного учителя. На те же 46 рублей в месяц. А ее перевели работать избачом (где у ней, кстати, больший заработок был), и одновременно она работала также и на опытном участке, где была гарантированная оплата: 2 рубля денег и 2 кг хлеба на трудодень. Опытный участок сдавал государству хлеб и по договоренности с колхозом, на чьих землях все экспериментировалось, так оплачивался труд колхозников, приданных этому участку.