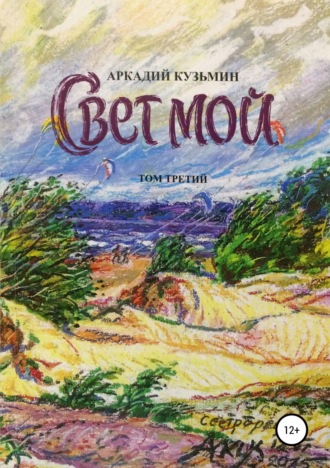
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
IV
И все бы ладно, да сельсоветом единолично вовсю заправляла разбитная, гремущая и курящая безмужняя Уланиха, под хвост которой частенько попадала шлея и распитием с которой водки и другой крепкой отравы не стеснительно хвастались близкие ей, или точней, приближенные к ней товарки. И то правдой было, не прибавлено ничуть. Так вот однажды она, получив разнарядку на выделение колхозников для отправки на рубку леса, в бригаду таких рубщиков назначила и Наташу также. Ехать же Наташе было не в чем, а тут и мать еще слегла сильно. Тогда Уланиха прислала ей повестку на стекольный завод по вербовке – в Ивановскую область. И от этого Наташа отказалась. Принесла обратную повестку в сельсовет Уланихе:
– Не могу. Мать лежит больная, в доме еще трое маленьких на мне.
Уланиха бесовски стрельнула глазами на нее, оскалясь:
– Езжай! Мы тебя телеграммой вызовем, если что…
– К холодным ногам матери? – сказала Наташа. – Нет уж! Спасибо…
В отместку Уланиха тогда отобрала у Кашиных хлебную карточку, которую выдавали на малолетнюю Таню – положено ее было выдавать. А Лидка Шутова после этого выпила разок с председательшей, вышла от нее и похвасталась всем запросто:
– О-о, я выпила с ней, она мне и карточку хлебную вручила – наверно, Танину. О-о, как!
Тут задетая за живое Наташа написала письмо в Верховный Совет СССР на имя Сталина, оттуда быстро запрос сюда, в исполком, дали. Уполномоченный по сельсовету Мушкин вызвал виновницу всего в исполком и в присутствии Уланихи отвесил пощечину Наташе – якобы за клевету на органы власти. Потом состоялось общее колхозное собрание в неполном сборе. Все на нем, как водится, молчали. Один дядя Афанасий (из рядовых колхозников) выступил, сказал:
– Ну что вы, это по глупости девочка написала… Не трогайте ее…
Так и отписали в Верховный Совет СССР.
А Наташу в суд поволокли – за клевету. Уланиха всех везде переговорила. Со своею глоткой прокаленной, проспиртованной. Наташа не пошла туда.
Очень кстати вовремя повезло: Уланиху, как председателя сельсовета, уже замещал дослужившийся до этого Миронов, совсем иного замеса человек, верный, приветливый, знавший всех и Наташу с пеленок. Он-то и присоветовал ей отечески:
– Послушай меня, дочка: уезжай куда-нибудь на время. Ну, исчезни пока с глаз долой Мушкина да этой парашютистки. Она – черт здоровая, как камень, что лежит поперек дороги; она взбалмошная баба, жертва своего характера. Ведь сожрут тебя, не ерепенься. А так… На нет и суда нет. Поняла?
И для этого он выдал ей справку, удостоверяющую ее личность в том, что она в таком-то колхозе работает, – натуральный документ на всякий случай.
Матери заметно полегчало – она стала с кровати подниматься, по дому опять хлопотать, и Наташа снова – во второй раз поехала в хлебную Латвию, в которой многие отсюда, доезжая и работая, даже проживали понемногу, а некоторые так и оставались насовсем, но в которой, к несчастью, было очень неспокойно из-за бандитизма националистов, вырезавших, случалось, целые семьи коммунистов. Как пустилась Наташа на такое в даль неведомую – на подножках вагонов ведь ездила! Потому вся раздрызгалась тоже до хвори. Кофточка у ней хорошая, синяя была – из последних – да и ту отдала за краюху хлеба. И работали там. И по миру ходили. Вернее, одна из них, трех, просила милостыню; Наташа не могла подаяние просить: ей было очень совестно за это.
Видел бедственное положение приезжей девушки один положительный такой старик – латвиец, кому она, Наташа, приглянулась еще в первый свой приезд в здешнее село; он страстно захотел на ней жениться: сделав ей предложение на этот счет, торопил ее с ответом. У него-то был отличный ухоженный дом, целое хозяйство, сад, коляска выездная; только замуж выходи – будешь полновластной хозяйкой всего. На всем готовеньком, – уговаривал он. – Однако, каким ни заманчивым казалось предложение старика, Наташа не могла не отказать ему, хоть и огорчила его, не желая того нисколько.
Так как Наташа не показывалась в суд городской, к Кашиным приехала сама прокурор и у них заночевала; любезно она порасспросила ее как следует обо всем, что касалось судебного дела. Затем она вызвала ее к себе в прокуратуру и здесь объявила ей:
– Ты вот что, Кашина Наталья, скажи этому уполномоченному Мушкину – пусть он больше не трогает тебя. – И сделала глубокую затяжку папироски.
Так и затихло все. Без него – и суда. И без публичных, конечно, извинений Мушкина.
Над своим письмом, в котором Анна ничего про это не писала Антону, она один раз даже вспрыгнула из-за стола: чуть задремала – сразу сон. И вдруг ей показалось, что дождь сейчас как лупанет, так все стекла в их двухоконном доме разобьет. Потому она и вспрыгнула так – испугалась.
Смеялись над ней Саша, притомившийся у печки, и Наташа; Таня тоже заливалась колокольчиком: смешно – у ней температура уползла куда-то, уползла, и все. Где ее найдешь?
А пришедшей ночью, в 3 часа, через все Ромашино бежала Полина – скорей к пожарному колоколу! И забила вот в него, будоража, подымая всех односельчан:
– Война кончилась! Кончилась! Мир!
V
В те дни и бывалому Косте Махалову были знакомы могущие быть перипетии в военной службе. Он это на себе испытал. И помнил всякое.
В знойном, как спелое, налившееся соком яблоко, августе 1944 года особый батальон морской пехоты, в котором Костя, воюя третий год, служил старшим матросом, вышел, наступая, к Днестру через Овидиополь – маленький, подобно табакерке, типичный южный городок, лежащий как раз против Аккермана, который еще безрассудно удерживал отступавший неприятель. Теперь им, морским пехотинцам, предстояло форсировать здесь широкий – почти двенадцатикилометровый лиман, чтобы высадить за ним десант.
Задача была предельно понятной, как дважды два, если не сказать тут большего; для них, молодых ребят, побывавших уже в разных схватках и не раз уже высаживавшихся в Крыму, особенно под Керчью, а потому почти не ведавших никакого страха в ратном деле, это стало какой-то обычной привычностью, никак не исключением. Собственно без этого все они, молодцы, похоже, и скучали, изнывали как-то иногда, словно знающие кое-что профессионалы, оказавшиеся вдруг без своей привычной работы, хоть и вынужденно они совершенствовались (и на занятиях даже) постоянно в навыках десантников. Несмотря на то, что Махалов, как он справедливо считал, познал в совершенстве на практике и строевую подготовку (занимаясь еще в морской школе в Ленинграде) и штурмовые приемы в атаке. Раз он было не пошел тренироваться на некую высотку – у него дыхание что-то сбилось, стало спотыкаться; а врача, или медсестры, не оказалось рядом, чтоб определиться с недугом. И за такую самовольность отлучки он отделался пятнадцатью сутками гауптвахты. Сущий пустяк для него, так как с ней он, ершистый, познакомился накоротке еще в той же спецшколе. Не без этого.
В немилость к начальству он попадал не раз. И сопротивлялся перед ним. Всяким. Он отстаивал справедливость, свое достоинство, где то бы ни было. И кем бы он ни был, в каком качестве ни являлся. Прекрасная черта характера. Еще не сломленного ничем.
Но могло быть и хуже. Его предупредили, что возиться с ним не станут больше, ибо уровень дисциплины в Советской Освободительной Армии должен быть высоким. Однако ему снова повезло: последний раз его неожиданно выпустили из гауптвахты досрочно.
Весь батальон придвинули к Днестру. Десантники вошли днем в пустующую деревню и на следующую ночь остались в ней.
– Эй, Махалов! Костя! К лейтенанту! Живо! – позвал сверху сочный хрипловато-властный сержантский голос, донесшийся до недавно отрытой траншеи над водной гладью.
Нагретый летний воздух был по-южному густ, с горьковатым запахом полыни. Стояли солнечные дни, какие лишь бывают в августе на юге: раскалено-звонкое небо, белый нагретый камень и белые стены полуразрушенных городских домов (аж глаза слепит), и совсем мирный покой прозрачной речной воды, полыхавшей ослепительной сыпью и указывавшей на близость Черного моря.
Но Махалов, присевший на камень, и не шевельнулся даже. Подверженный какой-то быстрой, неуловимой смене настроения – от беспричинного веселья до непонятной, терзающей грусти по чему-то или отчаяния даже (он сам иногда не понимал себя, своего загадочно-неясного состояния, не понимал хорошо, что именно творилось у него в душе), он то ли ничего не слышал сейчас, то ли сейчас решительно ничто на свете не касалось его, или, по крайней мере, если касалось, могло подождать. Как будто он не должен был бы быть здесь, а где-то ждало его что-то настоящее, неотложное.
Он сидел на берегу Днестра, среди розоватого известняка и островков с травяным покровом, – перед ним качались под горячим полуденным солнцем и налетавшим порывами ветерком уже сухие, омертвелые былинки; он задумчиво, скосив клейкие зеленоватые глаза, глядел и глядел на мерцавшую синь поверхности полноводной реки. И чувствовал терпкую горечь былинки, которую перекусил и держал во рту.
Впрочем Костя слышал и ласковый ветерок, приятно шевеливший его жестковатые густые черные волосы, и пытался вспомнить, где похожее уже было когда-то с ним – похожее чувство. Он третий год находился вдали от родного дома. И хотя был вторично ранен чуть более полгода назад, но чувствовал себя физически твердо и уверенно; стоял крепко, как вон тот развесистый каштан, под которым играли в домино его товарищи; полный сил и соков. Только эта рана, полученная глупо им от фрица под Новый год, будто еще чуточку саднила и ныла, что и довоенный косой порез на подошве, заживший длинным швом; он порезался однажды при купании с отцом – отличным пловцом – в Черном море, под легендарным городом Севастополем, во время последнего отцовского отпуска. Иногда нога в месте пореза ныла тоже, и от этого ему становилось приятней и грустней всего: порез напоминал вдруг ему те безвозвратные давние дни юности, тишину, и теплое и шумливое море, которое он полюбил, и лодки, и шлюпки, на которых он теперь ходил в десанты, и веселый гомон и гвалт ребятишек, и шум и плеск, и брызги волн под ослепляющим-таки солнцем, а главное, ту беленькую девушку, которая у моря оставила в нем навеки неизбывную грусть по чему-то такому тайному, чего раньше в нем, казалось, не было нисколько, нет, не было ни за что и быть не могло. Никак не могло. При его-то характере. Смешно!
Там, под каштаном, играли в морское домино. Долетали отдельные слова друзей:
– Дуплись!
– Эх, дупель обрубили!..
– Вот как я! Зашел с общевойскового… И твой засушил.
– Ну, сто зе, сситай! Пустышка…
– Сухой козел! Трудовой! Полезай под ящик!
И тут Костя вдруг повернул лицо: его кто-то тронул за плечо.
– Эй, Костя, – над ним возник большой добродушно-насмешливый Коновалов, сержант. – Ты не слышишь меня, что ли? Очнись. Тебя лейтенант Рыжков зовет. Вызывает. Быстро! Быстро!
VI
– Да? – «Так и есть!» – Махалов чуть поморщился – был недоволен лейтенантским вызовом: у него происходили с ним, как только тот появился в их роте, бесконечно-неприятные столкновения; но, не поворачивая головы, скосив лукаво-внимательный и пристальный взгляд, оглядел разыгравшихся поблизости своих товарищей, с кем предстояло в шлюпке плыть к тому берегу. – Что же, что же ему нужно снова от меня? Он не сказал? Может снова засадить на губу?
– Ты поди к нему – быстренько узнаешь сам; потерпи пока, не мучайся, – отвечал меж тем сержант небрежно – весело, свойственно своей натуре и удивительной находчивости. – Я-то только понимаю так, что тебя не на свидание зовут, синьор. – И еще прихмыкнул, видимо, от доставленного самому себе удовольствия тем, что он сострил над сослуживцем – возвратил причитавшийся ему с утра должок.
И после этих слов Махалов выпрямился, но только быстрым, колючим взглядом, каким мог одаривать окружающих, одаривать, правда, изредка, зыркнул на неуязвимого насмешника и подтолкнул его в плечо, прося его посторониться с тропки, дать ему дорогу. Больше говорить он не хотел с ним ни о чем. Затем, молодцевато надвинув старенькую пилотку на шевелюру (в их обмундировании была какая-то смесь – полуматросская – полусолдатская форма) и удачно ударив носком сапога по валявшейся консервной банке, загремевшей по откосу (он страшно любил когда-то футбол и бывало до упаду гонял мяч с дворовыми мальчишками), вразвалку направился наверх, в хату, в которой – возле запыленных акаций и трех пирамидальных тополей – квартировал помкомроты, лейтенант Рыжков, их сравнительно новый командир.
Город был начисто опустевшим пристанищем: жителей заблаговременно из него эвакуировали, чтобы не было напрасных потерь в случаях боев, неприятельских обстрелов и бомбежек. Ведь здесь фактически проходила сейчас линия фронта.
– Ишь как смело пошел, храбрый зайчишко… – проурчал вслед Махалову знакомый голос.
И кто-то еще поддержал голос вдогонку в той же шутливой манере:
– Ну, с такой бандитской физиономией – это прямо уголовная личность среди нас. Я б на месте лейтенанта просто побоялся связываться с ним. Себе дороже. Где ж тут уважение?
Однако шедший вперед Махалов уж им не отвечал: пускай по-зряшному потреплятся и позабавятся ребята. В этом нет ничего плохого для него. С него нисколько не убудет, он так понимал. Главное, в жизни нужно все делать по-своему и не поддаваться никаким уговорам и ни на чьи авторитетные суждения, чтобы впоследствии тебе не было слишком больно, больно за себя, почему-то подумалось ему. Будто он сам с собою разговаривал. Вот диво-то!
Ранее вот какой инцидент произошел. При возвращении в казарму с тренировки морские десантники сорвали с наклонившейся над забором увесистой яблоневой ветки несколько забуревших яблок, и лейтенант Рыжков, успевший заметить их вольность, мигом засвистел в милицейский свисток, который носил при себе, – надо же, здесь, в только что освобожденном от немцев городе! Во время-то войны! Поэтому все ребята-десантники дружно засмеялись: они понимали юмор! Кто-то из десантников вопросил:
– Это кто же так свистнул в свистульку?
– Да наш офицер-милиционер, – громко сказал бесстрашный, как черт, Махалов. – Кто же еще может быть, кроме него, всевидящего… – Никто!
– В тылу ведь, известное дело, – поддакнул кто-то. – Можно пустяками заниматься, быть бесстрашным со свистком.
– Разговорчики! Отставить! – накинулся лейтенант на них, говорливых.
И с этого дня – как что – всякий раз придирался к балагуру Махалову, чувствовалось больше, чем к кому бы то ни было из подчиненных, наперед считая его зачинщиком всего дурного в батальоне. Тем более, что такое положение еще усугубил побег Махалова с тренировок на фронт.
Теперь, когда Махалов вошел в хату, которую занимал лейтенант, тот, измученный, тихий, сидел на скамейке с расстегнутым воротом гимнастерки, без фуражки. У него было по-мальчишески круглое и грубоватое лицо, ничем особенно не выделявшееся, с обыкновенными глазами и губами, еще не приобревшими твердую складку в уголках; некоторая суетливость движений выдавали его неуверенность, что ли, в его командирских возможностях или еще в чем-то. Но не исключено, что такое воздействие на него оказывал сам вид матроса Махалова. Да, открытая физиономия Махалова, его бесшабашность поначалу всегда не располагали к нему с первого взгляда, вызывали скорее подозрение у тех, кто не знал его хорошо. По-первости думалось: уж не пьян ли он? Однако душевнее парня не было на свете. И это тоже знали все, кто знал его хорошо, ходил с ним в десанты.
Лейтенант, привстав слегка, протянул Махалову плоскую руку, твердо поздоровался с ним. И смущенно тут же зачесался, морщась от боли: хотя в домах не было никого из жителей, так как они были выведены из города на время боев, здесь, во всех хатах водилось невиданное количество блох, и они-то жутко донимали каждого квартиранта. И вот этому-то обстоятельству Махалов вдруг улыбнулся при виде ротного командира – улыбнулся не без некоторого удовольствия – в самый неподходящий для этого момент.
– Все ребята измучались, не горюйте, – вырвалось у Махалова от всего сердца.
Но лейтенант прямо сказал, что у него, должно быть, какая-то дурацкая кровь: ни у кого после блошиных укусов не остаются такие красные пятна, как у него.
Острый на язык матрос немедленно воспользовался оплошностью своего командира:
– Товарищ лейтенант, родительская кровь не может быть дурацкой.
– Да, не может быть, – миролюбиво, не желая замечать его колкостей, признался тот. – Я родителей любил и люблю… Я тоже городской житель, как и ты, и редко встречался с этой насекомой пакостью, как и с комарами. Лишь тогда, когда из Москвы выезжали на дачу, попадали в лес, когда отец охотился или бродил, что турист. Он был большой любитель природы, – сказал он грустновато, и Махалов посмотрел на него внимательно, ожидая, не скажет ли он что-нибудь еще. Но он больше ничего не сказал по этому поводу. Только показал ему обнаженные по локоть руки, все в красных пятнах. И стал их чесать.
– О, действительно, – подтвердил Махалов. – Только не расчесывай, ведь хуже будет. Нет, а у меня почти ничего не видно, хоть кусают иногда тоже чувствительно. Уж скорее бы отсюда дальше пойти.
Подготовка к операции по форсированию Днестра была уже закончена три дня назад, были сделаны замеры шлюпок этого лимана.
– Ты водку получил? – спросил затем Рыжков, поправив рукава гимнастерки и застегнувшись.
– Да, получил.
– Ну-ка, возьми еще мою. – Он встал и, взяв со стола флягу, протянул ее ему. – Тебе мало, может быть. Ванов подвернул ногу и сказал, что ты заменишь.
Давали им перед атакой по 250 грамм.
– Ненужно. Перед боем я не пью, чтобы голова была светлая.
– Ну, тогда так возьми, чтобы не мешала мне. А после боя опрокинем, если останемся в живых.
– Товарищ лейтенант! – весело воскликнул тут Махалов и заговорил с ним, как личность, хоть немного и нахальная, но все же не без царя в голове. – А почему бы не остаться нам в целости и сохранности, а? – И, послушавшись, небрежным, но ловким движением взял фляжку у него и подцепил ее к своему широкому тугому поясу, как бы выполняя, прежде всего его приказ, а никак не личную просьбу, – он был отходчив, но отнюдь не с таким человеком, говорил он себе. Он только теперь заметил, что командир писал письмо – лежало перед ним.
– Матери?
– Да.
– А матери не годится печаль описывать.
– Да, наши личные счеты должны быть сведены на нет; перед нами общий враг, – примирительно сказал Рыжков, дрогнув голосом.
– Есть? – Махалов взял под козырек по уставу, словно бы теперь соглашаясь с ним в том, что перед ним был общий враг, а его нужно было одолеть до конца во что бы то ни стало. И он был точно такого же мнения относительно своего главного занятия, из-за чего и находился здесь. Главное его занятие теперь было служение Родине в трудный для нее час, непосредственное участие в боях за ее освобождение от врагов; и, как патриот, он не мог остаться в стороне от того; и то, что осложняло это, он считал, было проходящим явлением, временным налетом, и только.
– Ты плаваешь хорошо? – спросил дальше лейтенант – еще миролюбивей.
– Вроде б на воде держусь.
– А я, признаться, слабо; я боюсь воды: раз всерьез тонул. Люди спасли. – И он улыбнулся беззащитной улыбкой детской, показывая ровные белые зубы.
И Махалову опять вспомнились довоенный Севастополь, море и улыбка одной кареглазой девушки. Почему она вспоминалась так ему в трудные моменты. Она являлась перед ним. И он вдруг говорил себе с удивлением: «Вот она! Вижу ее». И уж после этого легко преодолевал свои сомнения в чем-то. Так было всегда с тех пор. Ему было странно, как будто стыдно (он еще стыдился своих чувств, старался не выказывать их) и в то же время радостно в высшей степени.
– У тебя-то что с родителями?
– Не знаю. Мать эвакуировали.
– А отец?
– Погиб в сорок первом. На фронте.
VII
После дополнительного дневного сна как-то легко и быстро ходилось, думалось и делалось все-все под влиянием, должно быть опьянения своей лихостью и молодостью от предстоящей вскорости боевой операции.
К форсированию лимана, назначенного в полночь на двадцать первое августа, все успели, хотя и не без накладок, заблаговременно, не в спешке; ниже по течению Днестра произвели, как водится в подобных случаях, соответствующие замеры шлюпок, чтобы наиболее точно определить время подхода к цели – главным образом для взаимодействия с десантниками авиации и бронекатеров и затем прорыва катеров с танками. Предполагался как бы обхват Аккермана. Шлюпки, числом свыше четырехсот, предназначенные для проведения этой важной десантной операции, были складные фанерные плоскодонные; их, быстро рассредоточенные вдоль берега, подтянутые к воде, и развернули, как только завечерело и начали сгущаться вечерние тени. Каждая шлюпка брала экипаж в количестве двенадцати человек. Это значило: десант включал более четырех тысяч бойцов – автоматчиков – довольно внушительную десантную силу. Надо при этом учесть, что почти все участники его были уже обстреляны, обладали опытом высадки.
На воде за все и всех отвечал шлюпочный командир: он считался старшим, как капитан. И поскольку на Махалова теперь были возложены такие обязанности, он лишний раз – напоследок, перед самым выступлением – придирчиво проверил готовность своей шлюпки: хорошо ли она скреплена крючками в том месте шва, где она обычно складывалась пополам и где была резиновая прокладка, надежно ли вставлены в борта банки для сиденья, в исправности ли планширя – уключины для весел, в комплекте ли весла, и не дает ли днище течь. Так же слышно (и отчасти видно) хлопотали в последние минуты возле распластанных шлюпок и все остальные их командиры: ведь какой-нибудь недосмотр чего-нибудь мог бы дорого всем обойтись на воде да еще в жестоком ночном бою. Участия в нем, казалось, ждали слишком долго: была непростительная пауза тогда, когда десантники снова и снова тренировались в тылу, на высотке, которую всю излазили вдоль и поперек и которую возненавидели за это на всю жизнь.
Махалов, как и все его товарищи, уже был в одной тельняшке. Это было славной матросской традицией не нарушаемой никем: когда морская пехота ходила в атаку, она сбрасывала фланельки или гимнастерки, или робы, и оставалась в одних тельняшках и бескозырках, чтобы вызвать больше панику у гитлеровцев, смертно боявшихся лихих матросских атак, и в маскхалатных брюках – с еще пучками торчащей зеленой мочалки – под цвет травы (для маскировки); за широким поясом-ремнем торчали рожки автоматные, простой наган с барабаном, гранаты. Вид вполне внушительный. Как-никак могущий внушить агрессору должное уважение…
Помкомроты – лейтенант Рыжков – был с расстегнутым воротом гимнастерки, из-под нее виднелась тоже тельняшка; на нем надеты были брюки-галифе и легкие брезентовые сапоги, и был он подпоясан также матросским ремнем, как и все десантники. 18 августа вся подготовка к десанту была закончена. 20 и 21 августа наши вели обстрел к югу от гирла.
Эта теплая августовская ночь, как нарочно, выдалась очень тихой и звездной. Тишина разливалась над водой, лишь над ней плыло урчанье кукурузников, которых привлекло командование для маскировки шума весел, когда четырехсотшлюпочный десант, стараясь не шуметь или шуметь как можно меньше, погрузился при полном вооружении на шлюпки и, тихо гребя веслами, отошел от берега, направляясь как бы двумя потоками в обход Аккермана. Из района Каладлея и Роксаллея. Летчицы-женщины, кружа на кукурузниках, вдоль противоположного берега, изредка сбрасывали маленькие бомбочки.
Шлюпки, как полагалось в такого рода операциях, следовали в три колонны – в фарватер первой, чтобы потом, на подходе к берегу, занятому неприятелем, развернуться веером и немедля рвануться вперед, к цели. Еще при подготовке (или, вернее, изготовки) в шлюпку Махалова впрыгнул штурман с компасом, объявил:
– Мы будем направляющей!
Так что головная шлюпка, которой правил Махалов, шла крайней справа, и он – один из экипажа – сидя лицом к берегу, следил за темной береговой линией и за тем, чтобы ребята дружно и тихо гребли веслами, и правил, чтобы течение речное не сносило их южней, влево. В его шлюпке, кроме штурмана, были лейтенант и еще совсем щупленький на вид парнишка в каске – минер. И в шлюпке все подчинялись только ему, матросу. Он, рулевой, являлся командиром шлюпки.
– Сколько ж у тебя патронов, друг? – спросил кто-то из десантников у минера. – Что-то мало.
– Да в этот раз дали много.
– Сколько же?
– Тридцать.
– Тридцать?! – удивились ребята. – А у нас на каждого по две тысячи – целая коробка. Без патронов – верная смерть. Что ты, брат!
– Но у меня еще две гранаты.
– А у нас, кроме патронов, по двенадцать гранат на брата.
– Да, у меня и все. Вот дали патроны да щуп для нахождения мин, если делать проходы в минных полях. Так всегда бывало.
И Махалову вспоминалась вдруг санинструктор Настя, которая бегала перед десантом матросским и кричала:
– Матросики, вперед, тут мин нету! Не бойтесь!
Матросы бесстрашно и усиленно гребли к темному берегу.
Вдруг шлюпка, ведомая Махаловым, треснула посередине – видимо от перегрузки, и вода полилась в нее. Лейтенант, увидев это, не выдержал и с испуга балмошно закричал вслед идущим шлюпкам:
– Спасите! Тонем!
Махалов, как сидел на корме, инстинктивно веслом саданул в него, чтобы тот замолчал: ведь противник мог услышать его выкрик. Десантники мигом на ходу связали матросскими ремнями было разъединившиеся борта шлюпок, сжав их. А минеру Махалов велел вычерпывать каской воду из лодки. Каска была единственной посудиной. В это время шлюпки уже приближались к затаившемуся берегу, лодки стали расходиться веерообразно вдаль выраставшего берега. Тотчас же наш кукурузник, поддерживавший эту высадку десанта, поджег единственный деревянный дом, стоявший здесь, в зоне немецкой обороны, чем, кажется, облегчил немцам задачу отражения ночной атаки: огонь пожара осветил ряды черных шлюпок, выползавших из темноты. И немцы разом подняли усиленную пальбу, ударили трассирующими пулями крест-накрест по штурмующим матросам. Однако уже припоздали.
Махалов, сидящий в шлюпке лицом к берегу, и видел этот разверзшийся огненный ад, обрушившийся на наезжавшие шлюпки. Ему даже показалось, что в какое-то мгновение светящаяся трасса прошла между первой и второй парами гребцов – настолько близко она прошла. Просквозила. Чрезвычайно. Махалов тут только вскричал, правя рулем:
– Да гребите же быстрей! Быстрей, ребята, к берегу!
Важно было поскорей вплыть в мертвую для обстрела зону.
Было известно всем, что справа по фронту три раза ходили в атаку румыно-германские части фронтовые и опрокидывали наши десанты. Не хотелось бы иметь повторения тех неудач. А здесь ребята теперь десантировались более успешно: они вбили клин, опрокинули вражескую оборону. И пошли дальше.
Было, что с флагманской лодкой сблизилась вторая, на нее на ходу вспрыгнул штурман, но уже пора становилась выпрыгивать всем в кипящую пучину и бежать, бежать наверх, стреляя на ходу. Дорога была каждая секунда.
Наконец днище лодки заскребло о песок, и она, толкнувшись, встала. Здесь был низкий берег, на нем были какие-то заросли – не то камыша, не то кукурузы, не то подсолнечника, и по стеблям этих высоких зарослей метались отблески от огня с горевшей постройки и пронзали их трассирующие пули. И были видны замаскированные окопы, изрыгавшие огонь. И здесь было то, что быстро сдавались в плен немцы, подымали вверх руки, и небывалое – по три раза контратаковала десантников румынская пехота. Справа, южнее Аккермана, румыно-немецкая пехота даже опрокидывала десант, прижимала его к воде. А на этом фланге все было удачливей: десантники вбили клин в немецкую оборону и уже вошли с боем в предместье Аккермана.
Вот какая-то запустелая улочка. На ней возник некий осевший амбар на пути Махалова. Рванувшись к нему, он закричал:
– Эй, кто там? Выходи! – И зашвырнул туда гранату. Спешил.
Столб мучной пыли поднялся. И все.
Снизу по Днестру наши бронекатера прорвались. Затем с тяжелыми понтонами – катера с танками. Так что город Аккерман, как укрепленный узел немецкого сопротивления, пал к полудню 22 августа. Вследствие этой боевой операции наши передовые части вышли к городу Измаил.
Старинная крепость в Аккермане была разграблена немчурой. Остались одни стены – те, что уцелели.
Рота, в которой служил Махалов, развивая наступление, днем 22 августа уже находилась северо-западней Аккерамана в десяти километрах. И тут-то десантникам, которые еще не погибли, пришлось пережить немалые неприятности вследствие того, что радисты не успели сообщить об их действиях в штаб: связи не стало, и их приняли в штабе за отступающих солдат. В какой-то момент наша авиация так преследовала десантников, что не давала носа высунуть в одном молдавском селе из каких-то навесных, как в шорах, постройках.
В роте не было ни ракет, ни белых простыней, чтобы выкинуть и тем самым показать: сдаемся, не стреляйте, чтобы избежать напрасных потерь. Бомбежка прижала всех к земле, мешала продвижению дальше еще потому, что кругом были открытые поляны. Матросня ругалась. Клялась: вот, мол, будем в Одессе, покажем этим орлам, каких идиотов из них выпускает училище. Разве не видна ошибочность их действий?
Однако лейтенант тут, видимо, решил отыграться на Махалове, подвернувшемуся в этот момент ему под руку – решил, верно, отыграться на нем за то, что тот огрел его веслом при форсировании.
– Махалов, ты остер на язык и рука у тебя не дрогнет, – сказал он с видимой горячностью. – Ну-ка, придумай с умом что-нибудь… Если нет у нас никакой связи – мы беспомощны в такой ситуации.
– Нужно расстелить хотя бы тельняшку, дать видимый знак… Я сейчас попробую… – Он содрал с тела тельняшку, расстелил ее на солнечном угреве перед домом. Только это тоже не помогло, все было напрасно: наши штурмовики кружили низко в небе и постреливали. До тех пор, видно, пока они не израсходовали в баках все горючее. Так подумалось злым десантникам.
К вечеру они вышли из боя.
И уже неразлучно помкомроты Рыжков и Махалов шли, вернее, еле-еле плелись по деревенской улице, выбирая хату, где им следовало заночевать. Лейтенант миролюбиво выговаривал ему, младшему товарищу:
– Пойми, твое уязвимое место – ахиллесова пята: балагурство, выходки, что приводит к нарушению воинской дисциплины.
– Ну, начальство, кажется, нигде никогда не бывает виновато, – не соглашался он. – Я хоть затворником буду, мне подметалой позорно быть.
VIII
– Ах ты, мать моя старушка! – только выдохнул Рыжков. И, вероятно, с радости, что остался жив после такой передряги, достал из кармана трофейный немецкий пистолет и подарил его Махалову. Тот принял подарок с изумлением.





