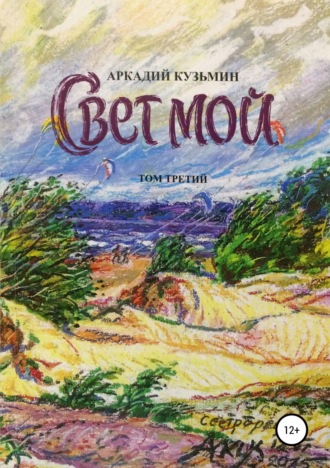
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
Утром, когда он, готовя завтрак, возился у дымной плиты с дровами, к ним весело внырнули на минутку, красуясь добротными зимними нарядами и стуча каблуками сапожек, обе паненки хозяйские, быстроглазые. Очень женственные, в меру вежливые, сдержанные, они будто даже выказывали своим визитом должное гостеприимство; да как показалось Антону – они явились неспроста: желали лучше посмотреть на русских гостей. И только видел он их приманчивые любопытствующие глаза, которые выглядывали из-под серого меха шапочек…
XVII
Раззадоренный Шаров сам точно захмелел в ожидании чего-то – даже про жизнь опять заговорил с Антоном:
– Если откровенно, то мне раз пять, если не больше, по-серьезному грозила смерть. Да покамест миловал бог. Вот живу себе, мечтаю обо всяком… ох-хо-хо!
Спустя день и весь состав военных, служивших в Управлении, переехав сюда, в польское село, расселилось по домам удачно – казалось, без излишних хлопот в зимний период. Очередные события шли, не останавливаясь день за днем, и Антон уж ничуть не надеялся на Матвея в осуществлении тайного желания познакомиться с паненкой Альбиной – и испытывал явное разочарование в том. По собственной глупости… По недомыслию… У него никакого контакта более на происходило ни с отцом паненок, ни с ними и даже с самим Матвеем, бывавшем в разъездах. Однако тот раз попал в сей заветный дом: его пригласили для того, чтобы он наладил электропроводку. И после поляк усадил его за стол, угостил вином. И Альбина разговаривала с ним, Матвеем. Так он и выяснил случайно, что исполнилось ей двадцать семь лет, а ее сестре Ганне было и все тридцать. И об этом он обескураженный поведал Антону с веселым недоумением перед тем, насколько он ошибся с определением их возраста. В особенности искренно сокрушался он из-за Антона. Ведь все это он затеял. Обнадежил… Нет уж, друг, призывал он его, давай лучше подождем победного конца войны: и тогда в России выберем своих паненок. Там уж не обманемся никак.
А однажды майор Рисс послал Антона к капитану Шелег, квартировавшему в том самом польском доме.
Он, чужой порог переступив, приветливо поздоровался.
– День добре! – мягко повторила встретившая его Ганна, в длинном черном платье. Величественная. И втроем полячки – вместе со светившейся улыбкой Альбиной и чопорной хозяйкой – воззрились на него, как на редкого зверька, забредшего к ним за чем-то. Дескать, что изволите?
– К капитану, – сказал он уверенно и повернулся на расстроенные звуки бренчавшего фортепиано, за котором восседал Шелег и уныло клевал одним пальцем клавиши. Он был в плотной темной гимнастерке. С расстегнутым воротом.
– Нет, слишком тонкое для меня, бесталанного, занятие, – признался капитан, вставая. – Сыграйте вы, Альбина, что-нибудь. Антон вас послушает. А ты присядь, кивнул он ему. – Не бойся, не дичись. Здесь никто тебя не съест.
Как-то обычно прозвучало в его устах это имя – Альбина. Даже вздрогнул Антон. И напрягся. Но едва Альбина, сев за фортепиано, заиграла, как объявила, ноктюрн Шопена – и полились прозрачные, неподражаемые звуки музыки, – его волнение улеглось. Да, безмятежен здесь почти мирный уют и спокойствие, сквозящее на лицах, в то время как виделись ему несчастно-запуганные лица у других поляков. Или ему так просто мнилось.
На следующий день Шелег за обедом обронил:
– Слушай-ка, Антон, я писал домой. Еще не работает действительно одесское училище. Не взыщи, ты оказался прав. Заходи опять послушать музыку.
И на сердце у Антона стало несравненно легче, легче оттого, что все само собой разрешилось так естественно: никаких несбыточных надежд ему пока не предлагалось больше. Ни в чем.
Прошло еще недели три. Одним январским вечером, только начало темнеть и, сгущаясь, засинели тени на глубоком чистом снегу, Антон шел от окраины села к центру вдоль большой дороги. Оранжево-красный закат зажигал в селе окна и бодрил его: было морозно, тихо, сказочно. На фоне его красиво вырисовывались заснеженные, фиолетовые крыши домов и дворов, деревья и отточенный шпиль костела; к костелу спешили отовсюду на богослужение, поскрипывая снегом и закрывая лица от колючего ветерка, сельские жители. Они спешили молча, сосредоточенно. Среди них были и молоденькие девушки то с бледными, то с разрумянившимися лицами; их живые глаза выглядывали из воротников пальто, шубок, из-под шалей, шапок и платков – и снова прятались. Обгоняя всех, ходко промчался на дровнях немолодой задумчивый поляк, которого Антон где-то уже встречал; дровни скользили, плавя накатанными полозьями снег, и за ними оставался серебристый след, отражавший гасшее зимнее небо.
А по той стороне улицы брел в обратном направлении Шаров. Последнее время Антон с ним виделся изредка. Обрадованный, он окликнул его и хотел перейти к нему, тем более что направлялся в столовую, которая и помещалась на той стороне, в доме с большим крыльцом, или, скорей, верандой. Но тот не слышал и не замечал его – был в каком-то ожидании.
«Да это ж оттого такой он, что взгляд его прикован к Ганне, которая спешит в костел молиться – плавно шествует ему навстречу» – вдруг уразумел Антон, просветленный, увидев и узнав ее подвижную грациозную фигурку в малиновом пальто и серебристой шапочке. Вот они нечаянно сошлись, приостановились. И Матвей нелепо разводил перед ней своими голыми руками, тогда как она очень вежливо, держа руки в муфте, слушала его и что-то отвечала ему. Антон еще раздумывал перейти ли тут шоссе и подойти к ним, как внезапно точно нарастающий гром раздался, покатился по шоссе, что их разделяло: один за другим с небольшими интервалами с оглушительным ревом моторов и лязганьем гусениц понеслись наши тяжелые танки-громадины.
Это ускоренно готовилось советским командованием зимнее наступление. Его с нетерпением ждали и поляки, видевшие как в лесах, вблизи передовой, скапливались советские танки, самоходки, броневики, которых, они говорили, становилось уже больше, чем грибов, – натыканы почти под каждым деревом.
Обыкновенно танки громыхали по ночам, сосредоточиваясь для нанесения удара скрытно. Из-за этого шоферам отменили все ночные рейсы, ибо, уступая путь грозной технике, все равно с автомашинами простаивали где-нибудь в кювете, оттертые с дороги. А сегодня танки двинулись еще засветло. Заслонили от Антона Матвея. Нужно ждать просвета, чтобы перебежать туда, к нему. Около Антона нетерпеливо переминались с ноги на ногу и польские жители, спешившие на молебство в костел, возвышавшийся по ту сторону шоссе, и назад поглядывали – туда, откуда тянулась эта танковая колонна, преградившая им дорогу: она казалась нескончаемой…. Вот незадача! Там, в конце сельской улицы, серела какая-то постройки с будками, похожая на Бастилию… В ней содержались военнопленные немцы.
Тем временем, Антон заметил, Ганна и Матвей, уже разминулись друг с другом, и огорченно Матвей поглядел ей вслед. Он побрел дальше – еще более медлительной походкой, а Антон тут ничем не мог утешить его, да и – откровенно признаться – не знал, как, каким образом.
Для них, непростительно наивных фантазеров, это вышло как досадное, но, к счастью, благополучное падение на ровном месте, лишь усовестившее их. Пожалуй, примерно так и случившееся с ними накануне синим вечером. Падение физически. На заснеженном Острув-Мазовецком тракте. Они везли имущество, предназначенное для госпиталя, – одеяла и матрасы; грузовик, управляемый Шаровым, ходко катил по шоссе, а Кашин и солдат Стасюк лежали ничком в кузове на большой горке мягкой поклажи. Встречные мелькавшие автомашины то и дело мелькали огоньками – здоровались подсветками. Жик! Жик! – и пролетали мимо. Она за другой. Жик! – и снова поглощала бездна синевы вокруг. На какое-то время соблюдалась светомаскировка.
Да вот некая дура неслась встречь, слепя фарами, ровно водитель ее ослеп или заснул; оттого шоферу Шарову было совершенно не видно, насколько тот взял влево на встречку – не было видно границ заснеженной дороги. Он, страхуясь и притормозив, посторонился правей – и уж через мгновение грузовик полетел набок и плюхнулся в свеженаметенный придорожный сугроб. Сюда же сковырнулись и попадали Стасюк и Кашин вместе с кипами одеял и матрасов. Они словно скатились на них с горки, сброшенные толчком; они даже не ушиблись, не покалечились при падении – настолько мягок и глубок был январский снег.
Когда же летуны пришли в себя в целости и встали на ноги, то кое-как сориентировались в темноте; они разглядели, что торкнулись на обочине в сугроб и машина завязла в нем на боку. Нешуточное происшествие.
И потому Шаров, вылезая с трудом из набекреневшейся кабины, негодующе костил того промчавшегося неведомого брата-шоферюгу. Да и как не возмущаться, ежели служивый человек вел себя на войне столь безответственно: он так негоже нес – исполнял свой долг перед людьми, перед товарищами. Не служил тут для их благополучия. Хотел побыстрее проскочить. А ведь для того, чтобы бедолагам выбраться на шоссе и продолжить езду, нужно стало первым делом доразгрузиться, дабы вытащить сначала грузовик на дорогу, для чего найти подмогу, трактор и потом снова погрузить все вещи в кузов. Так что требовалась лишняя трата сил.
А все такое важное, от чего зависело все на земле, Антон уже предполагал, шло от поведенческой определенности каждого человека, настроенной с детства. Идущей исподволь само собой.
XVIII
Их застал уж февраль прибалтийский, шалый в Броднице. На севере Польши.
– Эх, вставай, мой друг юный, просыпайся, дело срочное, – отечески журчал еще задолго до рассветной рани неуемный майор Рисс, отдельческий начальник, – журчал над Кашиным, у изголовья, только что, считай, юркнувшим под одеяло (далеко за полночь) – чутко спавшим, тотчас просыпавшимся, почти шестнадцатилетним юношей. Понимающим ответственность.
Они недавно уже проехали освобожденные Варшаву, Млаву, Пултуск.
А майор Рисс был счастливо-проворный хозяйственник, снабженец госпиталей.
Итак, Кашин осознанно потеплей оделся – и в фуфайке, сразу потолстев, выкатился по ступенькам лестницы вниз; он устоял – добрый знак – под наскоком ветровым с мокрым снегом, стегающим в лицо. Завернув в каптерку к Пехлеру, получил паек командировочный – трехсуточный; вновь присоединился к троице солдат, ожидающих отъезда в затишке у машины санитарной на ходу. Все делалось почти вслепую по привычке. Вот дошел досюда и майор – скомандовал: садись! Ребята ловко запрыгнули в кузов с носилками двухъярусными по бортам, присели. И так все покатились в ночной непрогляди, спотыкаясь, клонясь и раскачиваясь на тракте, растолченном военной техникой и фугасами.
Даже дождь проливной захлестал. Плыли как по бездорожью.
Только вдруг остановились. То – в легковушке возвращался в часть старший лейтенант Манюшкин, как нарочный; он знал, куда ехать за имуществом трофейным. С тем-то он и пересел в кабину санитарного грузовика – чтобы показать туда дорогу. А майор, перебрался, в кузов, на носилки.
Непогода унялась с рассветом.
Тормознув, встали на неком пустыре, у одиночно торчавшего почернелого здания, как увидали все, спрыгнув из кузова, разминаясь, – перед глазами возникли соты мокро-серых приземленных домов Торуня. И прямо за пустырем простерлась ровная льдисто-взмокшая поверхность Вислы. Вот так близко!
– Да, идем, Антон, – кликнул майор его, Кашина, будто личного адъютанта, и они вслед за старшим лейтенантом – втроем вошли в парадную неприветливого дома, поднялись по каменной лестнице на второй этаж. Постучали в дверь.
Их готовно впустил в квартиру почтенный поляк, провел в опустелую (слева) комнату; все устроило майора, он ключ от нее попросил.
– Лада! – позвал хозяин.
Из-за открывшейся светлой двери вышла тихая девушка – его дочь, тихо поздоровалась и протянула ему ключ. Она, видно, тут же хотела и уйти, но подняла на неожиданных гостей темные и какие-то дрожащие глаза – и чуть помедлила с уходом, словно своим взглядом говоря: «И что вы тут смотрите на меня? И ты, русский мальчик, тоже…»
Ее тихая печальность, отрешенность сразу вызвали в душе Антона молодеческое сочувствие, внимание к ней; что оттого он непроизвольно стал, волнуясь, думать о том и о ней потом. И когда уже они, сослуживцы, въехав в складской квартал, грузили через окно в машину брошенные немецкие пестроклетчатые одеяла, матрацы, белые простыни – трофеи, прежназначавшиеся для госпиталей. Такое имущество они перевезли и, выгрузив, сложили в съемную польскую квартиру. Взамен же хозяину завезли столовую посуду, какую подарили и польке, живущей на третьем этаже. Ну, а в третий заезд на склад машину загрузили постельным бельем для завоза его прямо в Управление.
Когда покончили с делами, присели в комнате на матрацах и наскоро перекусили бутербродами с консервами.
Майор Рисс распорядился:
– Итак, браток Кашин, ты за старшего останешься – вместе с Усовым. Все охраняйте аккуратно. Завтра-послезавтра пришлю транспорт.
– Не влюбляйтесь в здешних девочек, – съязвил несдержанный Сторошук.
И двое усталых славян, оставшихся при таком добре, которым была доверху завалена комната, кое-как устроились на покой в полутьме. Подсвечивая себе фонариком карманным.
Поутру Антон долез до окна, заглянул в него. Внизу, во дворе, длинными рядами вытянулись деревянные сарайчики с решетками; в них и возле них прыгали худые с провалившимися боками, разномастные кролики; множество их – дохлых – валялось вокруг. То было, вероятно, брошенное кроличное хозяйство. Удручающее зрелище!
– Что ж, махнем опять на трофейный склад, Назар Никитыч? – спросил Антон, только они позавтракали. – Хотя бы, может, свечей раздобудем. Побыстрей…
– Пойдем, хоть оглядимся в городе, – согласился солдат Усов, конюх. – И винтовку с собой возьму.
Еще было пустынно на городской улице при слабом морозце с завивавшимся снегом с крыш зданий и заборов. Около же самого дома приветливо поздоровалась с Антоном и Усовым моложавая полька, жившая на третьем этаже.
Ворота, что вели на складскую территорию, были уже закрыты. На толстой цепи. Так что подошедшим к ним армейцам, пришлось перелезть через высокую чугунную ограду. Однако и нужный им барак был уже на замке. Никакого персонала не было видно. Снег припорашивал уйму немецких тупорылых легковушек, уткнувшихся между построек, последствие окружения нашими войсками здешнего немецкого гарнизона. И здесь, в четырехэтажке с нарами в комнатах-казармах все было брошено вповалку три дня назад: каски, шинели, мундиры с крестами, противогазы, белье, банки с консервами. Пахло застойным воздухом, гнилью, дустом.
А на складе же, куда напарники затем проникли – через окно, – хранились многие вещи, даже ярко-красные фашистские знамена с черной свастикой и еще гора портретов Гитлера в рамках под стеклом.
Антон и Назар, как квартиранты, первоначально рассчитывали на короткий срок пребывания у хозяев-поляков; присутствие чужих, посторонних в доме хозяев всегда нежелательно. Однако все сложилось иначе. В отношениях с ними. Хозяин – степенный мужчина и его дочь Лада казались словно потерянными от происходящих событий и нисколько не тяготились пока присутствием гостей – русских военных; даже напротив: искренно с самого начала тянулись к ним с общением. И между ними завязывался разговор, как бы разряжавший обстановку.
Лада куталась в темный шерстяной шарф (в квартире выстыло) и зябко поеживалась. Она, будто безучастная ко всему, не могла быть успокоенной, общительной; в ее настороженных серых глазах все время дрожал какой-то нерв – они то лихорадочно вспыхивали светом, то тускнели, гасли. Будто чувства в ней сжимались и прятались куда-то глубже. Недостать их. Поймав ее взгляд, Антон вставал со стула из-за массивного дубового стола; он расхаживал по кабинету, поглядывал на серевшую по-за окнами застывшую Вислу и осторожно – незапальчиво рассуждал о скорой возможности окончания войны и страданий. О наступлении западных союзников. И Лада с видимым удивлением, слушая, следила за ним.
XIX
Они, разноязычные люди, понимали друг друга с помощью жестов и похожих иных слов и вовсе без слов – по интонации в голосе и выражению на лице. Пан Броневский, как он назвался, постоянно опекал вниманием дочь – оберегал ее спокойствие. И это гости видели, учитывали и осознавали само собой. Оберегали спокойствие в доме. В подробности не вдавались. Вели себя потише. Так понятно: у всех была общая судьба.
Но раз Назар, бывший хлебородом, зашивая свои порванные рукавички, озабоченно сказал:
– Сегодня же зима с летом встречаются. Аксинья – полухлебница. Скоту надо еще половину корма. А много ль его запасли одни бабы? Нынче они без помощи маются в тылу, землю бьют. Мужички-то на фронтах дерутся, падают; головы свои кладут, как твой батька. И бабы не все их дождутся, ох-хо-хо! – И, повздыхав так, напел строчки песни, которую некогда напевал отец Антона: «Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой…»
Тут послышались из-за двери прерывистые звуки, похожие на кашель. Антон, привстав с матраца, приоткрыл дверь – за ней-то, утыкаясь в коридорную стену, всхлипывала Лада, а в кабинете виновато – беспомощно застыл – стоял ее отец – Броневский. От неожиданности Антон застыл перед ними. Потом, спохватившись, стал успокаивать Ладу. Она вполоборота взглянула на него, не мигая, мокрыми глазами и, всхлипнув еще, быстро ушла к себе в спальню. И было слышно, как плакала там. Да, слезы всегда наготове стояли у нее в глазах; ее пугало решительно все: чьи-нибудь шаги и голоса, звонки или стук в дверь. Ей мерещилось что-то ужасное. Возможно, и потому, что фронт еще качался северней в разборках и что здесь покамест была пугающая пустота, как ничейная полоса, и было ничего не слышно.
– Nie woino, nie moge. – шептала она с мокрыми глазами, и, хотя ничего страшного уже не происходило, плакала нервно, расстроенная, что печалило всех.
На следующий день она смущенно позвала Антона и сунула ему в ладонь некий подарок:
– Prosze! – И легким шагом ушла обратно к себе.
Это были леденцы в обертке с немецкой маркировкой – дар ее. Слова благодарности: «Дзенькую, панна!» замерли у него на губах; он не успел их высказать ей – так стушевался от ее милого внимания к нему.
Ему вспомнился эпизод из фильма «Жди меня», виденный им вместе с польскими девчонками в сосновом бору Белостока, – тот эпизод, в котором героиня потерянно сидит на диване, поджав под себя ноги, с думами о любимом фронтовом летчике. Именно на нее Лада походила чем-то внешне. Это ему казалось.
И пан Броневский позже также преподнес курильщику Усову несколько сигарет. У поляков – добрые сердца.
Прошло три дня. За вещами и посланцами никто не приезжал. Связи никакой не было.
Вдруг в квартиру позвонил кто-то. Пан Броневский открыл дверь, и в коридор ввалился какой-то пьяный сержант. Чудак и сам не разобрал, зачем и куда забрел; он стоял, ничего не спрашивая, только лупал глазами на всех. И только когда армейцы Усов и Кашин стали выпроваживать его вон, добродушно забормотал, говоря, что ищет своих друзей. Отчего Лада вновь расстроилась и расплакалась. И Антон опять успокаивал, говорил ей:
– Ну, видите, пани, ничего же не случилось.
Пани согласно кивала сквозь слезы.
Антон испытывал чувство, не похожее на обычную влюбленность, хотя для него стало необъяснимой потребностью видеть ее счастливое лицо, ее глаза, знать, что и она тоже замечает и понимает его, его беспокойства о ней; ему доставляло радость дружески покровительствовать ей в том, чтобы она спокойней воспринимала реальные события, нашла себя. Собственно они, русские солдаты, и пришли сюда, в Европу, как освободители, для того, чтобы уничтожить кровавых немецких нацистов и помочь народам выжить, прийти в себя, стать на ноги. Видно, им, русским, высший их разум так повелел в этот решающий раз: жертвовать собой. Пока никто не отважился на это. Кто-то бережет себя. Предпочитает измену стране, долгу.
– Ну, начальник, что будем делать? – подал голос Назар. – Забыли про нас, что ли? Ведь продукты кончились. И с табачком я подбился.
– А сходим-ка снова туда, к складам, – там должна быть наша военная интендантская часть с походной кухней. Нас, может быть, и покормят. Нужно взять с собой котелки. – Антон так предположил. Он ладил с напарником пятидесятилетним. Они понимали друг друга.
И сразу отправились туда.
Безлюдная улица тонула в голубизне февральского воздуха. Впереди внезапно послышались голоса и оттуда – из-за желтого строения и поворота улицы – выбежали с торжествующим криком польские ребята. Они бежали неуклюже, наперегонки; на ногах у них болтались немецкие соломенные бутсы для солдат – насапожники, какие Антон видел зимой 1941 года. Следом женщины тащили то же самое в охапках, что дрова. И уже знакомая полька, соседка с третьего этажа, остановившись, объяснила по-польски и с помощью жестов, что они несут это добро из немецкого склада для того, чтобы им топить печи. Ее сопровождала ее дочь лет восемнадцати, по-мальчишески подвижная и общительная и очень похожая на нее, – с таким же доверчиво-улыбчивым взглядом. А когда Антон объяснил им, куда они и зачем он и Назар идут – что у них не осталось продуктов, добрая женщина с пониманием сказала, что поляки – должники русских солдат, и пригласила запросто к себе на обед назавтра. Сказала, что завтра нарочно будет готовить обед для всех и непременно ждет их у себя.
В просветах решетчатых ворот перед складскими бараками виднелась армейская походная кухня, перед ее котлом возился дюжий боец – повар, но главный вход сюда охранял уже поляк в национальной форме, с четырехугольной конфедераткой на голове; он отказывал подошедшему Антону и Усову в пропуске внутрь базы, говоря, что ему не велено никого впускать.
К счастью, там на виду проходил старшина-интендант. Он без лишних слов их впустил за ворота и сразу подвел к кухне. Повар молча налил им суп и дал кашу – то, что осталось от армейского обеда, дал буханку хлеба.
Повеселевший оттого Назар еще присказал Антону:
– Знаешь, когда я уходил на службу еще при царе, мать наказывала мне, чтобы я не очень стеснялся: «Ложки нет, кружкой ешь, кружки нет – рукой». Эх, хорошо всему я научился тогда в армии.
На обратном пути к дому – их пристанищу – их нагнал шум мотора. Огромный неповоротливый автобус, не доехав до них, медленно развернулся и уполз куда-то назад.
ХХ
Они вдвоем – вольные ж армейцы – вышли из дома под солнце, уже ощутимо пригревавшее. Назар неизменно жевал курево – самокрутку. Из подъезда вдруг выскользнула, бренча ведрами, Ружена, дочь доброй польки Казимиры.
– Ружена, погоди! – Антон сорвался с места. – Я помогу. – Забрал у нее ведра.
Водопровод в домах бездействовал, и жители брали воду в колонках внизу. Было по весеннему тепло, все блестело, пронизанное солнечным светом: тающий снег, лужи и летевшие вразбрызг с крыш капли, ветки лип, которые качались на слабом ветру и проглянувшая из-под снега прошлогодняя трава. Широкая Висла темнела полосами, словно лед уже вот-вот собирался тронуться. Далеко справа клонились над рекой фермы взорванного моста.
Ружина привычно – ловко спускалась на непросохшей, петлявшей вдоль берега тропке, и Антон, стараясь не поскользнуться, спешил за ней. Иногда она останавливалась, когда они оба не понимали что-нибудь из того, что они говорили друг другу, и нужно было что-то повторить понятнее. Почему-то она спросила про Москву: какая она?
– О, Москва – совсем большая, – сказал Антон. – Я был в ней однажды.
Она взглянула на него как бы заново и сказала, что он счастливый: видел Москву. И она так хотела бы побывать там.
Они незаметно очутились в узенькой мощеной улочке с рустованными домами. По ней сновали оживленные жители. У какой-то лавочки выстроилась очередь. Кое-где уже подсыхала обнаженная чистая мостовая. И это, видно, тоже радовало всех.
Антон почувствовал здесь на себе вопросительные взгляды поляков, наверняка старавшихся определить, кто он на самом деле и зачем здесь; он оттого и оттого еще, что был одет в рабочей фуфайке – совсем невыигрышно – испытывал некую неловкость; он потому старался свободней разговаривать с Руженой – от смущения. Здесь иные жительницы знали ее, здоровались с ней, и она останавливалась, чтобы с кем-нибудь поговорить. Так подошли к колонке. Набрали воду.
Обратно, в гору, она несла лишь коромысло с крючками на цепи. И все уговаривала его от дать ей тяжелые ведра, которые он нес в руках за дужки, как было ему сподручней. И донес их до самой квартиры, как бы демонстрируя, как он понимал, галантность и юношескую силу, готовность услужить.
Так вот познакомились они, забытые армейцы, с семьей польки Казимиры, по-душевному выручавшей их. Всегда приветствовавшей. Она и дочь ее, Ружена, угощала их, как своих, свежеприготовленным кроличьем бульоном, бегавшем, как Казимира пошутила, вон у них во дворе, на бывшей кроличьей ферме, принадлежавшей немке. Не сбежавшей. Живущей в доме рядом с перекрестком. И было очень интересно польским и русским взаимное общение и разговор обо всем, чему абсолютно не мешало обоюдное незнания языков, но выручало звучание и интонация произносимых слов у народов – соседей. Свет не меркнет. Души не сгорят.
Польки мило велели армейцам и назавтра придти к ним – они сварят такой же обед. Замечательные люди!
А этажом ниже – в своем кабинете – по-прежнему задумчиво вышагивал пан Броневский; его дочь Лада будто понемногу приходила в себя – успокаивалась, но по ночам во сне еще вскрикивала и звала кого-то по имени. Они завтракали и обедали на кухне так же тихо, как и все, что они делали; это было очевидное последствие гитлеровского нашествия: в семье погибли сын и мать. О том обмолвилась Ружена Кашину.
– Окна заплакали: вдруг похолодало на улице. Может, дров принести – камин разогреть? – предложил Назар пану Броневскому. И тот кивнул ему в согласии.
Был седьмой день их пребывания в Торуни.
Назар и Антон заспешили за дровами, валявшимися за домом. У его подъезда стояла Казимира и, не замечая холода, восторженно-любовно глядела вслед удалявшейся паре молодых людей: Ружены и молодого рослого парня в блестящих сапогах, какие носили польские полицейские. И счастливая Казимира сообщила армейцам, что вот сынок Яцек вернулся, жив. Сбежал от немцев. Вот и дождались его.
Горевшие в камине дрова – еловые, нет ли – потрескивали, точно порохом обсыпанные, и раскаленные угольки прыгали во все стороны. На что Назар присказал:
– Ну, нынче гости будут. Наконец!
Лада, сидя на стуле, штопала. Видно, штопка и шитье успокаивали ее.
В это время раздался несильный стук в дверь. Лада, услышав его, бросила штопанье и, побледневшая, сжав кулачки, поднесла их к лицу и с ужасом смотрела на русских постояльцев, ожидая, что же будет. Она еще жила прежними страхами и потерями.
То доехал по делу сержант Коржев. Завез ожидавшим армейцам немного продуктов и весть о том, что за ними прибудет машина послезавтра.
Но назавтра случилось нечто непредвиденное: в квартиру вломились вооруженные незнакомые лейтенант и сержант, заявив Броневскому, впустившему их, что они из комендатуры и что им необходим велосипед – на их велосипеде спустила шина. А им нужно срочно добраться в свою часть.
– А ну, выйдите! – потребовал от них Антон, став перед ними. – Здесь охраняемый военный склад. Назар, давай сюда винтовку! – В висках у него стучало. Он не слышал звука собственного голоса.
Однако странный молодцевато-бойкий офицер, какой-то слишком правильный, слоновый, отстранив рукой его, прошел в коридор и снял с вешалки кладовки ладный дамский велосипед – ухватил его, несмотря на рыдания Лады. Проговорил:
– Вот этот нужен нам! Взамен я оставлю совсем новенький…
Поляк растерянно-горестно смотрел на плакавшую дочь.
– Позорно Вам, товарищ лейтенант, врываться так в чужой дом и отбирать добро, – говорил Антон. – Мы ж – не немцы, не грабители… А Вы, Назар, зачем их впустили?..
На что Назар насупился, сказал, что нечаянно заснул; не знал уж, как это получилось.
– Да, пойми же, парень: мы торопимся, – тащил офицер велосипед. – Замену отдаем первоклассную. Только накачайте шину…
– Да я посмотрю еще на классную вашу. – И Антон спустился вниз. Убедился в том, что лейтенантский велосипед был новенький. Затащив его в кладовку и повесив на штырь, он подошел к Ладе, сидевшей на диване, уже затихшей (слезы на глазах у ней высохли почти), и покаялся – залепетал о том, что растерялся вначале: сам не ожидал такого нашествия: наверное, лейтенант действительно спешил… Да, да, ему было стыдно перед нею и за бодрого лейтенанта и за себя, слабого перед нею… И прибавил вполне осознанно, что будь он взрослым, то уж, наверное, лучше бы защитил ее. Она благодарно взглянула ему в глаза и ладошкой ласково дотронулась до его руки.
В предотъездный вечер (за имуществом и товарищами прибыл Саша – грузин на длинном зиловском автобусе и чернявая медсестра Клара) квартира Броневских враз наполнилась шумом. Приехавшие стали готовить ужин, используя сковородку и другую хозяйскую посуду. Потом ели, весело разговаривали; даже напевали ходовые песни, в которых так пронзительно повествовалось, казалось, именно о том, что происходило с ними всеми – что-то неразрывно-всеединое, исповедальное. Невиданная военная катастрофа и битва с вселенским злом-адом вызвали в России такие невиданные нигде, ни в одной стране песни, пронизывающие всю душу. Мы, русские, живем постоянно в сострадательном наклонении; нас хваленым европейцам не понять: для них важнее всякие побрякушки. Потому они и кричат, что им непонятно, как Россия любит страдать, выражать страдание.
Так вот Ладу занимало это. Ее интерес занимала и сноровистая Клара.
И тут-то будто в комнате, заваленной бельем, поярчало: она впервые ясно улыбнулась. И затем, увлекая Антона, в коридор (он последовал за ней), она круто обернулась и поцеловала вдруг, прошептав на прощание:
– Dziękuję!
Спозаранку шумно собирались в отъезд, укладывали вещи в салон автобуса, и эти сборы для всех были радостны.
Окончив погрузку, Антон и Назар поднялись сначала на третий этаж и попрощались со знакомыми польками, а затем опять зашли к Броневским. Антон, точно в чем-то провинившийся перед ней юнец, с трудом взглянул на нее, стоявшую в коридоре в темном домашнем платье, увидел ее внимательные серые глаза, гладкие длинные волосы по плечам… «Как уже?!» – словно растерянно-удивленно говорила она про себя в то время как внешне не показывала ни растерянности, ни удивления.
Что он сказал ей?
– Ну, вот и до свиданья.
И только. Пожал ее холодную руку. Она ее протянула ему и опустила рассеянно. Он видел: она уже не жила одним только страхом, а думала о чем-то со слабой улыбкой, светлевшей не ее неулыбчивых прежде губах. Он тихо вышел от них, Броневских, почти радостный, как выходят оттуда, где находится трудно, но все же выздоравливающий больной.





