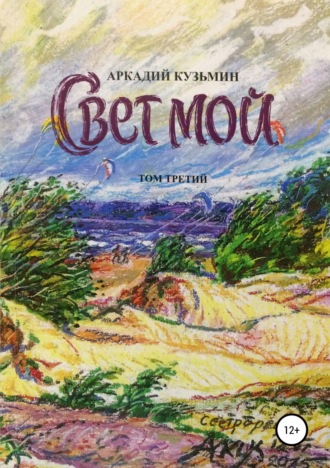
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
– Глянь-ка, – тихонько толкнул Антона локтем в бок Стасюк и повел глазами в бок. – Понимаешь что-нибудь?
– Как не понять: она ищет кого-то из своих, – сказал Антон.
Вблизи-то солдатиков тенью ходила-перемещалась одна крестьянка в зипуне и платке; она пытливо-беспокойно вглядывалась в лица бесприютных молоденьких и постарше мужичков, умевших, когда нужно (и всегда), мириться с неудобствами и невзгодами, что выпадали на долю их, всего народа.
– Сколько ж наших жен и матерей разыскивают так родных! – И Юхниченко по привычке шумно вздохнул и выдохнул воздух.
Солнце уже угадывалось, проявлялось над головой; оно начинало чуть-чуть прогревать и разгонять туманную дымку, но еще слабо. Точно эта дымка бережно охраняла людской покой. Именно здесь. Временно.
Один раз Антон сам, возвращаясь в приречной долине, уже забеленной снежком, вдруг привидел будто бы брата Валеру, угнанного немцами из дома. Привидел неожиданно для самого себя.
Они, управленцы, по обыкновению работали и ночевали в больших армейских палатках, обложенных понизу вокруг для утепления сено-соломенным валком. В палатках протапливались железные печки-буржуйки, но воздух выстужался скоро; ночной холод пронимал всех ночлежников, как ни кутались они во все подходящее из одежды, кроме одеял; потому они бесконечно ворочались, кашляя и скрипя пружинами раскладушек.
И здесь тоже не было никакого земляного укрытия для спасения на случай налетов немецких бомбардировщиков. Сюда же частенько залетали и «Мессеры» попарно – поливали все свинцом. Разбойничали еще… И тогда Антон, тоже хоронясь от шалых пуль, как все, забегал за толстенный ствол раскидистого дуба-защитника.
Была пронзительная пора с тонкой красотой окрест. В долине выше темнели срубы, а в низине, в пожухлых зарослях – главным образом ив – проблескивала, петляя, речушка и южнее ее черным шлейфом пропечаталась раскисшая дорога, и по ней денно и нощно ползли-волоклись, что муравьи, наши солдатики с боевой техникой. Катили, наплывали. А над сей местностью низко стлался многополосный войлок облаков, подтушевывая всю видимость.
И легок был мальчишеский шаг Антона, мысли его спокойны, ясны.
Только будто что внезапно толкнуло его в грудь, когда он, минуя ближайший кружок очень молодых бойцов, расположившихся, видно, на привал у костра (прибыло, наверное, новое пополнение), невзначай скользнул взглядом по голому затылку одного неказистого на вид бойца-паренька, сидевшего на корточках спиной к нему, проходившему мимо. И он аж приостановился, почти остолбенев: «Да неужто Валера, старшенький брат мой?! Не может быть!..» Да, порой в нашей психике происходят какие-то совсем необъяснимые вещи – казалось бы, ни с того, ни с сего; поди, разберись моментально в чем-то противоречивом…
Антон попытался получше вглядеться в лицо солдатика – и уж готов был порывисто кинуться к тому… Ведь они не виделись с февраля этого года. Как, откуда ж тот мог сейчас оказаться рядом с ним? И что: подсознательно вмешалось в его разум желание видеть брата живым, невредимым да смешалось с преждевременной радостью за него и щемящей жалостью к нему, незащищенному? Однако, пока он накоротке решал, обознался или нет, словом, мешкал, – солдатик встал и, не оглянувшись, так что его не видно было худое лицо паренька, пошагал прочь куда-то туда, откуда Антон шел. Пошагал уверенно – на порывистом колючем ветру, от которого отворачивался, лишь располыхивались полы серой его шинели. И потому оставил Антона в совершенном недоумении. Он не смог разглядеть наружность бойца, хотя машинально и поторопился было опять за ним, как привязанный, – прошел некоторое расстояние (а дальше уж преследовать и обгонять его не мог). И очень сожалел потом об этом, хотя и не был уверен в том, что не обознался случайно. Ведь в военной форме все пареньки похожи друг на друга.
Вот терзающие дни!
А спустя неделю его очень обрадовало присланное письмо матери: она сообщала ему, что Валерий вернулся домой; они, лагерники, убив немецкую охрану, вырвались из лагеря под селом Красное. Это произошло именно здесь, где Антон и находился теперь. Поразительно, что вовсе не случайно вышло совпадение с тем, что ему привиделось. Стало быть, он только чуть-чуть разминулся где-то с братом. Но отчего же все-таки неожиданно возникло у него такое предчувствие? Само сердце все почувствовало так?
И запомнилось Антону, кроме всего, в эту пору раскисшие от дождей и размешанные грунтовые дороги, непролазная грязь, что геройски преодолевали, главное, водители в частых поездках. Он восхищался ими.
Да, осенние смоленские дороги были совсем непредсказуемы в неглубоком тылу. На них терялось пространственное ощущение и легкость понимания самого себя, невзрослого, – отчего потом каешься в душе и ругаешь себя по-тихому за непростительную легкомысленность в поведении.
Итак, они, служивые, на трех полуторках полдня уже ползли, а точнее плыли – буквально по самые кузова – по желтой липкой глинистой разливной жиже, одолев от силы километров десять с небольшим. Они простаивали еще из-за бесчисленных заторов, когда благополучно и объехать-то завязший грузовик нельзя: настолько все вокруг размешано, хлипко, неустойчиво, что можно в ходе объездного маневра насовсем застрять – и не заметить как.
На Антоне были еще легкие брезентовые сапоги (других покамест не было у него). Так что с каждой минутой ноги у него коченели все сильней. Да и самого его, сидевшего с сослуживцами на верху кузова, на пожитках хозяйственных, пробирал осенний неутихающий ветер с бесконечно сеявшимся дождем. И нарочно бодрившийся – наперекор погоде – сержант Пехлер, в фуражке, высовываясь из кабины справа, опять настойчиво допытывался у него:
– Ну, совсем закоченел, небось? Вижу, вижу: посинелый…
Антон, подрагивая мелко, почти пролепетал уже:
– Отчасти… Ноги… Но я выдержу еще…
– Давай, ступай вон к Маслову, в тепло, – уверенно настаивал Пехлер. Он ведь предлагал уже.
Сзади приблизилась крытая санитарная полуторка – с удобным кузовочком.
Антону сильно не хотелось на полпути расставаться со своими дорожными попутчиками и попасть к другим, и в то же время было приятно, радостно сознавать то, что кругом его находились такие отзывчивые люди, готовые всегда помочь.
– А как? Можно теперь перейти? – И Антон, неохотно сдавшись, беспомощно глянул вниз, на дорожное месиво. Пройти даже и к приблизившейся автомашине невозможно: вокруг нее – желтая река шире самой дороги, а его грузовик, на котором сидел, всего лишь островок здесь. Как же пробраться?
Но пока он ломал голову над этим, Пехлер разрешил все довольно быстро:
– О! Маслов и перенесет тебя туда, пока стоим. – Он – в сапогах-непромокайках. – и тут же громко попросил шофера санитарной автомашины: – Эй, Маслов, друг! Возьми Антона и перенеси к себе. Замерз совсем.
И тот, долговязый, приветливо-улыбчивый, – не успел Антон запротестовать и сказать, что как-нибудь сам спуститься и переберется, – запросто-послушно, с большим удовольствием, точно только и ждал этой команды, вылезши из кабины, вперевалку подошел к кузову полуторки и подставил ему длинные сильные руки.
– Ну, хлопец, Антошка, валяй сюда. Я мигом тебя… отбуксирую…
Антон подчинился. Тут же Маслов, хлюпая сапогами, перенес его без особенных усилий и всунул в спасительное, вызывавшее зависть, тепло кузовка. Здесь его приняла так же радушно маленькая молодая черненькая старший лейтенант Полявская, жена чинного начальника одного из отделов подполковника Дыхне, ехавшего сейчас в кабине, рядом с Масловым. Эта очень милая женщина, мягкая, ласковая, укутала одеялом застуженные ноги Антона (по ее совету он снял сапоги и прилег на вещи в тюках) и находилась при нем, ровно при больном, нуждавшемся в уходе медицинском; она, что терпеливая сиделка на часах, сидела подле него – берегла его полусон; он же чувствовал, что начинал дремать, проваливаясь куда-то помимо своего желания (что с ним бывало крайне редко), и пытался как-то отогнать от себя подступившую сонливость, которая позорила его, тогда как машина рывками все тащилась по жидкому бездорожью. А он ведь был для Полявской ровным счетом никто. И поэтому испытывал в душе чувство, похожее на раскаяние в том, что малость сплоховал (как перед ней, так и перед всеми, кто возился с ним и кому он непредвиденно доставлял такие хлопоты), хотя, если признаться честно, и желанна – приятна ему была ее женская ласка. Но какое-то физическое бессилие у него, как он ощущал, продолжалось против его воли. Будто простудился он. Все могло быть. Но что же, что же делать?
Между тем случилось то, что обычно уравновешенный подполковник Дыхне заревновал к нему, как он невольно почувствовал, свое милейшее существо. Уже дважды при остановках открывалась дверца кузовка, впуская внутрь ветреную непогоду, и подполковник ревниво заглядывал сюда. И на правах-то обеспокоенного мужа негромко выговаривал столь непослушную жену – просил ее о том, чтобы она прежде всего сама отдохнула, не маялась. Тяжелый переезд.
– Зачем же тебе столько возиться с мальчишкой? – слышно шепнул он ей, видя его в забытьи. Но она мягко успокоила его. И отослала снова.
Антон не смел и видом своим показать ей, что догадывался о чем-то подобном, – было бы тогда все вовсе скверно, глупо. Только уж наконец как-то собрался с духом, может, отогревшийся вполне, – совладав с собой, перестал дремать, докучать славной попутчице.
Как раз кстати завернули – с тем, чтобы отдохнуть и перекусить – в какое-то село, убавленное войной тоже зримо. С потемнелыми распотрошенными постройками. О, сколько ж их, таких печальных сел уже встречалось на пути! Не упомнить…
Опять в привычно прежнем окружении сослуживцев, вместе с деловитым Пехлером и разговорчиво-веселым Масловым, Антон окончательно отогревался уже в избе, сидя на толстой пристенной скамье. Здесь, несмотря на светлый еще день, весело трещала огнем топившаяся лежанка, пахло чем-то съестным и шел степенный разговор военных мужчин с немолодым хозяином в поддевке – со впавшими глазами, он лишь косился на Антона пытливо-печально, но ничего про него не спрашивал ни у кого. Что-то и без слов ему было понятно. Об этом можно было догадаться. И, глядя в плакучие окна, на тоскливо шевелившийся под ветром и косо хлеставшими дождинками пожухлый бурьян у серой изгороди и полуоголенные ветки деревьев над деревенскими крышами, и слыша серьезный мужской разговор о том о сем, Антон с острой болью вдруг вспомнил свой прежний дом, мать, отца, такие же почти скамейки с сидящими нарядными по праздниками бабами, тетками и дядями, и какую-то безмятежность, чистоту, уют деревенской избы – все, безвозвратно ушедшее от них, погубленное завихрившимся над Европой смерчем.
Прошло после этого более полутора лет. В апреле 1945-го года они находились уже на Одере, когда старший лейтенант Полявская, отболев тифом, вновь вернулась из госпиталя в Управление. Она сильно изменившаяся в чем-то – вроде б более юная, чем прежде, и прелестно утонченная, с будто поширевшими глазами и в цветастом платочке, вошла в комнату к маленькому подвижному солдату-художнику Тамонову во время посещения его Антоном: по договоренности с ней тот приступал к карандашному наброску с нее. Она сама об этом попросила.
Полявская поздоровалась тихо-торжественно и, приблизившись к Антону, подала ему нежную, слабую руку. «Похудела так? – подумал он. – Что же изменилось в ней?.. Да, только на портрет ее сейчас… Вся светится…» Ей словно мигом передалось волнение Антона, и она, казалось, этим не меньше его была смущена и также растрогана сочувственно-любовным вниманием к ней всех. И затем, усевшись на стул, чтобы позировать настоящему художнику, бывшему преподавателю – профессору, она даже пригрозила Антону дрожащим пальчиком, веля ему замереть и, может быть, даже не глядеть сейчас на нее, чтобы не мешать. И вот ловким движением сняла с головы платок.
Боже! Да у нее была коротенькая стрижка – «под нулевку», и новый черный бархат густых волос еще только подрастал бобриком; это делало ее лицо совершенно мальчишеским почти, с тонкими линиями. Тотчас же Антону нежно вспомнились ее мягкие руки, некогда касавшиеся его, продрогшего, ее терпение и святость беспокойства о нем, узнанные им так счастливо на разбрякшей осенней дороге под Смоленском.
Но, может быть, явственно-отчетливей теперь он находил Полявскую более нежно-хрупкой, прелестной и потому, что все-таки немножко повзрослел за минувшее время? Не дано ему знать…
О, сколько же сил верной женской любви отдавали они, прекрасные самоизбранницы, везде бойцам, мужьям, детям и таким чужим мальчишкам, как он, в дни тягот войны! Низкий им поклон!
XVI
Еще многажды этой осенью они перебазировались в прифронтовой полосе.
Зима же 1943-1944 годов для всех армейцев, служивших в Управлении госпиталей, показалась долгой вследствие того, что в направлении белорусского города Чаусы велись долгомесячные бои и не было никакого продвижения наших войск вперед на Запад. Оно застопорилось. Немцы, умело укрепившись, огрызались; они даже бомбили наши тыловые части и выбрасывали малые десанты да раскидывали по наезженным дорогам новые кассетные мины-ловушки, которые при падении зарывались в снег и взрывались под колесами.
Весь состав управленцев привычно квартировал в просторном лесном селе, затерянном среди снегов, и нормально питался, в диковинку разучивал текст первого советского гимна и даже регулярно парился в местных сельских банях, топившихся по-черному. Они с автоматами ходили и на прочесывание леса – в поисках диверсантов. Однако наблюдалось у служивых людей и какое-то бездействие в чем-то нужном, повседневном. Расхолаженность. Так, тут и твердохарактерный сержант-повар Петров не обеспокоился никак из-за отсутствия при кухне хороших дров. И едва Антон напомнил ему об этом, он вскинулся на него, будто кровно разобиженный его неуместным напоминанием:
– Ты, Антон, сам видишь не хуже меня, что к чему, – не десятилетний, чай; тебя это беспокоит, так и действуй самостоятельно… Ты сходи к подполковнику Дыхне, если больше никто сейчас у нас не может скомандовать, коли он замещает улетевшего куда-то командира части, – и скажи, потребуй! Тебе-то, мальчишке, – что!.. Пошел – сказал. Пускай разберутся!..
– Да я и сам бы съездил в лес за дровами с кем-нибудь… – сказал Кашин. Но сержант одернул его с неудовольствием:
– Ну, вот еще! Пусть нам привезут-обеспечат… Еще будем сами пузыниться… корячиться…
– Но я ведь и так дрова накалываю и таскаю…
Он недовольно зыкнул на Антона глазами, и Антон поскорее ушел.
Зимний день был бело-лучистый, тихий.
Кашин, смущенный, что некстати так заявился к подполковнику Дыхне, квартировавшему в избе вместе с маленькой женственно-мягкой черноглазой женой, старшим лейтенантом медицинской службы Полявской, – они завтракали, – извинился и объяснил цель визита к ним.
– Майор Рисс ответственен за хозяйство, – не замедлил подполковник с решением и, точно он сам только и думал о том, но некого, кроме Антона, послать с приказом, сказал ему серьезно-строго, как он делал все: – Ступай сейчас же – передай приказание майору. Пускай привоз обеспечит.
«Вот еще наказание!» Антон уже знал некоторые странные порядки в субординациях, царивших в Управлении. Но с радостью оттого, что настолько легко могла сейчас разрешиться проблема дров, он направился в дальнюю избу, занесенную сугробами. Хотя и тот и другой возглавляли равные отделы, но старший по званию – подполковник Дыхне все-таки замещал теперь самого командира Ратницкого. Да и сам Антон не ослышался – он велел: «Передай приказание…» «Ну, не передашь его, как велено, – и не будет опять дело выполнено», – думал Антон, пока мерил ватные сугробы, – село-то в двадцать дворов, а раскинулось на целых полтора километра.
Антон с мороза, нашарив дверную ручку, с усилием открыл тугую дверь и попал в третий штабной отдел – прямо на колючие с желтоватым отсветом глаза круглолицего и круглотелого майора Рисса. Был он рассеян, думал о чем-то, изморщив лоб и, привстав из-за стола, в упор хмуро спросил у него:
– Ну? Зачем пожаловал?
Антон, простак: тут и выложил ему с ходу, в тон его обычных по отношению к нему шуток и подтруниваний, что он должен был, по его разумению, понять:
– Подполковник Дыхне приказал… – считая, это произведет магическое действие, но в то же время замечая по обратившимся вдруг на него испуганным лицам штабников, что сейчас произойдет что-то непоправимое – .... распорядиться насчет привоза дров…
– Что?.. – переспросил седовласый майор, зайдясь в гневе.
И Антон, бледнея, повторил приказ, уже не в силах был остановиться.
– Что?! – багровея, вскричал взбешенный майор и отшвырнул прочь из-под ног табуретку. – Мальчишка! Не знаешь, что…
Поток обидных слов разгневанного начальника обрушился на голову Антона, и он больше ничего не слыша, лишь стоял в оцепенении. Он ничего не понимал – был не в состоянии понять; ему было досадно и обидно до слез оттого, что он чем-то вызвал столь великое оскорбление человека, которого очень уважал. Ужасные были его слова. Но, видно, справедливые в своей основе. Хорош себе! И от невозможности тут же исправить все, а также оттого, что он чувствовал, какими жалеющими глазами в эту минуту глядели на него притихшие сослуживцы, Антон нагнул голову, повернулся и выскочил вон из избы. Только на морозном воздухе опомнился мало-помалу, побрел себе. В заботе своей переусердствовал, должно.
– Ну, как, добился ты чего-нибудь? – наигранно-браво справился у него сержант Петров, потирая в нетерпении крепкие волосатые руки.
– Да, – ответил Антон угрюмо и немногословно, – сказали, что будут дрова. – В этом он был теперь почему-то уверен.
Этим же днем сущее позорище устроили ему двое местных балбесничавших парней.
Он, навестив в доме заболевшую простудой Анну Андреевну, спеша, нес обыневшей деревенской улицей кастрюльку с молоком (где-то раздобытом) – для того, что его вскипятить, когда посреди дороги два подростка преградили ему путь и стали толкать его в грудь – осаживать назад – ни с того, ни с сего. Они, одетые в тулупчики и в валенках, были рослей и здоровей его, притом с совершенно свободными руками, в отличие от него; они возвращались издалека со школьных занятий с болтавшимися на ремнях с плеч портфелями.
– Постойте, отстаньте, ребята! – Антон был обескуражен наглостью такой. – Пустите!.. Я лекарства для больной несу… разолью…
Но они лишь лыбились и гоготали от удовольствия дозволенной себе шалости, граничившей с издевательством, с провокацией.
– Перестаньте же! – просил Антон. – Вы видите: у меня руки заняты… Говорю по-хорошему вам…
Антон никогда не понимал дурашливости тех мальчишек, кто задирал товарищей, избивал младших, нападал вдвоем, втроем на одного, – дурашливость и насилие были в его глазах переходом грани нормального, естественного поведения. Он принимал только открытые, ровные товарищеские отношения – что говорится, без подвохов, начистоту.
Ну, и наивен же был тут он, увещеватель добрый!
Парни не слышали его никак. Они продолжали куражиться над ним, все пихали его назад, заставляя только пятиться и не давая ему даже нагнуться для того, чтобы хотя бы поставить кастрюльку на снег и так освободить свои руки. А вокруг было безлюдно, тихо. Пышный снег покрывал все, слепил белизной своей; редкие сероватые избы, бани тонули под ним, точно в белых шапках и воротниках.
– Да я вижу: вы же – детки полицайские! Бестолочь!..
Но они, не внимая ему, отступились от него лишь после того как втолкнули его в сарай. И был их удовлетворенный смешок в ответ:
– Ха-ха-ха! – оттого, что они позабавились так. В полной безопасности для себя.
И как же Антон, досадуя, изумился вдруг, когда заглянул вперед вновь с дороги и хорошенько разглядел в окне крайней избы, в которой помещалась армейская кухня, маячившее лицо сержанта Петрова: он спокойно, значит, наблюдал за неравной забавой парней! И даже не вышел на крыльцо, не сделал шаг, не крикнул им, чтобы усмирить их! Вот стыд и позор! И недоумение…
– Что же ты сдачи им не дал? – Сытый, благополучный крепыш Петров покраснел, покашлял. – Я бы… Сумел…
Антон смолчал. «Ничего себе позиция! Он, как старший здесь, выставил меня в хлопотах перед начальством о дровах, подвел под удар, – и был таков. Лишь красуется собой, своими мышцами, самодовольствуется… И не помог мне хотя бы окриком против парней. Дескать, выпутывайся, малец, сам: ты мужчина или нет? Ничего себе сильная мужская позиция!»
Так сразу качнулось у Антона доверие к нему и подверглось сомнению.
А вечером Антона вызвал к себе новый замполит части майор Голубцов, чему он сильно удивился. Было подумал, что, видно, сейчас крепко влетит ему за мальчишество, непонимание чего-то важного. Однако корректный суховатый замполит, прежде еще не беседовавший с ним, усадив его перед собой в кабинете отсутствовавшего подполковника Ратницкого, начал уважительно расспрашивать о том, доволен ли он службой и отношением к себе сослуживцев, часто ли он пишет письма домой.
Затем майор, сухо откашлявшись, стал осторожно выяснять, чем возмутился майор Рисс – не обидел ли его? Неизвестно, каким образом это происшествие дошло до Голубцова, кто успел доложить ему об этом – явно из-за проявления сочувствия к Антону; но все чувства в нем тотчас как-то натянулись, враз воспротивясь такому выяснению, Антон даже задосадовал. Как же, он ясно понимал, что во власти замполита было не только выяснить подлинную истину в этом случае, а и сделать ее последствием каких-то незаслуженных мер по отношению к достойному командиру. Да, был страх у него из-за того, что вследствие чего-то сказанного им, может пострадать, или будет обижена как-то совершенно неповинная ни в чем и ни перед кем личность, а не просто взрослый человек. И поэтому он уперся и только твердил непробиваемо, взволнованно:
– Честно Вам говорю, товарищ майор: я сам виноват! Я понял! Может быть, забылся малость… Я честно признаюсь…
Антон не то, что запирался отчаянно, и не то, что страшился за себя; он говорил правду сущую, единственно верную для себя, вкладывая в свои слова искренность и чистосердечность, чего Голубцов, быть может, и не ждал. Он, ровный, степенный по характеру, держа перед собой тонкие руки, проникающе заглядывал в глаза Кашину…
Что же он мог увидеть в них?
И теперь Антону было жаль напрасных усилий замполита, искавшего внеслужебное отклонение в чем-то?
Он давно и хорошо знал майора Рисса, чувствовал его характер: накоротке познакомился с ним с самого первого дня пребывания Полевого Управления под Ржевом; они обычно подтрунивали друг над другом вопреки возрасту своему, но симпатизируя друг другу. Майор Рисс, известно, был живым человеком, хоть и в возрасте, пусть и импульсивным, вспыльчивым, но нисколько ни мелочным, ни злобным. Просто Антон малость забылся перед ним в неподходящую для этого минуту, и тот накричал на него, сорвавшись, не поняв неожиданно его словесной игры. Вот что. И злоключение свершилось. До обидности. По стечению каких-то обстоятельств.
Антон уходил от Голубцова довольный собой, тем, что повел себя по-мужски, и удовлетворенный поэтому тем, как сладился с ним весь щекотливый разговор – без какого-либо урона для кого-нибудь. Что есть самое главное. А не что-то другое.
XVII
Как бы там ни было, все же вышло так, что назавтра поутру жилистый, измятый и угрюмоватый солдат Усов, в потрепанном ватнике в валенках подкатил в розвальнях к тыльной части избы – к выходу. Спросил хмуро-недоверчиво, кто еще пойдет в паре с ним лес валить, – пила-то длинная, двуручная, а дерева валить, известно, не простая ведь забава. Наломаешься.
– А я, товарищ начальник, поеду с Вами, – обезоружил Антон его.
Есть сорт особых людей – с будто неизменным характером при всех обстоятельствах и мировых событиях, даже удивляющих тем особенно в крутое военное время; причем они так ведут себя или по крайней мере делают такой вид, как будто им ровно в тяжесть любая профессия и даже собственное дело, которое они отлично делают, или набивают зачем-то себе цену, чтобы возвыситься в глазах окружающих. К их числу, по мнению Антона, несомненно принадлежал и Усов, неприветливый, несловоохотливый. Но, может, ему почему-то это только мнилось? Как то знать…
– Я смогу – да, да! – и пилить, и таскать, – сказал Антон. – Не впервой ведь мне. С отцом, бывало, езживал. Возьмете или что?
– Екши, екши, – закивал головой довольно плотный старшина Абдурахманов, жмурясь подслеповато. Никаких забот больше нет у него с подыскиванием напарника… Но кого еще послать подсобником? Да вроде бы и некого: кто в поездке какой, кто болен. Народу-то в части – раз-два, и обчелся.
Кашин сам напросился – к удовлетворению других взрослых. Ему очень хотелось поехать. Да и это же не прочесывание леса от немецких десантников, когда его не взяли дважды, ссылаясь на нехватку оружия для всех желающих…
И основательно-медлительный Усов, глянув на того, на другого свидетеля разговора и не найдя поддержки, словно в нерешительности принял его услуги и велел собраться поскорей.
– Одну минуточку… Погодите… – Антон перво-наперво по ступенькам влетел на кухню и вынес оттуда кусочек хлеба для лошади. – На, поешь!
Она потянулась к нему, захватила губами полоску хлеба, заработала челюстями.
С нескрываемым блаженством Антон сел в дровни на солому, и сани мягко – при легкой пробежке лошади – понесли их по накатанной извилистой дороге.
Под солнцем – оно проблескивало из-за пепельной пелены – мелкие снежки, искрясь, кружили в воздухе; глубокий снег всюду розовел, слепил, на нем нежно голубели тени; кусты, сосны, ели и березы, опушенные в инее, как мраморные, стояли величаво, сказочно.
Хрупкая стена леса почти сразу поглотила их еще больше глухотой, настороженностью, туманностью и нетронутостью. Здесь, сказывали местные, водились даже волки, наведывавшиеся по ночам во дворы деревни, хотя во дворах теперь было мало что от живности. Но Антон видел на снегу лишь чьи-то петлявшие следы и стрекочущих сорок, жавшихся поближе к жилью.
Казалось, то же самое уже было и это ты с отцом мчишься, так же мелькают перед тобой лошадиные копыта, выбивают комочки снега, бренчит сбруя, – все связывалось у Антона с воспоминаниями о нем.
Забравшись в лесную глубину – с пестревшим нежным березовым царством – съехали здесь с дороги и развернулись для удобного выезда опять на нее. Хотя рубка была грустной – по-необходимости, но, довольные, свалив несколько стройных, почти без сучьев, белоствольных деревьев и распилив на части для удобства перевозки, а потом, подтаскивая, накладывая и увязывая воз, очень распарились и устали от физической работы на глубоком снегу. Но зато даже угрюмый Усов заулыбался и разговорился с Антоном, которому оттого подумалось теперь, что он совершенно зря придирался в своих чувствах к нему. Был человек как человек. «Может, я еще мало что смыслю в жизни?» – задал он себе вопрос.
На обратном пути в лесу, не имевшем существенных перепадов местности, дровни с березняком катились ровно, и Антон сначала шагал за ними. Только что-то вдруг случилось, и ездовой, сидя на передке, велел живо и Антону тоже сесть на воз. Что он и сделал, не мешкая. Немедленно замелькал кнут, отчего все быстрей и быстрей понеслась вперед лошадь с возом. И, расступаясь, побежали мимо – назад – обснеженные деревья.
Что такое? Зачем? Антон с немалым удивлением взглянул на шального возницу. И тут-то увидал какого-то мужчину, которого они миновали, проскакивали с лету, не останавливаясь, вроде бы не старого еще на вид, но обросшего, воздевшего руки в рукавицах – то ли с просьбой, то ли с мольбой о чем-то. Он кричал что-то им, даже пробежал за дровнями. Однако Усов погонял кобылу с лесом до тех пор, покуда растопыренная эта фигура не отстала насовсем и не скрылась затем за поворотом.
– Он еще худо может сделать нам, – пробурчал он после в объяснении такого спурта. – Возьми его на дровни – и сам будешь пропащим. Научен уж горьким опытом…
Ужасно!
Вот повторение худшего, огорчительного для Антона. И снова заскребло на душе у него оттого, что, выходит, они взяли такой грех на себя – и он поучаствовал в том, что не помешал ездовому, – и оттого, может, человеку в беде не помогли…
Правда, уж менее километра отсюда оставалось до опушки, и пешеход шагал и держался вроде бы устойчиво…
Нечто подобное случилось в ноябре сорок первого года: тогда трое братьев, ехали на дровнях в лес за дровами. Двоюродный брат Толя правил Гнедой. И вот из прилеска, что за развилкой, навстречу им вышла, что призрак, серая фигура будто бы красноармейца. Явно изможденная. Она попыталась вроде бы их остановить на всем ходу, жестикулирую, прося. Рядом пробежала сколько-то шагов. Да куда тут! Толя, словно спохватившись, стал нахлестывать кнутом Гнедую; он подгонял ее, не давая братьям опомниться.
Они боролись с ним в санях во время гонки, пытались выхватить возжи у него. Да толку что. Они промчались уже далеко.
– Гад! Какой же гад ты! – Негодовали Антон и Валера.
– Ну, я сдрейфил,.. – говорил Толя после, – с кем такого не бывает. Подсадить его – так он отнимет у нас лошадь или нас убьет… И ведь он не в лес, а к городу шел… Непонятно…
А назавтра браться, как ни страшно им было, снова ехали в санях мимо этой развилки и видели на пригорке лежавший навзничь почернелый труп в красноармейской шинели. Но неизвестно, был ли это тот красноармеец, который пытался их остановить вчера. Они как-то видели, оказавшись случайно в некой лесной засаде и заслышав шум мотора автомашины, что проезжавшие по большаку немецкие солдаты, заметив вблизи какого-то прохожего, вмиг остановили свою автомашину, вышли из нее с карабинами и стали стрелять в него – живую мишень…
«Что же это – подлость? Свинство? С нашей стороны, – думал теперь Антон. – И прав ли Усов, отвечающий сразу за лошадь и меня, еще неопытного парня. Ведь мы были безоружными, а немцы нередко по ночам выбрасывали сюда десантников…» Однако что-то важное при всем этом все-таки мешало ему в мыслях своих спрятаться за спину старшего.
«Вот в следующий раз я уже ни за что та не поступлю, – решил он. – Буду знать…»
Как-то меркло у него впечатление от такой дивной лесной, хоть и чисто деловой прогулки; у него упало настроение столь, что смотреть в глаза никому не хотелось, словно сам он совершил нечто безобразно постыдное.
В ушах отдавалась-слышалась траурная музыка, производимая оркестром, и прозвучали выстрелы при салютовании: на опушке, под соснами, военные хоронили двух офицеров, подорвавшихся на немецкой кассеточной мине – боевой новинке.





