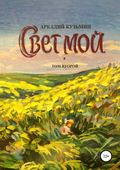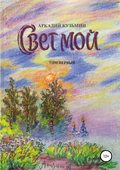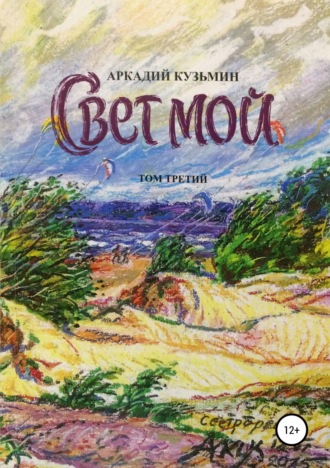
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
Как же сберечь все правду о том в сорной траве забвений?
И Антон испытывал боль за беззащитное население, оплачивавшее кровью своих сыновей и дочерей выходки мясников. И что нужно сказать страдающим? Чем утешить?
Но после услышанной истории от жены председателя колхоза ему уже не хотелось писать здесь акварели. Точно так же, как во время войны, он, подросток, не брал в руки карандаш. Как никогда у него не было восторга ни перед никаким зарубежным мотором-новинкой.
Антон женился на Любе в декабре месяце.
IV
Прошедшее – живая история, она напоминает нам все. И обо всем.
Женские поступки, как слезы, часто непонятны, от них оторопь берет; неясно, что их вызывает: желание своевольничать или испробовать лишь новый сорт вина, чтобы после испробования его, узнать, что оно ничем не лучше уже распробованного прежде, что оно даже хуже горчит… Такой самообман, к сожалению!.. А нужный поезд уже ушел… Прогудел…
Антон тогда немедля подумал так, еще не зная ничего-ничего о причине неожиданного визита к нему Ольги, едва та, уже располневшая неприятно, вошла в комнату, в которой поселились Антон и Люба после свадьбы (ее впустил в квартиру сосед), поставила сумку на стул, на белье Любы, лежавшее на сиденье, поздоровалась и велела ей:
– Вы, девочка, выйдите на минутку! – распорядилась, будто хозяйка положения, имеющая право командовать так, распоряжаться.
Люба вышла послушно, схмурясь.
Антон тотчас же молча снял сумку со стула, опустил на пол и вернул Любу в комнату. Сказал Оле жестко:
– Ты не финти здесь самозвано. Это моя жена Люба. Что тебя сейчас принесло сюда? Какая блажь?
Ольга заюлила:
– Я извещение на предстоящие выборы тебе привезла. По прежнему адресу в почтовый ящик кинули мне…
– Ну, какой сюрприз! У тебя все? До свиданья!
– Проводи, пожалуйста, меня до автобуса, – попросила она.
– Сжалюсь, провожу, – решил Антон. – Идем!
Ольга поспевая за ним, теперь пыталась высказать некое сожаление, что они расстались будто из-за того, что он не понял ее устремлений, а она не хотела того. Никак. И круглила глаза. И сбивчиво говорила что-то. Но это для Антона уже не имело никакого значения. Бесповоротно же!
Ольга, полнившаяся фигурой (при новом обеспеченном муже) уже после аборта, стала-таки заплывать жирком, и глаза ее заметно потускнели. Звезда ее угасла. И, хотя она шла, довольная, распахнув накидку, обтянутая желтой кофточкой и серой юбкой столь заманчиво, что вырисовывались ее высокая грудь и сильные бедра, – шла, подняв голову с пренебрежительным гордым отчего-то выражением лица, будто ясно вопрошавшего у всех встречных: «Ну, какова же я? Верно, прекрасное животное?»
И Антону от этого было грустно. Нелепость у нее – эти чары напоказ. «Я ошибся в ней? Не знал ее? Наверное». И было ему противно за себя, что он успел так подумать о ней. И отчего-то жаль ее, бедовую.
Ольга в последние годы еще позванивала ему редко, говорила:
– Ты еще жив? Ну, слава богу!
И все.
Отчего же мир не мил, слеп, жесток и к влюбленным тоже? Не приносит им удовлетворения желанного? Выбор есть?
Почему молодожены потом расстаются? Они для любви негожи, не готовы к ней всем существом своим, поддаются только первым чувствам неосознанным, физиологическим? И нестоек брачный союз? Возможен по природе перебор? Историй тому тьма?
Какой-то неоспоримой закономерности он в этом не находил.
Что же: в его жизни по-существу стал обыкновенный тривиальный повтор пройденного – досадная осечка, как и в большой государственной политике большой страны – России, только и всего. От этого никуда не уйти? Нежеланный житейский разлад с Ольгой не послужил ему наукой? Но науки у любви не может быть. И соревновательность в другой плоскости лежит.
Вернее, там лежала. Брала верх.
Там типаж – могучий обеспеченный спортсмен и завуч – гора мышц; он не утруждался тем, что заполучил свою живую звезду, разрушив при этом другую звездную систему непростительно.
И Антон тут почувствовал, что все изменилось: пришел худший мир, чем тот, в котором он пребывал до сих пор; и он еще понял, что в нем нельзя играть по честным правилам, чтобы выиграть в чем-то и уже играют бесчестные люди и вводят в сатанинский соблазн окружающих, и ему стало как-то тесно и в рубашке. «Отвянь ты от этих драмоделов, переходящих дорогу поперек тебя» – сказал он себе.
И снова у него не заладились отношения с Любой – произошла остуда. А в чем причина – было непонятно. Ему было стыдно прежде всего перед собой – не проявил способность ухаживания, как ни старался. Экстатической любви к ней, Любе, у него не было, он понимал (значит: иступленно-восторженной): отсюда все – разлад?
Впрочем, у Антона всегда был разлад с самим собой, как бы в душе он ни уговаривал себя успокоиться наконец; какое-то внутреннее рассогласование у него было с внешним миром, в котором он жил. Он видел: людское – нет, не то; природа лучше, естественней все придумывает; он поэтому писал ее всегда повсюду, где встречался с ней, всегда новой. Она действительно была лучше, чем придуманная – по памяти или же сфотографированная, прилизанная для удобства обозрения. Он находил в деятельности человеческой везде противоречие, абсурд и даже с естеством вещей, столь очевидным, бесспорным для других.
Абсурдно велась политика, были жалкие речи, потуги возвеличивания чего-то, хвастливость, вранье. Не стоило обращать внимания на это.
Антон видел, чувствовал: Люба, не желавшая пока иметь детей (он уважал ее мнение) изменилась по характеру спустя несколько лет после замужества. Она стала более неуправляемым существом, малосговорчивым, вольно упрямствовала, в особенности касательно ее любви, какой-то особенной, как она понимала, – тут у ней был заповедный рубеж: не моги и думать ничего отличительного от ее представлений о ней. И не просто было ему договориться по душам с ней о чем-нибудь наисокровенном и понять иной раз мотив ее поведения или каприза. И это отравляло ему с каждым днем само существование, расстраивало его как-никак. Он уж устал уговаривать и сдерживать ее, как малую капризулю; ему оставалось лишь безропотно воспринимать судьбу, выбранную им вслепую.
Она то жаловалась на головную боль, говоря, что в ней там что-то неладно и показывала на лоб не то всерьез, не то шутливо, как бы каясь перед ним в каких-то грехах, и он посоветовал ей отлежаться. То ее знобило, и он говорил, что, наверное, это после бани; у нас нынче холодно, нужно поберечься, форточку прикрыть. Она отвечала, что она не может позволить себе этого; у ней много дел – ее ждут на работе.
– А что? Какие у тебя дела сегодня? – спросил Антон.
– Посуда грязная на общей кухне – нужно помыть ее, – ответила Люба.
– Оставь ее до завтра.
– Я ее уже вынесла туда. Может, нужно еще постирать.
– Да оставь ты все это. Полечись! Успокойся!
– Ну, тебе об этом легче всего говорить. Ты не можешь понять всего, где тебе! – говорила она все раздраженней. – Ты даже сесть сразу за стол не можешь…
– Любочка… мы… – у него фраза тянулась – не получалась никак…
– У тебя всю жизнь не получается что-то, – перебила она его. – Что разговаривать нам впустую?
Он сел за стол – поел холодца, оставшегося в холодильнике. Он принес с работы две свиные ножки за 82 копейки, и она сварила шесть тарелок холодца, оказавшегося вкусным. Сюда мясо добавили на два рубля. Только неудобство состояло в том, что варила холодец около восьми часов. Его, конечно, в будний день не сваришь.
Люба вдруг слово за слово пристала к Антону:
– Ты думаешь, что тем, что идешь к столу, тем и ограничивается наше супружество?
– Дай, пожалуйста, поесть! – разозлился он. – Потом поговорим, если ты не можешь успокоиться!
– Чаю поставить? – спросила она скрипуче, управившись с посудой.
Он разумеется ответил, что нет, не нужно; ответил, как можно мягче, но вместе с тем с таким тоном, чтобы чувствовалась в его голосе какая-то обида или же намек на нее.
Она зазвенела металлическими бигуди, разматывая их на голове, снимая на ночь. Вздыхала. Через минут пять заплакала в постели и под одеялом.
Он пошел уговаривать ее.
– Дать попить чего-нибудь?
– Нет, дай платок. – Она вся изревелась. – Но вскоре вроде бы затихла.
Он определенно понимал: она сама с собой боролась, выбирая судьбу, как ей дальше быть, желая и страшась неизвестного нового.
Тут его разговоры-уговоры уже кончились.
V
Антон не знал, как это случилось. Все было обыденно. Как всегда. Никаких особенностей. И теперь ругал только себя, считал себя невольным виновником происшедшего охлажденья сердец.
И погода хлипкая, осенняя не радовала.
Люба вздохнула, воскликнула, на ночь глядя:
– Господи! Дай мне хоть немножко какого-нибудь интеллекта! Пожить нормально…
– Я ложусь, – сказал Антон. – Уже поздно.
– Ложись. Кто ж тебе не дает. – Отстраненный тон в произнесенных словах Любы.
Холодны и стены золотого города, власти каменны. Нет понятия у них. Не жди его. И не говори о том. Все впустую.
«И верно, верно, видишь все; и не постичь того – непостижима предопределенность самоустроения земной круговерти, хотя в теплом солнечном разливе и видишь вживь животворящие дали, наслоения утесов, висящую гроздь налившейся рябины и обессиленный листочек с прожилками омертвления… Все красиво… Ты слышишь, слышишь отстраненный тон в ее словах – посыл неверия…
Что важней всего? Состоятельность духа. Как бы не забыть начала. А где оно? Какое было? Все верно, кроме истины во всем. Нужна она? Ее нет. Есть одно незнание. Пустая алгебра, схоластика. И незнание зависимо. Есть только вера. Подмена – суть понятия. Упрощение всего. А этого не должно бы быть. Не было бы теперь и ослабления интеллекта у человечества. По мере его существования, карабканья и оглядки на самого себя, на ублажения плоти своей, растрате энергии зря, по-пустому… Всем известно… Стихиен, подвержен коррозии…»
Люба в своих доводах находила неоспоримое оправдание: любовь, причем не слепую, а единственную верную, свою великую. И когда Антон спрашивал: почему же она это делала втайне, поясняла:
– Боялась сказать.
– Почему же? – спрашивал Антон. – Ведь я пальцем тебя никогда не тронул.
– Я была так воспитана. В покорности.
Но он-то точно знал, что она была всегда непокорна отцу и бегала из дома, когда он проявлял гнев против нее.
Неверность она не считала изменой, а под любовью предполагала постель; остальные чувства мужчины, как внимание, предупредительность, верность, ее не волновали вовсе.
Антон знал, что она знала, как он не любил говорить о постели вот так обыденно, словно в оправдании себя и всегда нападала на него с этой стороны, считая, видно, себя знатоком мужчин.
Она не знала минуты слабости или снисхождения, противореча мужу; она знала лишь одно: она не увидела ни Парижа, ни особняка лишь из-за него, непронырливого, честного, хотя надеялась на нечто особенное, выходя за него, интеллигента, творческого человека, замуж: значит, выходила из какого-то расчета. Ну и, наверное, была все же у нее кое-какая любовь. Не без этого безусловно. И вот ее-то она ему теперь не простила. Он был виновен. Часы пробили. Решено.
И с таким ее решением он более чем согласился. По разумению.
И она ему еще сказала напоследок:
– За что ты так ненавидишь меня? Я никак не ожидала, что до этого дойдет… Ты всегда же относился ко мне добро… – Она сидела на постели полуголая, обняв руками колени и бесстыдно обнажив ноги. – Больше ты мне ничего не предложишь?
– А что я должен? Ты ясно скажи. Не говори намеками, – сказал Антон.
Она молчала, о чем-то думая.
– Что, тебе мало того, что я предложил?
– Да, все беда моя в том, что я все-таки ожидала помощи от тебя, на тебя больше надеялась, чем на него.
– А идешь к нему, мальчику своему? – Он развел руками. – Кончили, голубушка, этот разговор.
Ему уже претило ее умышленное, как он понимал, непонимание его. И он хотел, чтобы она теперь думала о нем хуже, чем он был и все делал на самом деле.
И было ему странно собственное вынужденное поведение.
От этого его никто не оберегал.
«Так вот обжигаются и вот реальное лечение», – нашелся Антон что сказать самому себе в связи с глупой болезнью, но только исключительно о сходном с этим глупейшим положением своим во взаимоотношениях с женщиной, которую любил: она ни за что дальше не могла оставаться для него другом, не могла и не желала этого, а тем самым разрушала его налаженную жизнь и, следовательно, его жизненные планы. Надо было начинать жить сначала в тридцать два года, т.е. выходило – со второй любви, коли он хотел жить нормальной семейной жизнью. Это он понимал и осознавал, только, понимая и осознавая, боялся все представить себе. Он нравственно еще был скован и чувствовал себя так, как человек, опутанный повязками и бинтами по груди и плечам, когда нельзя было ни пошевелиться, ни лечь на больную спину и плечи, ни сделать лишних движений тела, ни вдыхать полной грудью, чтоб не расслаблять повязки.
И, действительно, было тут все похожее. Солнечный ожог, полученный им на пляже в Хосте, когда он писал этюд под солнцем увлеченно – и не остерегся. С ним он прилетел в Ленинград и лишь на третий день пришел в больницу Эрисмана.
Когда в больнице при перевязке проходившая мимо медсестра взглянула на его обожженную спину, она удивилась, затем ухмыльнулась, и Антон, встретившись с ней глазами, тоже улыбнулся ей весело. Ну, не плакать же ему из-за глупости своей! Но было все же больно, очень больно, так, что хотелось кричать и сердце заходилось, сжималось, переставало стучать, когда сестры снимали пинцетами обожженную кожу и накладывали повязки с какой-то особенной жгучей мазью после того как обработали раны кислородом из подушек.
И это казалось пустяковым поправимым делом. Его могло бы и не быть, но оно было очень болезненным, беспокоящим. Но когда на третий день он сказал медсестре, делавшей ему перевязку:
– Сколько Вы со мной возитесь, извините, – она ответила просто:
– Не с Вами, так с другими придется.
Все верно. С ним произошло то, что с другими бывало.
С ним разводилась жена.
Как все сделалось, он не знал, но постепенно стало так, что ни она, ни он уже не были теми, кем они были друг для друга прежде – и год еще назад; все теперь у них разорвалось и было ни к чему, даже было теперь ни к чему соединять эти разорванные концы.
Антон тут вдруг отчетливо увидел Ольгу, поразительно такой, какой он ее еще не видел или не хотел видеть до сих пор – ни девочкой, с которой встретился и которую все время видел перед собой, ни девушку милую, которую мало что любил, но боготворил и которой мог прощать многое. Он увидел перед собой вместо любимой просто ставшую взрослой женщину, которая надменно не то, что его ненавидела, а презирала с какой-то свойственной ей изумительной жестокостью.
И откуда это все скопилось в ней? Уму непостижимо.
Впереди же был второй перевал. Ему предстояло его перейти. И он перешел его с потерями. Но что-то человеческое в себе сохранил. Старался сохранять без поддержки даже жены. Иначе – бессовестно жить на свете.
VI
Ночью, в предутренний час, Антону опять осязаемо снилось корявое деревце, перед которым он сидел, как пан, – он отчетливо видел себя и его за собой; оно было похоже на тот корявый дубок, который рос за двором прадеда, посаженный им, с черной вороной на суку, и который он запечатлел на одном из первых своих этюдов маслом весенним утром на фоне проснувшейся зазеленевшей озими. За этим дубком сбегала тропинка вниз к пруду, в котором они, ребятишки, купались, и к речке малой, пересыхающей иногда в жару. И по тропинке той, едва обозначенной Антоном в этюде, еще бегала девочкой его мать и таскала ведра с водой и в корзинках белье, которое стирала.
Почему-то ему повторно снились некие зрительные моменты, очень похожие на виденные им в жизни, будто невзначай сама по себе прокручивалась пленка с записями. Особенно роскошно показывались сельские пейзажи (целая серия их) с буйствующей непогодой, когда все в движении, в объеме. И когда у него нет времени, чтобы эти пейзажи написать. Хотя бы попробовать их повторить.
И еще наутро по сути Костя Махалов сказал Кашину при встрече на работе – в коридоре издательства:
– Я был сейчас там, в Пеште, где был ранен в сорок пятом и убит, как считали в моей части разведывательной. Во сне, конечно. Приснилось. – И вздохнул. – Жаль ребят. Я там, на Дунае, из-под моста, фонариком светил катерам – мигал, знаки подавал, где им лучше пройти. Мы на разведку вышли. Потом я, раненный, плыл к берегу…
Между тем из-за открытой двери редакторской доходил до слуха мужской говорок:
– А почему он с ней не сблизился в постели? Из-за опаски, наверное, не захотел испортить историю своим вторжением? Оправдывал он свое не мужское поведение – не изменить – возможно, в чужих глазах?
– Может, может быть, – отрезала дама. – Не заморачивайся ты!
Почти сразу же насовсем открылась дверь редакционной комнаты, и из нее вывалился мужиковатый крупнолицый и весь заросший, как медведь, художник, в такой же темнорыжей сотканной одежде, с большой черной коленкоровой папкой под мышкой. Он по сути чуть ли не сбил шедшую ему навстречу Ларису Овечкину, милую искусствоведа. И та воскликнула несдержанно, как на улице:
– Вот лошадь Пржевальского!..
– Да, да, извините, – попятился художник.
А уж из-за той же двери вслед ему понесся возбужденно – громкий голос Муриной, редакторши тучной, крутой:
– Послушайте, Маслов! Маслов, послушайте меня! Сегодня – редсовет! Вам следует быть на нем.
– Попробую, – ответил он. И утишил последующие свои слова: – Но фига вам. Не люблю бывать на своих похоронах, пожелайте мне ни пуха, ни пера. Я ухожу. – И этак картинно-неуклюже раскланялся со всеми. Явление природы.
Наступила такая тишина, что откуда-то донесся даже тонкий приторно захлебывающийся смех Эльвиры, своим присутствием украшавшей всегда общество.
– У меня в то военное время был другом его однофамилец – Маслов (и Антон даже вздрогнул), шофер, прошедший всю войну – был под Киевом, под Сталинградом, подо Ржевом, под Берлином. – Почему-то признался другу Антон. – Не знаю, где он сейчас, жив ли?
– А ты про это самое и напиши. Есть и благополучные истории, – сказал Махалов. – Вчера же за городом, где – по шоссе – носились с ревом моторов мотоциклисты (молодые ребята), на моих глазах вдруг перевернулся на ровном месте старенький москвич. В нем ехало четверо парней, бывших, видимо, навеселе, и когда машина перевернулась дважды, из нее выскочили эти парни в целости, снова поставили тачку на колеса, влезли в нее и дальше покатили, как ни в чем не бывало. Даже ни единого стеклышка из нее не вылетело, не повредилось. Каково!
– Меня тревожит явная тенденция не замечать нормального развития искусства, а делается крен на избранность чего-то новомодного, пусть и непонятного большинству народа, – посетовал Максим Меркулов.
– Что ж, открытая форма давления, но в обратную сторону от традиционного магистрального развития, – сказал, как бы прищуривая глаза Блинер, отчего возле них вырисовывались гусиные лапки морщин. – Давление на публику за счет денег, измора. Это нонсенс.
– Прискорбно, – добавил Меркулов. – На нелюбви к отечеству нельзя творить великое и строить свое благополучие. А это для кого-то по сю пору еще служит эталоном продвинутости и избирательной модой, навязываемой всем, чтобы сорвать свой куш, отличиться. Засветиться.
– Ну, если в чем-то другом – нормальном – не могут, не умеют. Собака в этом зарыта. В этом дело.
– А Вы, Антон Васильевич, как считаете? – спросил Блинер. – Вы же лекции о том читаете студентам, кажется.
– Он и другое кое-что делает, – вставил Махалов.
– Да тоже от всех изменений в художестве недоумеваю, как бы ни почитали их просвещенные знатоки, перекормленные икрой, идеальной для бутерброда (для употребления всеми едоками), – отвечал Антон. – Новинное будет являться всегда и во всем. И в охотку сперва. Но превозносить что-то новомодное…
– … Неразумно, близоруко, – и я так считаю, – договорил Блинер.
– Спасибо! Интересно, почему в иконописании не экспериментировали с живописью и не забавлялись ею? Держали высокий уровень. Потому что икона служит для всех и понятна всем по ликам. И мастеровитей Тициана невозможно быть. Так что после него забавляться росписями живописью несерьезно. По-моему. Увольте.
– Вот спасибо, Антон! Вы совершенно правы.
– Меня и Пикассо не трогает.
– Да, да, конечно.
– Продавец (или держатель) товара на все наводит глянец и трубит о нем, чтобы его всучить, продать. Янки это и в живописи начали – все перекупили, переиначили; их элита, вернее, тузы – барышники, держат тон на этом. Они такую революцию наоборот для своего успеха произвели, иной наш мусор (извините) – не весь – причесали, вознесли, ценники на него навесили…
– Я скажу: они далеко не мусор подобрали. Не секрет, кое-кто из них по-тихому отлично же обогатился у нас, в России, в революционные дни за счет вывоза «буржуазного» антиквариата, когда эти кое-кто отирались возле революционеров, плевавших на бесхозные такие безделушки. Было, понимаете, не до этого.
– Это – сомножители. Только смешные дроби у них – практически их нет: числитель имеет все, а знаменатель почти ничего. Делить для счета нечего.
А глянец? Я помню сорок первый год. Под Москвой. Октябрь. Сверхвоеннизированные и замуниченные немцы осатанело прут вперед; страна дыбится, горит. А какой-то здоровяк, находясь не в окопах, а перед нами, мальчишками, одурело тычет нам под нос немецкую коробочку из-под сигарет с душистой прокладной бумажкой и взахлеб приговаривает: «Ну, понюхайте же, как все пахнет хорошо! Такие же немцы хорошие!»
Свет мой! Моя земля!
Эльвира прошла, на Антона посмотрела с изумлением, что ему как-то не понравилось. Он переборщил, что ли, подумалось ему, с высказыванием чего-то личного? Он не понял. Не перестал высказываться.
– Антон, говорю, и кое-что другое делает, – сказал опять Махалов.
Меркулов сосредоточился, как бы примеряясь к спокойствию.
Нельзя сказать, что Люба зачерствела душой; нет, она была любезной, дружелюбной со всеми. О том свидетельствовал и следующий случай.
В сквере уже сливочно бутонились ветки кустов и бархатно выжелтивались кое-где звездочки «мать-и-мачехи», когда одиноко сидевшая у подъезда пенсионерка в рыжем пальто, торопливо поздоровавшись, спросила у подошедшей Любы:
– Доченька, вам не нужен огурец? Стоит шестьдесят три копейки…
– У нас есть огурцы, Марья Алексеевна. – Люба в недоумении остановилась перед дверью парадной: такое предложение исходило от малознакомого человека, с кем она встречалась иногда.
– Извините, а я хотела что спросить: не возьмете ли этот огурец, если только дочка заругается на меня? Я ведь без спроса его купила себе. Захотелось вдруг… весной… А мне запрещено своевольничать с едой: дочка все экономит, жалеет… – И бескровные старушечьи губы задергались мелко.
– Конечно же тогда куплю, – с готовностью ответила Люба, хорошо понимавшая это чувство обиды. – Не волнуйтесь, Марья Алексеевна! О чем разговор! Ну, хотите, я сию минуту отдам Вам деньги на всякий случай, а Вы потом огурец принесете или вернете деньги, коли что?
– Нет, не нужно пока, милая. Спасибо. Если только не уладится… Вот, поди ж ты, повернулось как! Считает дочь, что это лишняя трата. – Марья Алексеевна уже всхлипнула, не таясь.
То-то Люба, видя ее, мать трех взрослых детей, такой невеселой, замкнутой, недоумевала: «Что с ней?» Живет в кооперативной трехкомнатной квартире. С очень ухоженной состоятельной дочерью – уже дамой, шибающей всех своими дорогими шубками, собольей шапкой, сапожками, броскими кольцами. С гладким зятем, гоняющим туда-сюда на сверкающих лимузинах. Они разъезжают по заграницам. Сами довольны – будьте нате. И вот через какую-то обыденщину приоткрылась вдруг эта необъяснимая в нормальном восприятии жизни чужая бездна.
А спустя день Марья Алексеевна облегченно поделилась с Любой:
– В этот раз пронесло. Был радостный день у дочери – на работе ее хвалили, отметили. Там она – на хорошем счету. Качает права.
«Как диктатор, – подумала Люба. – Ну-ну!»
Но она судила его, Антона, в положении виноватого, как и ее отец судил всех.
VII
Антон, пооткровенничавший с друзьями, почувствовал себя пресквернейшим образом, точно опущенным в саму ощущаемую им холодную реальность, из которой становилось нужным выбраться на свет. А как? Позволительно спросить. Нужно завопить? Потому как люди стали глухими: как язык, так и то, что говориться ими, уже не воспринимается истинно – ни в какой мере не волнует и не трогает никого? Люди не кричат: караул! А если и кричат, то ведь только после чего-нибудь случившегося.
Наверное, человеком правит предопределение, заложенное какими-то флюидами, токами в мозг помимо его желания. Хоть он и брыкается и изображает из себя независимого героя.
Вот Краснопевцев, атлет пятидесятилетний, сотрудник одного научного журнала, ветеран войны, которого только что посетил Антон дома…
Он вечно бегал, хлопотливый, заботливый и замотанный вконец муж и отец. Туда, сюда. Все делал на ходу. А как-то в июле почти на бегу выпил у пивного ларька кружку охлажденного пива. И тогда почувствовал точно, как его всего прохватило – в самую-то жару: он даже осип, он такой мощный мужик (косая сажень в плечах). Тогда же он и почувствовал сразу в себе какую-то неизлечимую болезнь. И потом хотя прилежно лечился у врачей, почти смирился со своей судьбой. Так, однажды, когда он ехал с Невского проспекта в бренчавшем трамвае, он, задумавшись несколько, как бы в один момент увидал все сразу перед собой совсем сторонними глазами: пьянящую зелень Михайловского сада, спешащих куда-то горожан и хлопотавших испуганных женщин над бледным молодым человеком, который привалился на парапете к садовой решетке, – он был с залитой кровью ногой, и уже мчавшуюся сюда «скорую помощь». И тотчас же, увидав все это, диковинно-облегченно подумал: «Да, и к чему, собственно, подобная суета? Все равно бремя жизни идет своим чередом. Будет все новее в мире. Что такое представляю именно я? И зачем, для чего я еще живу? Не все ли равно, сделается ЭТО или нет? Со мной ли или с кем-нибудь? Какая будет беда?» И два года спустя он, высохший до неузнаваемости – вдвое, втрое, борясь еще с раком, когда и говорить-то уже не мог, только шевелил губами и со свистом глотал воздух, говорил приехавшему к нему домой Антону то, что заболел именно с того самого дня, как глотнул кружку ледяного пива, прохватившего его.
Он не верил в какие-то там всемогущие наследственные гены. И, видимо, отчасти это справедливо: в каждом человеке, если вдуматься серьезно, живет предопределение смолоду, зависимое почти целиком и единственно от него самого. Пьет ли, курит ли он, водит ли автомашину, штампует ли патрон, колдует ли он у огромных печей с трубами и тем самым отравляет ли газами атмосферу и уничтожает озон, – все это делает человек сознательно, хоть и безотчетно, как и производит на самого себя всевозможное оружие уничтожения. Неужели в этом-то нельзя остановиться наконец вполне сознательно?
Молодые Кашины, еще не обжившиеся тогда, уже сменившие за полгода второй адрес своего проживания, перед вселением в определенно выделенную им старую квартиру без удобств, месяц жили у Любиных родителей, уехавших отдыхать в Закарпатский санаторий Трускавец. На поправку здоровья.
Вот Антон извлек из наддверного ящичка газеты. Среди них был и простой, знакомо надписанный закругленными в отдельности буквами, конверт с уже знакомой темно-коричневой гравюркой, отпечатанной слева (крестьянского типа дом-музей с деревом и оградой): в таком уж третье письмо присылала ему мать, жившая на сельской родине, с семьей младшего сына, Саши, и бессменно возившаяся с внуками, по хозяйству, в огороде. Как водится. И, казалось, эти письма материнские пахли чем-то неотразимо родным, деревенским, оставленным им в юности навсегда.
Антон по сыновнему долгу своему поддерживал ее как-то морально перепиской с ней да более или менее регулярно слал ей небольшие переводы-крохи (на большие недоставало денег): пенсию она не получала. Ни свою, полагавшуюся ей. Вследствие якобы недоработки из-за нетрудоспособности ею полутора лет до необходимого трудового стаже, как сочли мелкие учетчики-крючкотворы (архивы же с документами сгорели во время войны). Не получала и ни за что погибшего на фронте мужа, пропавшего без вести. Пропавший без вести означал не установленный факт гибели бойца (не зафиксированный документально), а потому-то и не выплачивалась пенсия его семье.
Антон прошел в комнату и, надорвав край конверта, вынул вдвое сложенный тетрадный листок, исписанный без оставления полей или пустого места – мать привычно экономила бумагу, и, сев на старый раскладной диван, глазами побежал по неровным валившимся строчкам письма.
Вот-вот подходила очередь выкупа из магазина польского мебельного гарнитура «Ганка», стоившего полторы тысячи рублей; на него нацелилась Люба – она следила за сроками его приобретения. Только денежные Степины, ее родители, на денежную помощь которых она рассчитывала, заупрямились и отказались дать им взаймы. Причем было поразительно то, как теща со свойственным ей пафосом и обидой выговаривала ему в присутствии дочери: «Вы, Антон, представьте себе, если какое несчастье вдруг будет с Любой, – если, например, она завтра попадет под трамвай, не дай Бог, разве Вы потом отдадите нам деньги? Пожалуй, нет».
Это было сущей издевкой над всяким здравым смыслом. Урок для него, зятя. Что он с этих самых пор, махнув рукой на глухих тестя и тещу, насовсем перестал обращаться к ним за какой-нибудь помощью или советом и жене запретил делать то же самое, словно отрезал. И он, зная, что Таня, младшая его сестра, вступая в жилищный кооператив в Москве, собирала денежные средства (и ей было проще собрать по достатку и окружению знакомых), и надеялся попросить у нее, о том написал матери. Он хотел уточнить сестрин адрес, так как он и его сестры (взаимно) переписывались нерегулярно – от случая к случаю.
– Ты послушай, что мама пишет. – Антон стал вслух читать вошедшей с кухни Любе, перескакивая с одного на другое, пропуская что-то: «Я очень рада. Даже, как говорится, молилась все время за то, чтобы был у вас свой угол. Но не столько вам подождать остается, как вы столько ждали. А ты, Антон, можешь взять в рассрочку вещи…»
– Нет уже того, – сказала Люба. – Неделю назад вышел приказ, запрещающий продавать в рассрочку мебельные гарнитуры. Почему их и расхватали сразу. А до этого они стояли – никто не брал.
«Саша тоже брал себе костюм и гардероб со столом был так взят, – читал Антон дальше. – Приемник. Все это уже выплатилось помаленьку. Я, Антон, тебе вышлю. У меня есть немного. Сбережения берегу, как говорится, для своей смерти. Все собираюсь помирать, но никак не удается. Смерть уходит от меня».