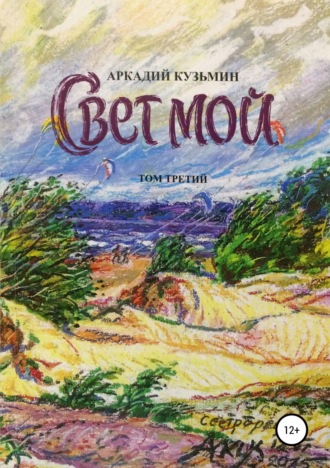
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
И шагнул по заросшей мостовой, вымощенной камнем издавна.
И опять откуда-то упал наставляющий мужской голос:
– Эй, Ерофей, я же говорю: аккуратней! Не разлей!
Свалилась гора с плеч? Маловероятно. Фантастическая мишура витала в мыслях.
И уж новая странность затормозила ход мыслей у Кашина.
От угла противоположного зеленоватого здания выплыл с божеским ликом обычный смертный человек. Он шатко двинулся сюда наискоски через улицу, когда как появившийся второй мужчина, прилично одетый – в темном костюме, шагал навстречу Антону по этому же тротуару. И вот кто-то из них на ходу выводил рулады какой-то маршевой песни – сначала потише, а затем все звучней и выше. И она, как бы взлетая волнами, растворялась в воздухе.
И только что проходившая вблизи Антона сказочного вида дамочка с веткой сирени в маленькой руке общительно обронила:
– Гражданин чудесно нам арии поет! Слышите?
Как очевидный певец – тот или другой – столь же неожиданно, как и, вероятно, запел, смолк на середине улицы (звуки пения пропали). И Антон, слишком запоздало покосившись на встречных мужчин, так и не узнал точно, кто же все-таки пел с таким удовольствием. И укорил причем себя за этакую невнимательность к познанию чего-то стоящего, важного для созидания. Важна подлинность увиденного и услышанного. Сколько ж этого надо скопить в памяти!
Машинально Кашин, пройдя по каменистой улице и после свернув раз-другой, вышел к узнаваемо черепашьей подворотни; из-за ней явственно донеслись веселые голоса, вернувшие его к удивлению своей случайности попасть сюда, где жили Ивашевы, его новые знакомые (по издательской работе). Потом он, ойкнув, проклянул в душе свою непростительную забывчивость: ведь Геннадий Ивашев пригласил персонально его, Антона, на свой сегодняшний день рождения! И даже обрадовался, услыхав весь шум-гам там, во дворе: он, хотя и предупредил Геннадия о том, что может запоздать и, выходит, сильно опоздал к застолью, забыв сегодня обо всем на свете, все же счел необходимым появиться теперь у Ивашевых. Хоть и поздно.
И с тем уверенно направился к булыжной, затравеневшей подворотни.
Оба нижние окна и вход флигеля, замыкавшего вытянутый дворик, были освещены и раскрыты; около них толпились увлеченно-шумливые гости, вышедшие покурить на свежий воздух. Слева сужала пространство высокая желтоватая стена, справа высилась стена дома с двумя-тремя затемненными окнами внизу.
Поджарый однорукий Геннадий (следствие ранения на фронте) прежде других, увидав Антона, шагнул к нему навстречу и крепко правой рукой пожал ему руку.
– С повинной к нам пожаловал, дружище? Ну, и молодчина. Не все еще выпито и съедено. И есть пирог фирменный с чайком.
Антон, извиняясь, поздравил именинника.
– Ты – один?! – возник рядом же чернявый и язвительный Костя Махалов. – Где ж твоя прелестница? В театре? На балете?
– Сгинь, дознаватель, – не твоя коронная профессия, – с шутливостью заступился Геннадий. – Вон твоя партийная жена, твой бос, также бойкотирует наши беспартийные посиделки. И нам легче оттого. Иль она занемогла?
– Сказала: достаточно привета.
Заметно было и тут: они оба, друзья, всегда при встречах, пикируясь, царапались словесно и отпускали самые острые шуточки по отношению друг к другу.
– Чуешь, к перепалкам поспел, – сказал Костя. – Малость припозднился, брат…
– Пустяки, собрат, – успокоил Геннадий. – Глянь – еще светынь какая! Звезд не видно. Она нас, счастливчиков, живых приемлет, балует. Цени!
Их мигом обступили приятели с почти влюбленными глазами, любовно здоровались с Антоном; все были необыкновенно рады ему, новенькому гостю, будто желанному ангелу, которого все заждались и которого так не хватало в компании – для всеобщего успокоения. Он даже испытывал неловкость от проявленного всеми внимания к нему. Посему спросил – скорее для разрядки:
– Это не от вас ли сейчас певец навеселе – с песней – удалился?
– Что, Стогов встретился тебе? – спросил Геннадий. – Ты с ним еще незнаком?
– Да. Мы с ним разминулись там, в начале квартала.
– Дружище, это точно Ванька Стогов. Поспешил к своей домашней инквизиции. Под пытки добровольные. Ибо сожжет она его (и сердцем не дрогнет, иродка) вживую на костре. Без следствия и суда. Ни в какую не дает свободы добрейшему мужику. Села ему на шею. Обязательства предписала. Одна тошнота дремучая, а не баба.
– Да, он, бедняга, горит у нее вечным пламенем, – с сочувствием проговорил всезнающий розово-кудлатый Василий Ершов. – Но говорят: крайности сходятся… По любви…
– Что ж, ни терт, ни мят, не будет и калач, – заметила молодая полноватая Долина в присутствии хмуро-насупленного мужа. – О-о, боже! Спаси его, сердешного, грешного мытаря, от неоправданной погибели.
Махалов метнул на нее быстрый взгляд:
– Ну, ты, ангелочек, своего муженька пожалей, не затюкай. Чужого-то другие ублажат – безмужние. Посочувствуют ему. Не тужи, товарка.
В дверях входа возникла Зоя, статная красавица-хозяйка, объявила во всеуслышанье:
– Мальчики, пора к чаю! Слышите! – И, увидев тут Антона, подошла к нему и поцеловала его. – Идем, идем, рассказывай!
Антон охотно подчинился, последовал в дом.
И закрутилась дальше карусель.
III
В комнате с книжным стеллажом (предмет модного в то время собирательства и гордости Геннадия) все расселись за длинный составленный стол, но с той заметной особенностью, что группа мужчин, знавших Антона, как бы солидаризуясь с ним либо попросту симпатизируя ему, самому молодому из них, воссела около него, чем восхитила всех. И больше других, кажется, радовался тому Махалов, покровительствовавший по старшинству Антону в совместной работе с самого начала знакомства. Это как-никак лило воду на его мельницу. Он говорил с воодушевляющей его самого рисовкой:
– Скажу, братцы: утречком открыл глаза, подумал, что пальба оконная началась. А это ящики с грузовика сбрасывали под окнами – у продуктового магазина. В гулкий двор. Дверцы хлопали, скрежетали; грузчики долдонили, ругаясь; собаки лаяли. А музыка почти всю ночь гремела. Сумасшествие, и только!
– Не страшно, – успокаивающе сказал Геннадий. – Торопимся жить на полную катушку. Спим, едим, пьем, ругаемся и куралесим. Иисус терпел, и нам велел.
– Ну, и бога ты сюда приплел зачем-то. Как дипломированный юрист вынес оправдательный приговор. Делай все, что ни заблагорассудится!
– Люди сполна радуются жизни, дружище.
– Подобно сослуживцам Ивана Ильича: «Он-то умер, а вот мы еще живем!» – вставил почему-то Антон.
– Нет, каково ты филосовствуешь, Гена! Вечно ты не соглашаешься…
– С чем же?
– Успокойся, браток! Твой керченский (и дунайский тоже) десант высадку закончил давно, пора остыть немножко. Человек живет по тем же диким биологическим законам. Его психику не переделаешь. Отсюда все нелепости и несуразности. И смешно требовать большего от него.
– Итак, заплыли в заводь юридическую…
– Мы кусаем кого-то, и нас кусают даже мелкие паразиты… Человеческий материал не такой уж и гибкий, как нам представляется поначалу.
– Еще в древности Платон поделил условно людей на всего лишь три категории: честолюбцы, сребролюбцы и философы, – сказал опять Антон.
Меркулов, его знакомый, с замедленностью за чашкой с чаем и пирогом взглянул на него и убежденно воззразил ему:
– На Платона ссылаться бессмысленно: он наш современник. Притом более цивилизованный, чем мы. Надо глубже копнуть, по самую макушку корней человеческих, чтобы лучше судить о наших задатках – прав Дарвин или нет относительно эволюции человека, повторяемся ли мы в своих поступках. Сдаем ли свои нравственные позиции. Заметьте: еще Елизавета, английская королева, в течение двадцати лет не казнила Марию Стюарт. Почему? Она не хотела дать прецедент казни королевы. Глубокий в этом смысл. Ведь в мире все впоследствии оборачивается против самого же себя. А этого многие не понимают. И отдельный человек, и сообщество в целом не учится на собственных ошибках. Впечатление такое от всего происходящего, что человечество гонится за собственной тенью, как в одной сказке, и разбрасывает клецки, чтобы накормить ее, вместо того, чтобы кормить голодных, их разрастающиеся легионы. А когда ребенок плачет, я сразу сатанею. – И Меркулов победительно-неотразимо повел головой по сторонам.
Справедливо, что он, выпускающий редактор концертирующих артистов (с университетским дипломом), в неординарных суждениях выделялся из всех дискутантов, или, точнее, оппонентов, тем, что не знал и не замечал вокруг себя и вообще на обозримом горизонте никаких неоспоримых авторитетов. Настолько цепко, категорично, пунктуально он обговаривал предмет спора, если не разговора. Хотя внешне он – полная противоположность – обычно был замедлен во всем и реакция на действия окружающих людей у него была неспешна, неестественно спокойна. Как у марсианина. Что Антону не нравилось сегодня.
Общество у Ивашевых собралось обычное, непрезентабельное, уже составившееся; все не понаслышке знали друг друга и о друг друге мелкие частности. Кроме Махалова, Птушкина, его жены Натальи, Меркулова, бородатого Лимонова с улыбающейся женой Катей, не то полярников, не то геологов, носившихся летом на байдарках по быстрым рекам, спокойной полноватой судьи Маликовой и тылового полковника Савина и тоже с женой Агнессой, которых Антон уже знал и видел, были здесь еще посланец из Магадана – веселый и резвый промышленник Саркисян, доставлявший туда какие-то коммерческие грузы, шофер Кольцов с женой Оксаной, токарь Хвостиков и другие гости.
Рита набросила зачем-то шаль на плечи, откинулась в кресле.
– Жена соседа горюет: «Мой муж туберкулез схватил! В больницу кладут!» Не успела она договорить это, как тот, страшно пьяный, вламывается к нам на кухню и, подобно гоголевскому Ноздреву, кричит: «Ура, товарищи!» Нет, с нашим народом не соскучишься, ничего с ним не поделаешь. Что ему разоблачение «культа личности Сталина»!
– А я стала свидетельницей следующего происшествия: – сказала Никишина. – Пьяный, упав, разбил нос и лежит. Собралась толпа, подошел к нему милиционер и спрашивает: «Ты запомнил номер машины, которая сбила тебя, гражданин?» – Вытащил блокнот. Отвечает тот: «Ноль пять двадцать три двенадцать?» – «Что-то такого шестизначного номера нет. Ну, а буква какая?» «Это он говорит, верней, намекает: его сбила поллитра за двадцать три рубля двенадцать копеек», – подсказал кто-то из толпы. И толпа засмеялась. Ну, разумеется, забрали остряка в вытрезвиловку. Сорок рублей все удовольствия: холодный душ, ванная, постель с двумя простынями.
– Лучше нашей жизни нет ни в мире, ни в Сибири.
– Так, мои друзья-славяне, как когда-то говорили.
– В прошлый сенокос я приехал в деревню к брату Николаю, – сказал Сивков. – Он почти заканчивал крыть ток. Я решил ему помочь. Просто так. По-братски. А работали они на пару с Никиткой, вышедшим уже на пенсию. И не так давно он, Никитка, развелся с женой. Вот мужик здоровый.
– Постой… Из-за чего развелся?
– Все из-за нее, горькой. Любит заложить. И с бабами накуролесил так, что все повыгнали его. И тогда он до самого октября в стоге сена жил. Отшельником. Вытаскал себе вроде конурки в середине стога и залезал туда спать. Стог стоял у самого леса. Да опять же бабы его заметили и выкурили оттуда.
– И куда ж он подался после этого?
– В город перебрался. В нем и подзаработать легче. Вот и водку пьет, как святую воду – и такой еще здоровый. Знаете, я поднял по лестнице на крышу лист шифера, поднимаюсь с ним выше, чтобы передать его на вытянутых руках. Сам-то я крепкий, пока молодой, считаюсь силачом; а не могу держаться: ветер, того и гляди, сбросит меня с лестницы вместе с шиферным листом. А вдвоем поднимать здесь несподручно: узко. А Никитка хоть бы что: берет эти листы и идет наверх по лестнице легко, по-королевски, как танцует. Вот вам и шестьдесят лет с хвостиком.
– Тут, верно, особая сноровка нужна, как лист держать против ветра.
– Да нет никакой. Просто силища в нем. Он же всю жизнь работал-орудовал кувалдой. Бицепсы у него – будь здоров! Так что я кровать предпочитаю этому сену. Я пока еще не спился – не железное здоровье у меня.
– Ну да, потому и спим до обеда, а судачим про соседа, что не пришел да не помог.
Зоя подсела к Антону с вопросом. Он сразу понял, в чем дело. Зоя была несравненна, царственно-женственна: статная с красивым чистым лицом, карие глубокие глаза, прямые русые длинные волосы, утонченные руки, маленькая ножка-ступня. Как анекдот, она ныне рассказывала об одном случае. Она и Геннадий куда-то шли по улице, поднимались по гранитным ступенькам, торопясь; она – впереди, он – немного отстал. В белой шубке она была как произведение искусства, само совершенство. И какой-то подвыпивший прохожий охнул при виде этого явления и тут же не преминул обратиться к Геннадию, как к ее хозяину, с вопросом:
– Слушай, наверное, дорого она тебе обходится – такая красавица, а?
И Геннадий на ходу небрежно-гордо ответил:
– Других, дорогой, не держим.
– И как только Белов – неспециалист, не полиграфист, – беспокоилась Зоя, – мог согласиться стать начальником производственного отдела и быть посмешищем всего издательства? Сидел в экспедиции на тихом месте, а тут…
– Но, кажется, он уходит на работу начальника отдела кадров. Был у меня с ним разговор вчера. И спрашивал у меня совета, – успокоил ее Антон.
Геннадий сказал, что в иных учреждениях кадровик – такая величина, что сам директор ходит к нему на поклон, особенно, если это в закрытом институте.
– Да, кто как поставит себя на таком злачном месте, – вставил Антон. – Какие полномочия выжмет…
– Подождите, – вклинился в разговор опять Меркулов, – я проиллюстрирую вам охотно… Один мой приятель работает в подобном заведении. Сам начальник управления там кланяется управдому – тьфу! – кадровику. А вы говорите: «Культ личности…» Раз была у них коллективная пьянка под какой-то общенародный праздник. И мой приятель, уходя в позднь домой, надел по ошибке дорогое пальто этого кадрового работника, толстяка – чинуши. Пальто с бобриковым воротником. И увидел, что допустил оплошность лишь утром следующего – выходного дня. Давай звонить в родной институт – там всегда есть дежурство и дежурные. Тем он объяснил, что произошло, и ему назвали домашний телефон кадровика. Ну, позвонил ему домой. Схватил такси и немедля помчался в Ленинград из Ломоносова. Представляете… А кадробойца после пьянки, обнаружив вместо своего пальто, чью-то шкуру, естественно, сразу протрезвел и захватил ее с собой домой, как вещественное доказательство виновного в краже. Едва приятель мой, примчавшись и запыхавшись, позвонил у начальственного порога квартиры, как крепкие руки, дрожа, приоткрыли дверь и, не впустив его даже на порог, выдернули у него из рук злосчастное пальто, а ему ловко вышвырнули его шкуру и мгновенно и молча захлопнули дверь. После этого недоразумения прошло несколько лет. Всех товарищей приятеля повышали по нескольку раз. А его – ни разу. И лишали премий и престижных командировок.
– Это ж гоголевский сюжет! – воскликнул Антон. – В чистом виде.
– Да, еще бы! – сказал Геннадий. – Ну, а на лето ваши творческие планы?
Махалов собрался в Измаил на встречу с друзьями – морской пехотой Дунайской флотилии. Кто собирался на дачу, кто – под Ригу, кто пока никуда; Антон сказал, что поедет на Волгу к братьям и матери.
– Ты все пишешь этюды? – Спросил у него Костя.
– Стараюсь.
– По-моему, это уже нам ни к чему. Классика уходит, отмирает.
– Оставим эту спорную тему. Еще не убыль наших дней.
– Ты веришь?
– Стараюсь.
– Я хочу тебе потом рассказать об одной военной истории, – признался Махалов, как показалось Антону, грустным голосом. И это его расстроило несколько, что он и про свое огорчение забыл на какие-то минуты.
– Ну, ты, видать, пороха не нюхал, пардон, – сказал Лимонов.
– Что ты, Михайлыч, – сорвался речивый Махалов. – Он-то на штукатурке Рейхстага автограф поставил в сорок пятом.
– Ого! Прости, кореш! Прости! Погорячился я…
Да, укромный дом Ивашевых – однофлигельный, двухоконный, что ютился в закутке на Дворянской улице, – был хлебосольным, гостеприимным, чем приваживал к себе многих мыслящих людей. Он как бы находился близко на пути у всех благорасположенных друг к другу устоявшихся граждан. И точно манил и притягивал магнитом друзей, хотя здесь ничего сверхобычного не происходило, но сюда, в квартирку Ивашевых, в их общество тянулись и приходили самые разные по своим интересам и занятиям давние и новые знакомые. Так, и Антон (из их числа) тут уже познакомился и с любезным бородатым Лимоновым и его улыбчивой женой Катей (заядлых путешественников), которых впервые увидал в ложе Мариинки позади себя в марте 1952 года на балете «Лебединое озеро», и с Сивковым, шофером-техником из института Арктики и Антарктики, уже выезжавший в экспозицию на пятый континент и водивший там вездеход по ледовым трещинам, и с другими незнакомцами. С тем же бухгалтером Саркисяном, наезжавшим из Магадана. Общение всех собравшихся между собой превращало их в какой-то привычный уже коллектив. Тут был особый разговор.
Однако все происходящее сейчас Кашина не трогало ничуть – в душе его не было спокойствия (оно не приходило). Напротив, он, находясь среди гостей и стараясь быть более естественным (чтоб не выдать себя), все острее чувствовал какую-то неестественность своего положения (после разрыва с Оленькой); он как-то отчетливо-осознаннее видел впервые – через свое драматичное настроение – бессловесное непонимание в толпе истинного состояния души; взаимные словесные упражнения нисколько не утоляли жажду успокоения, они лишь усиливали чувство, что потерянное нельзя заменить ничем, никакой сменой обстановки. И настроя-то душевного не будет, пока сам с собой не разберешься досконально во всем, это ясно, как божий день. И хотя он в душе давным-давно уже смирился с потерей любимой девушки, ему хотелось все же побыть теперь одному (наверное, просто профилактики ради).
Главное же, для Антона теперь не было ни в чем какого-то внутреннего величия, лада, что чувствовал он, например, в картине Рембрандта «Возвращение блудного сына», а еще сильнее – в «Троице» Рублева. В мире, по его представлению, нет полотна пронзительней ее по простоте своей и величию духа. Да, именно: сейчас у него, Антона, он понимал, не было присутствия чего-то незаменимого, непридуманного. О той же святыне русской – «Троицы» Пчелкин, его учитель, говорил: «В композиции линия певучая ведет, как и в древнерусских храмах, и на горочке дубок жмется. Глядишь на картину – и слышишь, как шумит под ветерком спеющая рожь».
«Да, и мне покойней как-то, когда слышу, как за окном нынешнего моего жилища полощется по ночам на дереве листва, – подумал Антон невольно, когда, приехав, пришел в квартиру, в уголок – конуру, раскатал на топчане, как солдатскую шинель, постель, под образами иконными. – Она будто разговаривает со мной, напоминает мне о чем-то вечном. «Я с тобой. И ты со мной…»
И странно вспомнилась ему опять одна история несправедливости, раз подсмотренная им.
В то утро молодой мужчина, возраста примерно Антона, был, казалось, чем-то несколько озабочен и смущен, он, солидный-таки, деловой человек, важно готовый к несению своей ответственной службы, в светлом плаще и новенькой фетровой шляпе; потому-то он и вошел со своим ребенком, – он его придерживал рукой, – не в переднюю, а в заднюю дверь автобуса и встал с ним там, на нижней площадке, а не прошел вперед и не сел, хоть и были свободные места, несмотря на девятый час майского утра, когда многие еще ехали на работу.
Но тихо, почти неслышно (из-за шумного движения автобуса) скулившего ребенка еще не было Антону видно из-за стенки, поставленной за последним креслом, – лишь виднелась там светловолосая макушка; не было видно до тех пор, пока отец не вывел его за ручонку из этого закутка, не поднял в салон и не подвел к тому последнему креслу с желтой кожаной обивкой, что было за билетной кассой. Тогда стало видно, что это была очень худенькая, бледненькая и вся заплаканная девочка лет пяти, если не меньше, в розоватом пальтишке в горошек, в белом платьице, в полуспущенных коричневых чулках и сандалиях. В ручонке она держала большое, надкусанное со всех сторон, яблоко сорта «джанатан» и какую-то яркую тряпичную куклу. И скулила непрестанно, как заведенная на эту одну ноту, способную вывести из себя кого хочешь и одновременно разжалобить любое сердце. Она скулила уже глубоко несчастно, трагически даже. Господи! Вся скорбь мира была здесь, в ее глазах! Из-за какого-то пустяшного, наверно, осложнения с отцом, непреклонным, отчужденным перед светом всем.
Дальше больше.
Отец поднял дочь над креслом – усадить ее хотел – и опустил в сиденье; только она, гибкая, выгнулась назад и, упрямо опускаясь, проскользнуло мимо кресла. Он ее опять поднял, видимо, видимо еще не понимая хорошенько, в чем же дело, – и опять все повторилось заново в точности. И так еще опять. Она громче всхлипнула, все глотала горючие слезы. И тогда он, выведенный из себя, с силой схватил ее и, не дав ей теперь распрямиться, буквально вдавил ее в кресло.
Он весь побагровел. И прочь отошел поспешно. К пыльному окну отвернулся, журясь на ослепленный солнцем весенний Суворовский проспект, кипя в душе и, очевидно, проклиная этот мерзкий, слабый и капризный женский род, из-за которого он унижался так, унижался на людях.
Это же ужасно!
Но только Антон снова взглянул в лицо девочки, какое-то прозрачно-бестелесное, в ее исплаканно-скорбные глаза, как мигом вспыхнула в его сердце пронзительная жалость к ней. И показался ему отец со своей грубой физической силой, примененной в споре с этим хрупким, незащищенным созданием, упрямо отстаивавшим свою правоту, свои желания, – показался ему варваром, чудовищем. Вместо того, чтобы действовать вполне с умом и разумной логикой, без боязни унизиться и быть осмеянным обществом. В уважении к самой малой деточке.
Она-то, бедненькая, уже больше ничему и никому не противилась, маленькая виновница всего случившегося, жалостно тряслась, впечатанная в то массивное для нее кресло; подвывала еще горше и несчастней, позабыв про надкусанное яблоко, про куклу, решительно про все на этом белом свете. Так длилось две большие остановки: автобус был скорый. Лишь разок скользнули из-под фетровой шляпы по Антону сощуренно-сердитые глаза мужчины. А потом их владелец вновь приблизился к дочери и, сдернув ее за ручонку с сиденья кресла, подвел ее к задней двери, – приготовился с ней выйти.
И издалека потом все светлела, пробиваясь пятном сквозь пыльные окна автобуса, как нежный цветок, ее розовая фигурка, которая таяла на однотонно серой улице по мере того, как автобус стремительно уносился вперед.
Увиденное вывело Антона из равновесия, можно сказать, духа. Он был в душе несказанно противен самому себе перед явной чужой бедой (грош цена ему, прохиндею!), противен из-за своей неспособности, своевременной реакции на несправедливость – не помог ребенку! Отчего! Не проворот в управлении мозговым аппаратом? Он не успел сориентироваться в правильном действии и путался виновато при вспышках желания устранить раздражающее несоответствие тому, что должно было быть по его понятию. Тогда как душу теребила совесть.
Словом, Антон страдал теперь от своего бессилия перед разумным разрешением беды. Он не хотел ее. Ничьей.
IV
Зоя Ивашева вошла в производственный отдел издательства с кипой вычерченных ею калек – графических листов – к издаваемой книге по биологии; она, понуро, опустив глаза, положила их на свободное место стола Кости Махалова, художественного редактора. Тот вопросительно-обеспокоенно взглянул на нее. И немедля спросил:
– Серьезное что случилось, Зоя? Скажи!
– Наша Дымка скончалась. Наша любимая кошка. – Вздохнула она.
– Что: кошка?!
– Ой, люди, не смотрите на меня так! – Было-то заметно, что Зоя еще пребывала в неком расстроено-взвешенном, можно сказать состоянии; она была слезлива – ее выдавали еще покраснелые от слез глаза. – Если что трогательное бывает, я – теперь – после войны – обязательно слезу пролью, – призналась она, не стыдясь нисколько. – Дымка долго жила у нас. Пришла к нам сразу после блокады.
Все издательские сотрудники, бывшие при этом в отделе, по-разному подивились на Зоино несчастье и посочувствовали ей. Было жалко ее, скорбящую опекуншу домашней животинки, составлявшей как бы неотъемлемую часть ее семейной достачи.
Она дрогнула голосом:
– Мой Гена прямо навзрыд рыдал оттого, что умерла наша кошка Дымка. Долго жила с нами. Пришла сразу после блокады.
На что поседевший сухопарый редактор Утехин воскликнул:
– Что – Геннадий Петрович?! Фронтовик, побывавший в самом пекле боев под Ленинградом и рано потерявший руку, кавалер орденов славы?!.. На него-то это никак не похоже! Не верю!
– А вот как еще похоже, – протянула тихо Зоя.
– Да ведь – взгляните на нее – и она сама-то зареванная тоже! – сказал кто-то. – Вот, оказывается, дело в чем.
– Ну, все равно не верится мне тому, чтобы мужик из-за кошки ревел. Да что он – обалдел? Рехнулся вдруг? Во время войны была такая-то погибель повсеместная. Притупилась боль.
– Да то тогда, Василий Васильевич… – не уступала Зоя.
– Правда, бывают разные положения, заметила полноватая миролюбивая техред Никишина.
– В сорок втором, когда моя мать скончалась (во время зимней эвакуации на Урал, кстати, вместе с семьей Елены Ефимовны Усачевой) а я, зеленая еще девчонка, по первости не плакала нисколько.
– Бывает, что от серьезного, страшного и не заплачешь, точно, – подтвердила Никишина.
Упомянутая Зоей Елена Ефимовна работала здесь же машинисткой. Она-то и привела сюда Зою. Переманила из другого издательства – морского.
– Так я схоронила там мать, а все вокруг меня, слышу, говорят: мол, ишь, какая черствая натура у доченьки, хоть она и ленинградка, – и слезинки-то не выронила прилюдно. И Елена Ефимовна в те дни пыталась расшевелить меня напрасно. Но потом, потом я уж места себе не находила: все в груди у меня, – показала Зоя рукой на сердце, – ходило ходуном. Ну, куда мне деться от этого? Почему-то пошла в кинотеатр, чтобы посмотреть какую-то кинокартину и так чтобы, может быть, забыться чуточку. Что смотрела тогда в кинотеатре – какую картину – не помнила. И не помню. Однако по вечерам, после работы, мне стало особенно жутко оставаться в доме. Так уже привыкла и ходила почти каждый вечер в кинозал. И там ревела втихую. В уголке. И с тех самых пор, когда фильм какой-нибудь смотрю в кинотеатре, всегда реву безутешно.
– И даже когда по телевизору смотришь кинофильм? – спросил Василий Васильевич.
– Да, и тогда. Тоже.
Он непонимающе глядел на нее.
Она всплывала зрительно перед ним.
V
За чаем Нина Павловна, несколько постаревшая, но еще успешно судействовавшая в своем городском районе, сообщила, что они побывали 9 мая в урочище у поселка Мартышкино, где она служила с однополчанами, стоявшими насмерть в боях. Ездили к братской могиле. Вместе с Антоном Кашиным.
– А-а, нам Лешка кино продемонстрировал, – сказал Геннадий. – То, что закадрил на Вашем застолье, Нина Павловна. Видели достойное торжество. И твоя-то, Антон, скорбная физиономия как-то выпадала из круга веселых лиц за столом. Будто ты съел горький перец и не мог его выплюнуть… Мы нимало посмеялись, друг…
– Каюсь, грешен, Нина Павловна, – повинился Антон, – тогда вдруг приболел и уйти сразу не посмел… Вот Леша и закадрил меня попутно… А скажу, что в эту поездку меня поразило следующее: в приеме ветеранов и возложении венков очень активно участвовали дети. Они тоже воспринимали, как свое кровное, это понятие долга, чести.
– Как же, иначе и быть не может: ребятки-то нашенские, однокровные, – сказал Геннадий. – Они не понаслышке знают, почем лихо, не бьют баклуши…
– Ой-ли, Генка, – протянул Махалов.
– А мне мой сосед, греющийся на скамейке у парадной, – сказал Лимонов, – жалуется, что его внуки уже не слушают его. Мол, начинает он им рассказывать о войне, ее ужасах, а они гогочут; у него сердце сразу схватывает, только он подумает о том, что было тогда, а им вот смешно. Все игрульки какие-то, дескать. Как в кино. Говорят ему: «Дед, ты пулю заливаешь!» Не верят! До того обидно это.
– Да, есть у нас прослойка людей заевшихся, не любящих черновой работы и мечтающих куда-нибудь сбежать от нее, – сказала Рита. – Так было и есть. Всего намешано у нас.
– Ну, если об ужасах блокады теперь молодые не хотят знать правду, – сказала Катя Лимонова. – Я была свидетельницей при одном таком, или об этом, разговоре…
И она рассказала следующее.
Раз ее знакомый здоровый парень Женя, который уже отращивал для солидарности усы и был уже, кажется, совсем-совсем сложившейся личностью, как в собственных глазах, так и окружающих подростков, начисто опростоволосился. Со своим эгоистическим незнанием (и нежеланием знать) фактов недавней истории нашей жизни. Упрощенный, так сказать, модернизм. Внедряемый в сознание. Для собственного, т. е. личного, сознания.
Тогда, июньским вечером, он услыхал, что сидевший на скамейке меж соседей Иван Васильевич очень озабоченно и резко говорил, волнуясь:
– Никакое худо до добра не доведет. По милости военщиков новейшее вооружение плодится, распухает на планете, словно на опаре; все повторяется опять, хотя уж столько напахало человечество в войне минувшей. А ведь будет-то много хуже. Ох-хо-хо! Это сказочка про белого бычка, что якобы спасаются они тем самым от нас, неудобоваримых для них русских.
И, вот парень Женя, услыхав подобное, не удержавшись, небрежно подошел к сидевшим мужикам и сразу влез – с легковесностью, быть может, спросил, по привычке шумно пыхтя:
– Ну, и какое же у вас сложилось впечатление от этой войны?
– Не пыхти надо мной, ровно котел, – сказал Илья Федотыч сипло. – Присядь, парень.
И тот сел также на скамейку, пронзенный суровым, немигающим, ясновидящим, незаевшимся взглядом Ивана Васильевича, который будто съязвил холодно:
– Вы, юноша, хотите только впечатление узнать? И не более того?
– Да, ваше мнение – участников, – смутился, как казалось, Женя, но честно, откровенно объяснил: – Мои предки утверждают, что тогда неразберихи много всякой было. Так ли?
– А вы сами разве ничего не знаете? – Иван Васильевич смотрел в глаза ему. – Не слышите? Не смотрите! И не читаете?
– Про тяжелое я не могу читать, смотреть и знать, – признавался Женя, краснея, точно девушка. – Это все не для меня.
– Значит, лишь проинформировать вас? Лишь подать вам информацию в готовом виде? А вы знаете, например, как немецкие фашисты приканчивали наших пленных, осуществляя геноцид?





