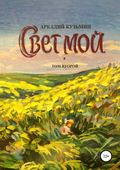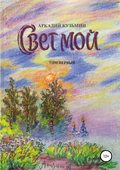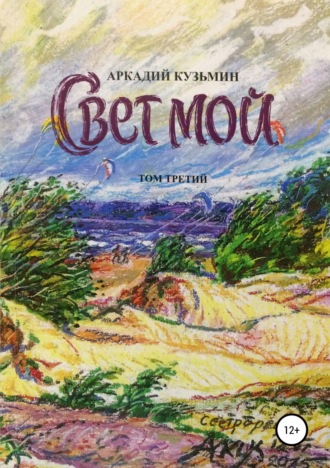
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
– Но военная агрессия – это же не стечение каких-то подобных обстоятельств? Умысел? Умышленное действие правительства? – сказал Антон
– Застарелая болезнь человечества: культ подвигов в войне, прославление. Смертельная игра. Вдохновительна, – поддержал Степин.
– Да, был же в Японии некогда обычай «обновления меча» – самурай имел право опробовать новый меч на шее встречного простолюдина. – И Антон добавил: – И у нас ребенка с малых лет тоже учат геройствовать с невинным автоматом.
Малая (лет трех), тоненькая девочка в розовеньком платьице, быстро семеня по дорожке в разросшемся тенистом парке, радостно поспешила куда-то за поворот. Как сидящий на скамейке здесь вместе с родителями круглощекий и прекрасно одетый пятилетний мальчик, хищно загоревшись вмиг, только увидал ее дивой, словно неожиданную дичь, баском потребовал:
– Папа, дай скорей мой автомат! – Ясно: в нем взыграл дух воина, охотника.
– Что, сейчас убьешь? – обезоруживающе спросил я у него, сидя тут же: во мне автоматические сработало неприятие чего-то подобного. Это уже не нарочная игра с оружием, а возмутительная непотребная охота на людей исподтишка. Что значит: по чьей-то нелепой фантазии столь невиданно расплодились и в нашей стране не такие уж невинные игрушки военные – суррогат – замена вместо кропотливо-настойчивого восприятия в детях уважения и даже обожания друг к другу. Общеизвестно же, что трус навсегда останется трусливым, а неумеха – неумелым, сколько не играй в опасные игрушки с сызмальства.
И добавил я строго:
– Ведь негоже в маленьких девочек бабахать. Да и тоже – во взрослых. В никого.
Маленький «охотник на людей» потупился, но не стыдливо как-то, а с некой внутренней злостью и упрямством оттого, что разгадали его намерения и помешали ему хорошо «пальнуть» да еще пристыдили в присутствии папы и мамы.
Те, молодые родители, лишь улыбались.
– А это зависит от того, как воспитывают ребенка родители, – был уверен тесть.
XIV
– Человечество многажды проваливалось в своем развитии, – сказал Антон убежденно. – Игнорировало опыт свой. Поступательности в том не было. Кавардак на Земле был преимущественным делом вследствие скудоумия имущественных кланов и капиталоверчения ловкачами. Хотя их и меньшинство.
– Да, накрутили страшных последствий, и нам досталось большое лихо, – проговорил Павел Игнатьевич резонно. – Ударили по нам наотмашь. Немецкое качество. Наполеон немцам не давал покоя. Они решили первенствовать в способности завоевательской. Не зря же о немцах говорят, что они всегда выбирают военные доспехи вместо масла.
– Почему-то эти выбирают роль быть судьей и палачом. Не очень-то посредственную.
– Известно. И у нас, под Ленинградом, они устроили немецкую мясорубку. Вон мы три дня назад в похоронном бюро (умер наш инженер) столкнулись с подростками (лет шестнадцати): они выбирали венки и справлялись об их цене. И спросили у девушки, заполнявшей документы:
– А эти ребята – такие молодые – что здесь делают? Вроде бы ни к чему им…
– Знаете, их два товарища собирали ягоды на Синявинских болотах – на мине подорвались, – поведала она нам грустно. – Один паренек насмерть, другого покалечило: ноги оторвало. Они представляете, еще даже не юноши девятнадцатилетние, значит, еще не знали, что такое любовь…
– Россию и после Наполеона пытались не раз клевать недруги-европейцы: ей везло на агрессию и не везло же в защите – были потери; ей не везло ни в Крымскую войну (1854 год), ни при царе Николае Втором в 1905 году, когда русские моряки красиво проиграли японцам в Порт-Артуре. Потопили их линкор и два своих корабля, но не сдались, – с воодушевлением договорил Антон.
– Николай, знать, проморгал нападение, не жучил подчиненных и так разбалансировал державные устои, – рассудил неожиданно Павел Степин. – А в царских родственничках, впрочем…
– Паша, выражения твои… Фу-у!.. Ты же ведь не мальчик! – педагогично урезонила его Яна Максимовна, убирая со стола лишнюю посуду и не влезая в суть мужского разговора, недоступного ее домашнему пониманию. Но он досказал, не отвлекаясь:
– Да, в царских родственниках тогда пол-Европы ходило, прочел я с интересом (любопытно!) один какой-то обзор и удивился их коммунальным сварам; они же ведь устроили между собой Первую Мировую войну, в которой народы отдувались и массово гибли. За их прихоть. И они ведь не стали же спасать и царя Николая с семьей, арестованных в дни революции слабым правительством Керенского.
– Удивляться тут нечему: пеклись о своих дивидендах, что ближе им к телу, – сказал Антон. – Мозги-то и у них обычные. Не лучше наших устроены… Типовые… Не стоит славословить о них, мол, лучших.
– Ну, как бог дал, вразумил, – сказал Павел Игнатьевич. – И нечего обольщаться незнаемым.
– Да, к началу двадцатого века европейский капитал размялся. И дал волю кулакам, – объяснил Антон. – Ему стало море по колено. Он-то и Вторую Мировую развязал. Вкупе с японским. Все на виду. От того никак не откреститься.
– Однако европейская девушка финтит и твердит: «Я – девушка невиноватая!» – Павел Игнатьевич улыбнулся. – О-о, как изворотлив всякий обывательский ум да изгаляется! Ну, давай, долби, долби свое – и все то злоязычное сойдет за чистую монету. Прием не нов. Ведь виновник в беде всегда видит других, только не себя, отнюдь. Власовцы, например, говорят, что изменили родине потому, что спасали свою жизнь, нынешние казнокрады, что крали потому как не хватало им денег, американский судья в хоккей не засчитывает шайбу русских хоккеистов потому, что он честный американец. А Америка ведь выше всяких похвал по порядку в ней. И вот так повинный в чем-то свои болячки охотно подсовывает соседу и лепит на него напраслину. По правилу: он – такой-сякой, не наш. Таков мир. Бесноватый.
Действительно закантачилась эта публика. В сознании западных элит, моралистов и спецслужб живуч один расхожий штамп: это русские, только русские во всем виноваты, коли они что-то там когда-то позатеяли и наколпачили, не спросясь у них-то, знающих все досконально. Так что можно все валить на них. И вовсе ничего, например, не значит, что Черчилль в 1944 году предпринял демарш – мелкую пакость – перед союзником Сталиным: спровоцировал поляков-варшавян на восстание в тылу у немцев, чтобы опередить русские войска в пику им и усадить на трон польское «лондонское» правительство. Только поэтому. Но ведь немецкие каратели не пощадили восставших: немалое число их погибло зря. Советские же войска только что с боями прошли более чем пятисоткилометровый путь, освобождая Белоруссию и теряя бойцов, хоть и помогали варшавянам по мере сил. Но этих сил у самих бойцов уже явно не хватало. Требовалось новое пополнение и перегруппировка войск.
– Я был тогда свидетелем этого в Белостоке: служил в военной части, – пояснил Антон. – И зря англичане пишут о том, что, дескать, они опять хотели, но не могли помочь полякам, тогда как русские войска должны были и могли им помочь, да не захотели. Попробуй опровергнуть ложь. Они-то лучше нас знают!
Этакое вот слововерчение.
– Что же, нрав английский: он, британец видный, сэр, не мог утратить потомственную спесь и имидж, позволить кому-то переиграть себя; даже в союзнических делах все выгадывал, старался перемудрить, упорствовал в неоткрытии второго фронта до конца. Холодную войну он затеял. Чисто английское имперское поведение, – судил Павел Игнатьевич. – Только под конец войны он – непростительно! – впал совершенно в извращение ума: хотел собрать воедино все оставшиеся немецкие войска и союзные и уж так продолжить войну с СССР. Не хотел пустить Россию на Запад.
Ведь же ошибался политик, надеявшийся на немецкую силу: к концу войны Германия совсем выдохлась с людскими ресурсами. Потеряла их больше, чем мы, по соотношению с населением. Я как-то подсчитал…
– Да, наша сила фашиста раздавила – из него дух вышибла. Мы не околели. Врага одолели. Все превозмогли. Тем возвысились. И поэтому-то европейским политикам не хватает мужества: они копят свою обиду от непростительного бессилия своего за то, что Европу освободил от гитлеровских полчищ русский солдат, а не они сами смогли освободиться. Винят в своих промахах восточного соседа, превзошедшего их в ратном подвиге. Довольно распространенное проявление людской зависти.
Пушкин еще в 1831 году писал в стихотворении «Клеветникам России»:
Что возмутило вас? Волнение Литвы?
И ненавидите вы нас…
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
– Замечательно писал, – сказал Павел Игнатьевич. – Но лезут наглецы на рожон.
Вошла в комнату Янина Максимовна, предложила просительно:
– Паша, я подумала: может, и мы лучше съездим на Кавказ, как дети? Там полезные горные источники.
«И мощь каменных утесов», – подумалось Антону.
XV
В связи с напоминанием тещей о Кавказе Антон вспомнил и о главной цели своего приезда к Степиным, сказал, глядя пристально в глаза тестя:
– Я Вам не советчик относительно приобретений, каждый из нас волен поступать по чувству, как кому заблагорассудится. Тем более что сам имею корысть: теперь я хочу спросить у Вас, не смогли бы Вы пока ссудить нам взаймы?
Он не любил просить (и потом никогда ни у кого не просил) деньги. Но так скомандовала Люба. Тесть и теща пять лет работали в ГДР и имели деньжата.
– Деньги? – заметно взволновался Павел Игнатьевич. – А какой же суммой?
– Мы рассчитываем на тыщенку. Или сколько можете… На квартирный кооперативный взнос.
– Ой, нет мне жизни! – почему-то смеясь, воскликнул тесть. И смолк.
– Мне важно точно знать, дадите или нет. Если нет…
Вошедшая Янина Максимовна с нескрываемым удивлением, заметив перемену в мужнином настроении, вслушалась в то, что Антон договаривал:
– … Если вы не сможете нам одолжить хотя бы около тысячи рублей, – скажите сразу; тогда, разумеется, буду искать где-то еще. Знаете: живем в коммуналке, без горячей воды, на грязной кухне с проваливающимся полом, в темной комнате, наконец, с пьяницами, со скандалами извечными…
Теща, остановившись, побледнев словно от ужаса, слушала его с раскрытым ртом. Но, немедля ринувшись защищать себя, мужа, мигом сделала образцовый выпад (на что-что, а на это иногда хватало у ней ума):
– Как же одолжить вам, Антон, деньги, если нам захочется вдруг съездить куда-нибудь? Не взыщите уж. – Она, как миллионер какой, за деньги испугалась.
– Тогда быстро соберу – отдам, не на век же в долг беру, – ответствовал зять уверенно-успокоительно и достойно.
Но его слова, видел он, не удовлетворили их нисколько. Тесть явно поскучнел. И собрался с духом:
– Думаю, вам, Антон, лучше спросить у кого-нибудь еще. Мы, знаете, почти больные люди; если не откажем и дадим, будем волноваться, мало ль что… Потом же: надо с книжки их снимать… Неудобства все…
– Ну, понятно…
– Вспоминаю кстати: у нас в учреждении работала уборщица, у которой один профессор всегда занимал деньги.
– Не хватало ему своих?
– Потребности больше. На сберкнижку переведут и, бывает, не хватает, – всерьез говорил Павел Игнатьевич, понимая все по-своему.
– Я не буду волновать вас больше, точно; считайте: этого разговора у нас не было… – дал попятный ход Антон.
– Да потом, – оправдывался повеселевший тесть: по средствам строим мы дальнейшие свои планы; когда их нет, что напрасно что-то строить в голове?
– Ну, зачем же строить – надо быть просто способным к чему-то или нет, по-моему разумению, – парировал зять.
– Верно. Вижу: вы очень серьезно смыслите во многих вещах. Вы-то как советуете насчет дачи? По-серьезному…
– Ой, если мне нужно что, и я уверен, я мало слушаю советов…
– Вот это хорошо, Антон… Я ценю… – Теща всплеснула сухими ручками.
И тотчас же тестю все стало скучно, безразлично: откровенно он зевнул.
– А теперь поспать мне, что ли, Яннушка? Я устал.
– Ложись, поспи, – миролюбиво согласилась та, довольная исходом разговора.
– Не грешно: устал от всего. – И уж пожаловался он вроде б в полушутку Антону: – Вот ведь, не учтешь, и на даче не бывает полного спокойствия, какого хочешь… Организм же чутко реагирует. Чем-нибудь да навредишь себе непроизвольно.
– Или кто-то доставляет неожиданное беспокойство тоже, – также в полувсерьез сказал ему зять, намекая именно на себя. Он уже хорошо узнал родителей жены, только лишний раз их проверил в нежелании прийти на помощь – вовсе зря попросил у них о денежном одолжении. – Ну, извиняюсь, коли так… Пора и мне отчаливать домой. Дела.
На том они и разошлись – вполне пристойно, вежливо.
XVI
Эта просьба доставила Антону неприятное чувство среди других, точно ею он поставил их, родителей Любы, в неловкое положение и то помнил и укорял себя за бессердечность: ведь они могли испытывать какое-то смятение, в которое он ввел их своей просьбой. Вот также он некогда переживал и эпизод со своим незадачливым столкновением велосипедным из-за неумелости просто.
В дни детства Антона велосипед считался роскошью – он был у немногих взрослых. И поэтому в апреле 1945 года, когда он (в шестнадцать лет) впервые сел на него (притом с полуспущенными шинами попался ему под руку), он не думал, что вскоре это приятное удовольствие доставит огорчение. Причем не раз. Начал он объезжать велосипед в обширном, захламленным чем попало, дворе немецкого дома, который занимала военная часть: ему неудобно было бы акробатничать и биться, а вернее, развлекаться, прямо на улице, мешая транспорту, пешеходам и шествующим по германским дорогам освобожденным европейцам из нацистских лагерей. Песочный двор обрамляли по краям какие-то постройки, сарайчики, садовые деревца; за ним на запад, простиралось поле. И он весь вечер по кругу мотался здесь, бесконечно крутил педали и падал (без зрителей) в вязкий песок, постепенно усложняя перед собой задачу. Так, подводил велосипед к валявшемуся ящику, на который вставал, и, перенося ногу через раму, сильно давил на педаль и отталкивался с места, а затем уж, сидя в кресле, крутил и вторую. Говорил себе: вот проеду хотя бы четверть круга. Потом – полкруга. А в конце-концов наладился и на большее, поняв принцип устойчивой езды и проявив сноровку. Накрутился до того, что еле-еле доплелся до постели: всю ночь ныли, болели мышцы ног, да и рук тоже. По крайней мере зарекся кататься дня три.
Однако следующим вечером Антон снова взялся за свое. И потянуло его уже не простор. Зато как помог ему дворовый сыпучий грунт: на твердой-то дороге катился – слушался его велосипед отменно, и он был на верху блаженства. Вот только с остановками пока не отработал, тем более, что также не действовал тормоз; так что, не умея еще своевременно останавливаться в случае необходимости или опасности, он тотчас причаливал к тротуарным деревьям и обхватывал стволы, чтобы не упасть. Конечно, поначалу. Оттого и занесло его маленько. Миновав по безлюдному тротуару здание, он пустился улицей немного вверх, а затем, насилу развернувшись, – и обратно. Но на его пути зияла глубокая воронка с раскиданным покрытием. Нужно было опять объехать ее, и он боялся попасть под автомашину. А тем временем навстречу ему катил также на велосипеде незнакомый капитан с офицерским планшетом, – Антон заметил его поздно: увернуться не успел – и они столкнулись на краю воронки. Свалились оба велосипедиста. Колесо трофейного велосипеда офицера превратилось в семерку. Он, потирая ушибленное колено, отряхиваясь, поправил фуражку и, багровея в гневе, ругал – но не сильно – Кашина (видел, что мальчишка перед ним):
– Не можешь ездить по правилам, не езди!..
– Так тоже и вы наехали, – растерянно оправдывался Антон.
– Что… наехали? Видишь, теперь бросить надо и – хромать…
– Возьмите, пожалуйста, мой. – Предложил виновато Антон. – Он цел, но шины спущены – насоса нет, чтобы накачать.
Офицер глянул на его отчаянным взглядом – как на сумасшедшего или, может быть, недотепу, подвернувшегося ему в недобрую минуту, и, махнув на все с досадой рукой, пошагал без оглядки дальше. И Антон поскорей подхватил свой велосипед и ретировался отсюда без свидетелей. С раскаянием и печалью оттого, что по-глупости своей обидел достойного незнакомого человека, офицера, который, возможно, ехал с каким-то важным донесением, мог теперь не поспеть вовремя, за что и получить нагоняй от своего начальства… Фантазия его разыгралась.
И после были у него столкновения похлеще. Так, однажды повис он, растерявшись, на шлагбауме – тот отрылся вместе с ним, налетевшим на него, а велосипед само собой покатился дальше. Все это было. И бился не до смерти все-таки. А успокоился тогда, когда некто, взяв у него (ради выручки) хороший велосипед, чтобы добраться до госпиталя, не вернул его. Он и не жалел, однако. Все закономерно относительно вещей.
Антон долго помнил расстроено-жгучий взгляд того пострадавшего от него капитана.
И Павлу Степину – надо же, – опять повезло! Он поневоле застал послевоенное брожение умов и у властной прослойки общества именно на Западе, будучи уже в самом Берлине, что невероятно: сюда он был направлен Москвой в пятигодичную командировку как толковый специалист по станочному оборудованию; он должен был выявить и подобрать для последующего вывоза в СССР исправные немецкие металлостанки в счет погашения наложенных на Германию репараций. Серьезный фронт работ.
Разумеется, это было жалкое возмещение потерь в войне невосполнимых ничем богатств и сокровищ, уничтоженных нацистами на советское земле и вывезенных ими в свои виллы, особняки, укрытые в природных уголках. Ищи их, свищи – ты ничего не найдешь вовек!
Яна каждый раз приварчивала, вымывая на немецкой кухне посуду, отобедав вдвоем с мужем. Она с ним тоже разделяла это бремя командировки в Германию, в которой некогда живала ее верная подруга, сокурсница, ставшая женой немца-инженера. Та ей вспоминалась тут. И дети вспоминались нередко: Люба и Толя, вынужденно оставленные ими, родителями, дома на попечении доброй славной родственницы Марии Михайловны. Так стало нужно. Ради удобства для всех.
Яна, отлученная на пятилетку от учительства, поскольку в Германии еще не было русских школ, вынужденно ходила по здешним магазинчикам за нужными продуктами, покупала их за марки, ладила с вежливыми немками, готовила еду для мужа, хотя такое занятие страшно не нравилось ей: кухня не была ее стихией. Вот театр, сцена, зрители – другое дело. Но что поделаешь: она как-то старалась теперь кухарить, терпя все, выполняя такую обязанность в первую очередь перед государством – именно оно-то и оплачивало добросовестно ее этот женский труд при муже. Нелюбимый, пустой. Конечно же, ей милее было бы возиться с ребятами в школе…
Ее родственница, полноватая, подвижная, с грудным голосом Мария Михайловна, опекавшая ее детей – Любу и Толю могла дать фору любой матери в воспитании ребят. Она была их доброй защитницей и грозой домашних слуг.
На все лето она вывозила ребятишек на свою родину, в благополучную деревню. Та просторно красовалась на большом восточном берегу величавой Волги, среди живописных дубрав и кружев садов. Под уютным городком Красное-на Волге, известным ручным выпуском различных золотых украшений, радовавших женские глаза.
Этот край костромской не был опален войной, что много значило; он был восхитителен в своей природной красоте, гармоничности. Вместе с прилепившимся сюда народом, занятым свои хозяйством – содержанием его в порядке.
Двурядно деревенские избы тянулись вдоль Волги в зарослях, отсвечивая обращенными на Запад окнами, золотясь в оправе резных наличников в солнечных лучах, как картины. Перед каждой избой имелась дощатая скамеечка – на врытых в землю столбиках. А на Волге – куполок церквушки. По пятницам в обязательном порядке дымились баньки. По реке проплывали теплоходы, баржи с грузом. Постоянно пахло вяленой рыбой, которую ловили вдоволь, клубникой, огурцами, яблоками, пирогами. С реки доносились веселые голоса купавшейся детворы. Мычали коровы, щелкали кнутами пастухи и покрикивали на стадо. По вечерам проводились гулянки молодежи, танцы под гармонь, с частушками, с песнями.
Здесь для ребят было несравненное памятное раздолье. Они окрепли. Они боготворили Марию Михайловну и слушались ее. Всегда она была в ровном спокойствии перед ними, чтобы ни случилось.
Только однажды, 5 марта 1952 года, они подивились на нее, когда она утром разбудила их, сказав:
– Вставайте, ребятки! Ваш бог умер! – сказала с несдержанным выдохом наружу явного удовлетворения, цену которому она знала.
А родители их тем временем исправно дорабатывали свой срок на репарации немецкого имущества. Яна все чаще терпела, кроме вынужденного порой безделья, недобрые вспышки взрывного характера Павла: он не сдерживал перед ней свои эмоции, когда раздражался по работе или по домашним делам или по каким-то проблемам, которые вдруг возникали перед ним иной раз.
Однако Степина очень ценили профессиональные работники немцы, сотрудничавшие с ним, ценили как знающего специалиста по технике, весьма уважительно к чему относились и обращались к нему, приговаривая с приставкой:
– Гер-р Степин.
В такой работе он настолько сошелся с этими немцами, что невольно подумал не раз, не понимая: что давала таким трудягам война? Почему они воевали так ужасно, уничтожали всех? На вид-то такие мирные, исполнительные люди.
Ему приходилось – из-за нестыковок различных – работать допоздна.
Однажды он совсем припозднился с уходом с завода. Такая царила темь – непроглядная, нет фонарей световых. И ни души вокруг. У него на мгновение даже страх возник, холодок по спине прошел: «ведь вот так немцы и прикончить меня могут – и дело с концом!»
Он откровенно сказал об этом немцу-шоферу, приставленному к нему. И тот со всей серьезностью заверил его в том, что его, Степина, никто не убьет, опасности нет. Не было такой команды. Немцы верны дисциплине. Должен быть порядок во всем.
Таким образом Степин, колеся по заводам Германии (в ГДР) побывал и там, куда судьба забросила Антона в майские дни 1945 года и позже его младшего брата Сашу, танкиста во время столкновения с американцами, когда тот двое суток сидел в боевом танке – ждал приказа…
Примечательные повороты судеб.
XVII
Антон невольно оглянулся с удивлением: он вдруг летел в каком-то дикованном устройстве; кругом до боли в глазах голубел бесконечный космос, куда ни кинь взгляд. Оттого он испытывал такой восторг, что у него вдруг забилось сердце! Это точно: он чувствовал его биение. Да, не видно было нигде ни бархатной черноты космического пространства, о чем говорили и писали знатоки и немногие очевидцы, побывавшие тут еще до Антона, и ни ярких звезд, среди дня горевших и светивших; со всех сторон оно разверзлось точь-в-точь небесно голубым и бездонным, столь же прекрасное, как чистое солнечное небо, пронизанное светом. И хотелось здесь парить, замирая, как паришь иногда во сне, не падая. Но, к сожалению, Антон не мог сейчас задерживаться – летел в каком-то прозрачном аппарате, немудреном, заостренном спереди, а также сзади и скользившем по этой воздушной глади совсем бесшумно: звуков никаких он не слышал, точно находился в герметичной кабине, и в то же время не чувствовал вибрации. Земля, на которую он оглядывался от волнения, была за его спиной беловато-зеленоватым шаром; этот шар уже уменьшился до пределов, разве что чуть покрупнее футбольного мяча, и заметно еще уменьшался. Впереди же, куда он, наверное, летел по прямой, чуть-чуть рдела небольшая звездочка, словно потерянная, – и она все не увеличивалась собой; она вроде тоже убегала от него. «Занятное положеньице», – подумал он между прочим. Звездолет тащила вперед, очевидно, световая сила – сила какого-нибудь светила, расположенного, как он ощущал лицом, где-то вне поля его зрения, сверху, хотя сквозь свой летательный снаряд он хорошо просматривал все во всех направлениях и ни привычного Солнца и ни подобных ему светил не видел – сияла сплошная голубизна.
«Уж скорей бы долететь и опуститься», – с растущим беспокойством внезапно подумал Антон: его начинало уже пугать впечатление, будто он повис на полпути к той заветной звезде: может статься так, что никогда уже не прилетит туда. Время потянулось медленнее. И дышать труднее стало. Он вспотел. Но он помнил отчетливо, что он русский и хотя на вид неказист, не богатырского сложения, что другие, но в невзгодах жизни достаточно умудренный и закаленный духом. Он добьется своего везде – и сейчас не спасует. И он приободрился. Ему вспомнилось, как он только что ходил по Земле, где были выставлены всевозможные машины. Там сидели колени в колени француз с милой француженкой, славно обсуждая свои выставочные дела. И потом на Антона глядела лукаво, как цыганка, незнакомая черная итальянка, глядела по-женски знакомым взглядом, но так, что нужно было только подойти к ней и взять ее за руку, чтобы увести ее с собой. Но он тем не менее не сделал этого: он устал, проходя по бесконечным переходам той всемирной выставки, оглушенный жужжаньем голосов и шумом моторов. И теперь жалел об этом, сидя один, совершенно один в кабине летевшего снаряда, сонно клевая носом.
А когда он с ужасом стряхнул с себя сон, – увидел, что снаряд его уже коснулся почвы далекой звезды, к которой он стремился. Звездолет опустился на одну из бесчисленных площадок. Вечерело, и голубизна вокруг все усиливалась. Всюду вырисовывались скалы – и голые, и обросшие, в точности такие, что на Крымском побережье; где-то в безоблачном жарком небе, за скалой, белым пятнышком маячила Земля. И никакой дремучей растительности, отличной от земной, он не наблюдал пока, вылезая из кабины, ничего, казалось, живого, но заметил вдруг, что уже какое-то бородатое существо, стоящее на двух ногах, что и человек, дотошно наблюдает за ним, знакомо заслоняя рукою глаза от низкого Солнца.
И Антон повеселел, засвистал.
Прихватив с собою сумку с кое-какими летными инструментами, он направился туда, где поджидали его; он предоставил все не на волю случая, а на добрую волю и честность разумных здешних обитателей, которые, видно, несомненно жили здесь, – в такой же степени разумных, как и люди. Сумка болталась на ремне, перекинутом через плечо, и била по ногам. Она мешала явно, да он не поправлял ее: спешил идти вперед. И шел тяжело, с усилием, – ровно по сыпучему песку или по ползущей гальке: ноги постоянно или вязли, или скользили… А цель все не приближалась.