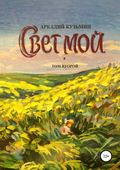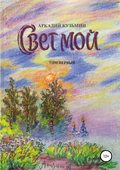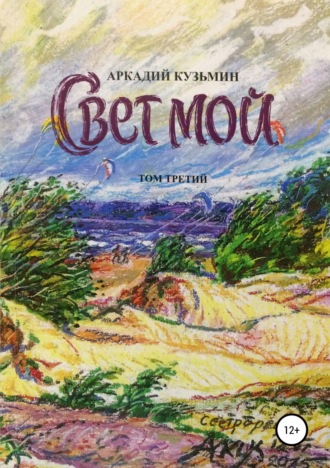
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
Не забыть и того, как потом их эшелон аккуратно, замедляя ход до минимума, вползал на бесконечный, возвысившийся над широкой Вислой, воздвигнутый временный деревянный мост, который так ощутимо покачивался под вагонами, скрипел, – видны были по сторонам теплушки лишь торчащие обрывки брусков, досок. А некоторые бойцы сидели прямо на полу теплушки, в проемах дверей, свесив ноги и болтая ими в воздухе, что малые дети, играя в бесстрашие, когда уже не нужно применять оружие и не идешь вперед под градом вражьих пуль, осколков. После этого, казалось всем, проехали какой-то важный рубеж. И поезд заторопился будто.
Это незабываемо.
Тлел летний предвечерний час. А вагоны все катились с лязгом, с ветерком, раздувая травку легкую, живучую на польской сторонушке, и дробно колесами стучали-перестукивали на тягучих гладких рельсах.
Здесь, в теплушках, демобилизованный фронтовой народ сидел, стоял у дверных проемов, а кто глядел-глядел неистощимо в люки – чтобы нечто важное не пропустить мимо глаз; все солдаты очень ждали этого момента, жадно спрашивали друг у друга: скоро ли, когда же то – главное-то будет? Незаметной промелькнула рябь реки. Отстучал пролет моста. Да и вдруг загудел паровоз и заспешил сбавить ход в чистом пестросливочном поле. И потом совсем остановился. Что, так дал всем машинист сигнал? Какое-то неуловимое движение радости прошло вмиг по всем солдатским лицам; все вздохнули – сами поняли значение случившегося и заговорили вслух и шепотом: да, проехали, проехали, наконец, границу – была уже наша Родина!
О, что тут началось – не передать! Многие солдаты, опрометью, из вагонов высыпав, лупанули к видневшейся с северной стороны, за косогором, серенькой деревеньке – там жидкая цепочка изб растекалась живым клином среди однообразной зелени. Бегущие срывали на бегу пилотку, чтобы не мешала, и вовсю работали – отмахивали руками; развевались у них волосы, полы гимнастерок, а травяные нескошенные пряди хлестали по ногам, – все бежали-то неистовей, чем на иной пожар, словно боясь опоздать к чему-то святому, единственному. Как нетающая в набеге рать, оставившая свои силы именно для этого рывка. Словно нужно было непременно причаститься в этом порыве к Родине. Ведь за нее они, бойцы, бились с фашистами, грудью вставали, шли, теряли везде своих товарищей. И теперь гудок паровозный только подгонял их сильней.
Как опять повозвращались спешно бегуны, все довольные в теплушки, те бойцы, которые на месте оставались, с нетерпением у них спросили, для чего же они бегали в село. Да, зачем?
– Думали всего-то: раздобыть родной махорочки и взглянуть заодно на народец свой – страсть соскучились, прямо мы не знаем… – был бесхитростный стеснительный ответ.
– Ну и что, скажите, разглядели там?
– Да маленько посмотрели… Ой, как, братцы, хорошо! Но нима, нима (беда) махорочки: бедно. Жалко…
Вот и встретились они со своей спасенной Родиной, с истовой, непоказной любовью к ней ее сынов. С глазу на глаз.
XVIII
С каждым днем, как для всех, демобилизованных солдат, отстукивались километры к Москве, маленький и бойчившийся поначалу солдат, называемый всеми Васей, пьянствуя без продыху, все больше опускался внешне и желтел, чем заметней выделялся из всех, как выделялись собой, например, желтевшие гроздья придорожной рябины среди полной еще зелени листвы. Верно говорится, что в семье не без урода. Он спустил (не без чьей-то небескорыстной помощи) все шмотки, какие имел, и немалые деньги, которые при демобилизации тоже получил за весь срок военной службы; остался лишь в том, в чем был; уже не брился (даже бритву продал), ничего почти не ел сутками и бредил порой, так как разучился и нормально говорить – голос потерял – лишь сипел от перепоя. Бранливый, бубнящий что-то, в измятой донельзя форме, с измятым и заросшим лицом, со спутанными и неопределенного цвета волосами, с помутнело-блуждающими глазами, с трясущимися руками, он перестал и мыться, чаще всего валялся на нарах или прямо на полу; уже мало кого узнавал и даже мочился под себя, хотя еще где-то помнил, что трясся в теплушке, среди товарищей.
Вот горе-то горькое! Типичное. Но ведь такое будто бы неделикатное, когда мы пишем о Великой Победе, когда прославляем ее героев.
Все-таки было непонятно, было дико Антону видеть, что прошедший муки мировой войны с фашизмом и награжденный фронтовик опустился столь противно-омерзительно (дальше некуда): он вызывал в нем, кроме стыда видеть, физическое отвращение и еще моральное мучение вдвойне – и за его детей, которыми он хвалился как-то. Разве дело тут в обычной человеческой слабости, некой поблажке себе? По-моему, дело в привычной распущенности, позволяемой себе взрослыми. Ишь какой великий праздник закатил он себе на радостях! Да сущее это издевательство над здравым смыслом. И домой-то невредимым вернется, да одно мытарство и позор будет с ним навсегда. Каково же близким! Можно только ужаснуться.
К сожалению, товарищи, от которых многое зависело, поздно ужаснулись, спохватились – поздно почувствовали вроде бы ответственность за своего собрата. Пробовали Васю пристыдить и урезонить как-то. Но куда там! Ничего не действовало на него. И тогда (летним сияющим утром) один вслух сказал рассудительно:
– А ведь не годится нам, служивые, привезти его таким в столицу. На показ москвичам. Опозоримся все сами… Там же народ нас, победителей, встретит. В том числе и, может, его жена…
И уж мигом стихийный совет состоялся:
– Пожалуй, вот что нужно сделать нам… Давайте для начала хотя бы побреем его, одичавшего…
– Точно: будет упираться – связать и побрить. Баста! Нима делов.
– И больше не давать ему ни грамма этого добра-зелья, как бы ни выпрашивал он, согласны?
– Разумеется! Еще помыть и накормить… А то разгеройствовался весь, что петушок, – не подходи к нему… До ручки докатился. Тьфу!
– Да мы, ребята, сами хороши: сначала вроде б забавлялись им…
С этим согласились все. Посерьезнели. И впрямь малость оплошали: заметили безобразие рядом лишь тогда, когда уже стали начищаться и прихорашиваться и собираться внутренне, готовясь наилучшим образом въехать в родную Москву.
Антон не знал, чем закончилась потом эта история с непутевым Васей. Подъезжали уже к Вязьме, и Антон, заволновавшись, приготовился выйти здесь. Только видел, что Васей уже занялись ветераны и что он покамест не шибко засопротивлялся, почувствовав, что попал в ухватисто-твердые мужские руки, этот премудрый для себя ёрш-мужичок. Он пока слабенько мычал от того, что делали с ним, как бывает иногда во сне.
Отчего же взволновался Антон опять? О, извечное это волнение! Извинительно, однако: с ходу, хотя только что вышел с вещами из теплушки, стал решать сам с собой проблему, как быть дальше. Ломал над этим голову.
Прибывший на станцию Вязьма эшелон пока еще стоял на третьем пути – еще не подцепили паровоз, заправленный углем, водой и пр.; а Антона тем сильней (на виду вагонов с демобилизованными) мучили сомнения – он заколебался вдруг: может быть, ему стоило доехать с солдатами, к которым уже привык за несколько суток езды, до самой Москвы, а оттуда повернуть на Ржев? Или все-таки разумнее отправиться отсюда во Ржев, до которого сто с лишним километров всего? Путь, конечно, вдвое-то короче, чем от Москвы до дома. Но местный пассажирский поезд здесь курсирует, если все ладно, по-прежнему лишь через день. Сегодня его нет. Пропадает день. Что же лучше? Антон наскоро прикинув все «за» и «против» на перроне малолюдном, снова подхватил свои вещички и по-быстрому поволок их опять в знакомую теплушку. Как дитё неразумное!
– Что ты, Антон? – первым встревоженно встретил его в вагонном проеме, едва он вскарабкался сюда, сержант Миронов, его дорожный попечитель и доброжелатель; он, ничего не понимая и силясь что-то сообразить, хлупал серыми глазами, но прежде всего со свойственным себе степенством и внимательностью выслушал его, его сбивчивое – еще оттого, что тот запыхался – объяснение.
– Понимаете… – Антон чуть не сказал ему ласково-успокаивающее «Мироныч» – по примеру его земляков, иногда называвших его так уважительно за что-то. – Поезда нет ежедневного на Ржев. Только завтра… А с Москвы-то интенсивнее пассажирское движение… Так что, видите… Доеду…
– Что ты! И не думай! Поезжай домой именно отсюда – чем-нибудь да доберешься побыстрей, – заговорил сержант с искренней убежденностью в рискованности необдуманно затеянного Антоном маршрута. – В Москве-то тебя затолкают – бездна народа сейчас; из нее тебе будет намного сложнее выбраться – и устанешь, потеряешься. Поверь!
– Разве?
– Я говорю тебе…
Миронов, как истинный москвич, не вспоминал при этом – для вящей убедительности и воздействия на него – пресловутую присказку «Москва слезам не верит»; но что-то, видно, более существенное, реальное смущало его в стремлении Антона доехать до столицы. Что?
Будто уличенный в каком неблаговидном поступке, Антон с робостью, с растерянной улыбкой обвел участливые лица обступивших их солдат. Да те смолчали напряженно-справедливо, вероятно, признавая наибольший авторитет Мироныча, поскольку они с сержантом держались в дороге вместе. Еще в начале ее, случалось, Антон показывал им, заинтересованно сгрудившимся около него, свои работы – рисунки, портреты, берлинские наброски, даже развернул двухметровый портрет маршала, тот, из-за которого замполит обиделся на него. И после этого особенно почувствовал через их понятно-уважительное отношение к творчеству художника – некому торжественному таинству для них – и почти любовную уважительность к нему, их юному попутчику.
Сержант между тем, торопился: могли уже подогнать паровоз.
– Идем, идем, Антон! – и он снова подхватил его чемоданчик, шинель.
Спеша, он вторично сопроводил его до каменного вокзала с его внутренней прохладностью. И Антон, уж попрощавшись с ним, тоже снова (так вышло), наконец, остался на перроне: кто знает, может сержант и прав полностью! Об этом подумал Антон, гладя на свой уходивший дальше эшелон.
А паровозы, пыхтя, гремя на рельсах, сновали себе взад-вперед. Солнце грело.
На прощанье Миронов дал Кашину свой московский адрес. Но в 45-ом же юноша безуспешно пытался отыскать номер дома на известной улице. А спустя пару лет вблизи нее случайно столкнулся с Мироновым, узнал его, смущенного их встречей. Естественно, Антон подрос, а Миронов будто похудел, осунулся лицом, – жизнь, верно, не баловала его; он был озабочен чем-то, не то, что с московской сутолокой, и остановился, наверное, с Антоном больше из присущей ему вежливости. И не позвал к себе домой, не пригласил: значит, не мог. Очевидно, потому лишь, что боялся того, что придется ему возиться с ним в Москве. А, возможно, было тут что-нибудь другое. Очень трудно порой судить людей. Ведь и ему, Миронычу, Антон остался благодарен за то, что тот по-доброму помог ему при демобилизации скоротать неблизкую поездку домой – делом и советом, и опытом.
XXIX
Итак, Кашин, подросток, в гимнастерке с погонами, стоял опять внутри прохладного (при августовском тепле) вокзала Вязьмы, станции, известной ему с мая сорок четвертого; вновь разглядывал невинное, не сулившее ему ничто сегодня, поездное расписание. И надеялся на чудо. Когда рядом с ним остановились, сопя, два средних лет бойца с вещами тоже – один какой-то монолитный собой мужик, скупой в движениях, и другой помельче, активно-дружелюбно настроенный и быстроглазый блондин, бывший слегка навеселе. Он спросил:
– А ты, солдатик, куда едешь – правишь? Позволь узнать. – И сделал еще шаг к нему. – Случаем не в нашу ли сторону – калининскую?
Кашин негромко без утайки сообщил обоим незнакомцам:
– Во Ржев нужно мне.
– Будешь тоже, значит, ржевский?! Землячок? Степан, слышишь?
– Да, оттуда я.
– Как тебя?..
– Зовут Антоном.
– И мы ж, Антон, тоже навостряемся туда. По домам. Ну, знакомы будем, стало быть. Федор – я, а он, – кивнул на ровного и точно закаленного как-то, с немелкими чертами лица, товарища, – он – Степан. Так, порядочек. Нас уже трое. Легче…
«Наверное, и мне – обрадовался Антон: как-никак мне встретились, видать, бывалые, находчиво-толковые попутчики. Не то, что я, когда один…»
– Плохо: поезд пассажирский только завтра… – поделился Антон сомнением.
– Ты, того, пристраивайся, малец, к нам, – глуховато тут заговорил Степан. – Сообща-то что-нибудь скумекаем. Проще. Айда на улицу, хоть поищем и других таких скитальцев в закоулках… Если что, к начальнику станции подкатимся делегацией: мол, мил-человек, выручь нас. Он, наверное, в мою добу и поймет; кто демобилизован, тем пристатно…
– Ну, какие мы почетливые… – комментировал Федор на ходу. – Все по-человечески… А то как же…
– Вобчем нам шевелиться надо, братики-солдатики. Чтобы укатить…
Однако всего демобилизованных солдат, из числа едущих по Ржевской железной дороге, набралось на перроне еще с десяток человек, и то едущих лишь до Сычевки, и железнодорожники после переговоров пообещали пустить до нее с товарняком прицепной пассажирский вагон-подкидыш. Ржевские солдаты решили также доехать до Сычевки, а там снова наладиться на попутку, если выйдет, – там виднее станет.
Потом слонялись возле общипанного вокзала: формируемый поезд отправлялся через полтора часа. Быстро сходчивый с людьми Федор, часто затягиваясь напоследок мусоленным бычком – окурком, обжигая пальцы и выпуская дым изо рта, предложил им пока перекусить. Он был готов. Степан отказался наотрез, без колебания: еще не хотел есть; дымя тоже самокруткой, отпустил их успокоительно: пока побудет около вещичек.
В небольшой привокзальной столовой, сев за столик под белой скатертью, Антон достал из кармана выданные ему талоны на питание; но Федор запротестовал, говоря, что надо экономней расходовать их: можно будет отовариваться по ним – хватит на двоих и одного. Так что Антон отдал раздатчице один талон. Взяли порцию первого и второго, разделили поровну между собой, как водится у порядочных людей. И уж звякнуло о стакан горло фляжки, которую держал Федор в руках, наливая какую-то жидкость. Сказал:
– И тебе. Н-на, глотни чуток.
– Это – что? – покосился Антон с опаской на стакан.
– Да то самое, попробуй. – Засмеялся его напарник коротко.
– Н-не, не буду.
– Да ты что! Не куришь. И не пьешь?
– А зачем?
– Ради встречи. Обижаешь, брат! – Как булыжники на мостовой обкатаны его слова. Убедительны. Негоже, правда, обижать его. Он со всей душой к тебе…
– А сколько этих встреч в пути? Спиться можно, чего доброго.
– Ни-ни, молодой еще. Я – капелюшку, видишь? – Глаза у него веселые.
– Ладно, отопью… – Но глотнул Антон глоточек – да и вмиг дыхание перехватило у него. Даже нос, ей-право, дряблым стал, как пощупал его после. Не на шутку испугался он: – Что за пакость зверская? Фу! Отрава…
Федор же преспокойненько закусывал и учил:
– Спирт. Ты не боись, Антон. Вырастешь – поймешь. Намертво опробовано нашим братом. Тот же хлеб. Да, из хлебушка родного это…
Вот она – житейская философия самообмана. Антон был не согласен с ним. И настойчивей воздействовал на него, только приготовился он еще налить в стакан себе, – убеждал его в совершенной ненужности этого.
И Степан, которого Федор вознамерился угостить из посудины своей, когда они вышли из столовой, не снизошел до выпивки, был спокоен-тверд, как скала:
– Ну, об чем говорить! Стыдно тебе, стыдно! И не делай, чтобы не ругались. Немножко обдумывайся все-таки. И помни себя. – Видно было сразу: мнимым удовольствием не сбить его с истинного проверенного им пути, и ненужно вовсе удерживать от чего-то сомнительного, дурного – сам знал хорошо, что делал. Деловой мужик – от плуга, он напоминал Антону отца особенной серьезностью, породой и также не особенно примечательной внешностью.
– Ладно, земляк, не шифруй позря, – обиделся Федор, спрятал фляжку, к которой прикладывался – он и стоя уже пошатывался, или, верней, его покачивало. – Я-то помню себя, не боись: не прокеросиню…
По приезде в Сычевку они втроем, к счастью, скоренько нашли состав, вот-вот отбывавший во Ржев, – он состоял из открытых платформ с грузом. Ничего: залезли на горку каменного угля, подстелив под себя куски картона; отчалили так, прижимаясь, обдуваемые встречным – с напором – ветерком. Поезд катил-мчал, что говорится, без оглядки, без остановок, словно спешил ради них или просто наверстывал упущенное – мимо раздолья полей, сиротливых левитановских деревенек, лесных угодий, полустанков; паровоз все поддавал и поддавал пару, еще убыстряя рывками свой бег, отчего сильней качало все груженые платформы; вперебой отстукивали – тук-тук-тук, тук-тук-тук! – колеса по рельсам; стлался, изгибаясь, дымный шлейф из трубы паровозной. От движения такого дух захватывало.
«Удивительно, – подумалось Антону: – не им ли, ровесникам отца, четыре года назад я, провожая их на фронт, махал возле железнодорожной насыпи где-то недалеко отсюда? И теперь вместе с ними – такая судьба – возвращаюсь домой…» Как не успел и сообразить – при очередном резком рывке паровоза кубарем кувырнулся с платформы в лесок Федор, сидевший чуть ниже их: он вместе с вещами мелькнул вниз по зеленому откосу. А ведь все пытался – даже на платформе – доказать им свою крепость, устойчивость! Чем все закончилось для него…
– Эх, голова садовая! – крякнул сокрушенно Степан. Натуживая голос, переговаривая грохот, шум. – Говорили, елки-моталки: не прикладывайся больше! Нипочем ему! Чем теперь можем помочь? Ну да выберется, чай, и из этой передряги, – тут не глушь какая.
Да, они могли только посочувствовать бедолаге. Не повезло ему.
Солнце, грея, склонилось ниже; оно светило уже с запада – в спины им. С приближением родных, восторженно-узнаваемых мест, где все здорово повыросло, потучнело на взгляд, Антон, вглядываясь ошалело, прикидывал-таки про себя: «А вдруг кто-нибудь из работающих на полях односельчан увидит меня возвращающимся?» Как он хотел этого! Если все по-честному, – еще жила, жила в нем какая-то детская восприимчивость к близким для него событиям. Нелегко уравновесить свои чувства. Но уж и сам не увидел там, где хотел, никого – наверное, потому, что уже завечерело. Жаль ему было, что никого не увидал.
Состав вкатил на переезд Мелихово и стал. Отсюда-то Степан и Антон полегоньку – с поклажей – двинулись по шпалам к станции Ржев-II: Степану нужно было попасть в деревню Слободу, что восточней, Антону – поближе – в свое Ромашино. Пока преодолевали километры, смогли разговориться лучше. Попутчик спросил у Антона, чей же он, малец; Антон сказал, что он – сын Василия Кашина. Имя Кашина звучало в округе из-за его сметки, хозяйственности, обязательности. Но для Антона сейчас оказалось огорчительным признание незнакомого Степана в том, что он не знал его, хотя тоже колхозничал у себя; это уносило прочь в осознании Антоном действительности какой-то детский наив, прежнее лучшее представление о ней, о мире. На станции Ржев-II они обычно-просто распрощались, занятые предстоявшей им дорогой, и каждый из них пошел дальше своим путем. Кое-где Антон присаживался, чтобы отдохнуть; редкие прохожие любопытствуя поглядывали на него. А когда он по привычке давней, сокращая расстояние, вышел заросшими огородами по старой, с довоенных времен, меже, по которой все они, бывало, хаживали, к новой материнской избе с неподпиленными бревнами на углах, то на задворках, будто дожидаясь именно его, стояла мать в простенькой темной одежде, – какая-то сухонькая, и терпеливо-пристально вглядывалась в него, приближавшегося к ней. Пока больше никого из родных он не видел.
– А я-то, сынок, гляжу и думаю: какой это военный идет прямо к нам?.. – сказала она смущенно, когда он совсем подошел. – А это ты, сынок мой… Насовсем?..
«Странно, – подумал он, – вырос я что ли? И мама уже не сразу признает меня. Конечно, сердцем признает, но еще не верит, что окончилось все; ведь ждет она с войны и другого – старшего – сына, а также ждет погибшего мужа – не верит в его смерть. Не случайно вышла вечерком на межу».
– Да, вот я и вернулся домой, мам, – сказал Антон виноватясь, обнимая ее, будто поменьшавшую перед ним.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
I
Язык развязался. Жег румянец щеки.
Сиреневой порой, летучей белой ночью Антон Кашин вел огорчительный разговор с Оленькой прелестной; вдвоем они потерянно кружили и кружили наугад на пересеченье улиц, переулков и колонн, и аллей сквозящих, вдоль каналов и решеток, и мостов, без света фонарей и без теней. В тиши призрачной, полуночной неспешен перестук шагов. Невольно придыхалось на ходу, и сбивался говор. Сердцу не прикажешь ведь: Подожди! Потише! Помолчи! Послушай! Так случилось, что они, как наивные влюбленные, увы, точно заблудились в чувствах собственных; ни он и ни она уж не могли уравнять меж собой любовную близость понимания, взаимность, хотя и пытались еще вырваться из плена недомолвок, объясниться по-разумному друг с другом, избежать бессмысленных обид.
Все, собственно, уже само собой определилось так. Они отнюдь не беспричинно расставались. А именно: Антон почувствовал, что Оленька неудержимо отдалялась от него, таилась и становилась холодно-неласковой к нему. И он со смешанным чувством стыда и тоски испытывал в душе какую-то свою несостоятельность, что ли, в учете обстоятельств, совсем неподвластных и противных для восприятия их разумом. В груди давило что-то плоское, тяжелое… Почти физически.
Да, видимо, это боль запоздалого взросления (не было иного оправдания) нежданно, не спросясь, пришла к ним. И вот уж залетный ангел расставания слышно протрубил для них огорчающе прощально…
И, наверное, оттого, считал Антон, лепились тут слова у них, обоих несчастливцев, как могли, – словно унизительно пустые и позорные, жалкие на слух на просторе величавом. Тем сильней ему хотелось тотчас же все высказать нежней и доверительней своей любимой. Вопреки всему. И не претендуя ни на что особое. Лишь оставаясь в душевном-то ладу с самим собой – под небесной бездной, широко распахнувшейся над ними. Будто настороженной и внимательно ждущей чего-то ясно-вразумительного от всех миллионов пилигримов, снующих повсюду на Земле в поисках радости и утешения. Он домыслил для себя: ведь судьба человеческая, право, носит всех нас неизвестно как, куда и зачем – гонит стайная посредственность; мы почти с пеленок ищем для себя всякую забаву: перво-наперво, разумеется, – что-нибудь попривлекательней и усладительней; мы повсюду шастаем, силы свои, тратя не осмысленно порой, пока силы прут из нас играючи.
Однако верный голос внутренний (на правах сурового, беспристрастного судьи) наставительно-безжалостно подсказывал Антону: «Все теперь, не суетись с сердечностью своей напрасно; видишь, конец молодечеству, тщеславию, всему. Ужо одна печаль нас рассудит и остудит пыл».
«Нет, попятного исхода и не может быть, мое желание мне велит уйти», – читалось и в глазах же Оленьки – чистых, с потаенным всплеском и дрожанием в них светлых живых звездочек.
И с его губ само собою сорвалось, точно веский приговор-признание:
– Ну, должно быть, истина не знает никогда покоя. Что ж.
Моментально же Оленьку прелестно-мило понесло:
– Но скажи-ка мне, мой скучный ворожей, разве не несчастье для меня, студентки, витать в облаках? Пойми ты, наконец, что я ждать чего-то иллюзорного от замужества не могу; я – не какой манекен бездушный, а девушка нормальная, и сразу жить хочу нормальным образом, не быть обязанной кому-то попрошайкой. – Диво дивное! Она, юное создание, впрямь негодовала даже от его неразумения на этот счет.
– Славно балерина разлетелась… И пожалуйста, Свет-Оленька. Отчего ж… Я ведь не пророк святой, не фокусник… Ты извини… Знать, другой – состоятельный, по твоим понятиям, принц – к тебе явился, ждет тебя… Разве же не очевидно это?.. Ну, и пусть!
Она стушевалась, помолчала несколько мгновений. Он определенно угадал.
– Знаю, вижу: не пророк ты, Антоша. Но не прибедняйся ты малым-мало передо мной, по крайней мере. Знаю хорошо…
– Свет-Оленька, да каждому из нас дано судьбу понять, а поднять ее, прости, – удел не каждого. Ни-ни. И без нужды не подопрешь ее. Особенно, если против чужой воли. Верно ведь?
– О, как интересна философия твоя! Излагаешь ее почти в стихотворной форме. Что, готовишься сочинять роман? Поучительный.
– Не суть во мне… Забудь…
– Так свободна ль я теперь? Могу в точности узнать?
– Ты всегда была вольна, дружок. Но в чем? Ты у себя спроси.
– Да от твоих несносных наставлений, верно. Да-да-да! Прощай, Антон: я ухожу сейчас – не провожай, очень я прошу, больше меня.
– Ну, счастливо ж, Оленька, тебе! Не обессудь…
Она глаза прятала.
– Прощай! И не взыщи… Не кляни меня заглазно… – И с поспешностью, полумахнув рукой неловко на прощание, ровно неким легким облачком – в платье васильковым – порхнула перед ним среди стойкой улицы городской. В порывистом характере мелькнула неким миражом, не успел он опомниться, – и вмиг исчезла из виду; улетела навсегда, оставив ему осязаемо щемящую тоску.
Молодчина! Значит, она ему нос утерла девичьей-то независимостью.
С притихлостью стоял Антон один. И окна домов немигающе глазели отовсюду на него, смущая его как бы одним своим присутствием.
– Эй, Ерофей! Аккуратней! Не разлей! – послышалось четко Антону, и он даже вздрогнул.
Нет, не случаен был дан ему сегодняшний сон-предвестник странноватый… Футуристический… Антон доподлинно знал (испытал на себе) то, что наяву все ужасней происходит и может быть; тут же, во сне слоилась какая-то несущественная мишура – скорее профанация неких театрализованных событий. Не редкость, что в повседневном быту, даже благоустроенном, приходится искать защиту от какой-нибудь напасти или чьей-то глупости на всяком повороте по поводу чего-нибудь и без всякого повода; каждый щенок окраса рыжего, желтого и даже серого норовит тебя облаять и тяпнуть побольней за пятку. Ни за что.
Да, свет жесток. Бессовестность страждет насладиться всем – запрета никакого нет; она налетает втемную, не церемонясь. Потому в неравном положении всегда оказывается совестливый, честный человек. У него-то и возлюбленную иль возлюбленного уведут лаской ли, силой ли, сияньем ли злата – уведут на зыбкий лед житейского благополучия, чем многие обделены. Мол, почувствуй себя в отменных счастливчиках-везунчиках, нанесших кому-то недостойному тебя урон немалый. Не зря, по-видимому, Антон ночью увидел нечто нереальное. Какая-то старуха-кикимора кликнула рать римских воинов в доспехах. И те воинственно ринулись – из-за почернелых литых ворот – прямехонько к нему с явным намерением по первости схватить хрупкую девушку, с которой он гулял. Однако, спасаясь от преследователей и отступив, он и его спутница попали в засаду – оказались в совершенно замкнутом неком капитальном форуме (без окон), откуда немыслимо было ни выпрыгнуть, ни выбраться каким-либо иным способом. К счастью, такое лишь снилось, не опасно, мелькнуло догадкой в сонном создании Антона. И еще поэтому он бился (силы у него прибавились) решительно и смело с напавшими и даже с задорным интересом, полностью уверенный в себе.
Между тем опасность возросла. С другой стороны. В самый критический момент схватки с легионерами сзади Антона откуда-то вынырнул ловконастырный малый, всамделишный современный пижон; он, пользуясь неразберихой, стал нагло приставать к спасаемой и досаждал ей тем, что пытался ухватить ее за руки и за платье. Она отбивалась. И Антон покамест очень удачно действовал по сути на два фронта: размахавшись мечом, отражал атаки древних меченосцев и одновременно, оборачиваясь раз за разом, накоротке отгонял от девушки липучего стервятника-пройдоху.
Но неожиданнейшим образом видение и звук в момент кончились неразборчивой темной пустотой, точно пленка в аппарате оборвалась. И свет пропал.
«Так что ж: в людях властвуют стихийные животные инстинкты, бесконтрольные для разума? – будто бы зарассуждал сам с собой Антон. – И отсюда – преступления, междоусобицы и войны? С желанием стереть соперника в порошок? В чем разумном мы продвинулись к исходу двух тысячелетий? И могли ли лишь, примерно, через восемьдесят-сто, если грубо посчитать, поколений? Мизер для истории. Блеф… Нужно научиться лучше себя слышать… Не глушить кровавый какофонией… Что же можем мы, рабы своих страстей?
Неужели с Оленькой я-таки расстанусь вследствие условий?.. Чем же лучше я Ефима, хотя не приемлю его почти коммерческих откровений насчет женщин?»
II
Итак, Антон и Оленька той июньской ноченькой расстались насовсем, словно напоказ и в пику всему свету белому: дескать, нате вам подарочек желанный! Получайте! Радуйтесь! Посудачьте от души! В горле у Антона першило от горечи, сколько он не храбрился, не держался поначалу молодцом в глазах своих; правда такова: она бывает чаще всего горька, нежеланна. Причем он по-дикому не метался, ровно загнанный донельзя дикий зверь; мебель никакую не ломал, сцен не разыгрывал перед своевольной девушкой; дружбу слезно не выклянчивал у нее – понятливо, благородно отступился. Позволь, дескать, милая, откланяться, коли меня не приемлешь больше… Пораздумала дружить.
И сама-то Оленька, должно быть, не думала, не чаяла немедля улететь от него, но взяла и упорхнула-таки легкокрылым беспечным мотыльком.
Свершившееся все же оглушило Кашина. Он, собираясь с духом, огляделся, чтобы попусту не ротозейничать по сторонам. По-прежнему голубились над ним беспредельные небеса. Там высоко лозорели облака и еще носились стрижи в круговерти. Летел белый тополиный пух. «Этакое ведь извечно и достойно полотна, – успел помыслить он художнически, – а я маюсь себе с игрульками – вроде б тщился понапрасну определиться женишком. Печально…»
Тут ему и некстати показалось даже, что вон из-за того потемнелого выступа старинного домины с провислым балконом кто-то незаметный поглядывал за ним, Антоном, с внимательно-застывшим ожиданием, либо любопытством. Некто всемогущий, судьбы охранитель.
– Ну, полный отстой! – почудилось, и негромко сказал кто-то своеобразно.
– И ты все это видел? – полушепотом вопросил Антон, обратясь к небу напрямик. – Слышал? Не молчи!
Однако милосердный бог молчал. Он, вероятно, обдумывал увиденное и услышанное. И нисколько не выдавал сейчас себя. Все было обычно в его божеской манере присутствия-отсутствия. Исключения ни для кого быть не могло.
Что ж, понятны правила игры. Проигравший выбывает. Ум ни дать, ни взять взаймы; пусть и будет то, что будет.
Кашин посмелел:
– Все так, всегда так для нас придумано. Будем по земле ходить. Ведь я денно и нощно помню себя должником перед погибшими и живыми… И прочь неудачи нежеланные!..