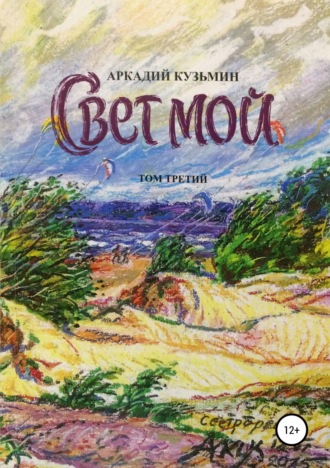
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
– Без паники! Без паники, ребята! – И, негромко насвистывая, старался аккуратно вывести автобус из опасного места.
В эти минуты женщины – Анна Андреевна вместе с розовощекой дочерью Ирой, майор медицинской службы Игнатьева и капитан, стоя в сторонке, как ни в чем не бывало, разговаривали весело.
Антон слышал голос Игнатьевой:
– Внешне каждый может быть очень приятным, симпатичным. Но только глаза выдают какую-то черточку характера. Помню, у нас в школе один учитель – историк был – страшный, просто-напросто безобразный, нос у него расплылся во все лицо, насупленные сросшиеся брови. По-первости, когда он взглядывал, нам, ученикам, страшно становилось; потом, когда весь класс привык к нему, таким чудесным человеком он оказался, с каким чудным, ослепительным взглядом из-под густых бровей! И наоборот: знала я другого мужчину. Был он прекрасно сложен: торс, высокая шея, бицепсы, походка – все есть, на месте, – ну, красавец! Но вот глаза-то у него были непереносимы – рыбьи, и только. И по-рыбьи блестели. И это все портило. Понимаете?..
Удачно вырулил Чохели автобус из кустов, остановил его и пригласил всех снова в салон.
– А что ж с миной будет? – спросил я у Стасюка. – Может, еще минеры взорвут ее? Ведь кто-нибудь и не заметит…
Стасюк прокашлялся.
– Теперь всю землю надо чистить, вычищать от этого добра… Постой-ка, ты куда? Назад! Не тронь!
– Да я хоть траву вокруг нее пригну – открою дуру… – сказал Антон.
– Напугал меня, стервец, – отходчиво проворчал на него Стасюк после.
– Малость знаю, что к чему, – оправдывался Антон. – Уж научен…
Березки, расступаясь и блестя листвой, промельтешили перед окнами автобуса, ветки слышно проскользили по его обшивке, и очень скоро он очутился на открытой накатанной грунтовой дороге. Поездка началась.
Антон испытывал особенное нетерпение: словно на иголках сидел или, точнее, полулежал позади всех, на сложенных матрасах и мешках, занимавших пол-автобуса. Переговариваясь во время движения с Ирой, со все возрастающим волнением следил за дорогой, стараясь определить по всяким признакам, в нужном ли ему направлении они едут – на абрамковский ли тракт… Почему-то он предположил, что наверняка последуют под Вязьму через Ржев, именно по большаку, проходившему близ родной деревни. И в таком заблуждении пребывал сначала, пока с огорчением не обнаружил, что наивно ошибся. Судя по всему, автобус катил по иной – незнакомой ему местности; стало быть, сразу же направились – фактически из-под города Зубцова – южней, по другому большаку, верно, более безопасному для них.
Вечерняя заря, полыхая и медленно угасая из-под барашек неразогнанных облачков, играла над густевшим синью лесом, над холодно мерцавшей речушкой и меж близких коряво-кряжистых переплетений чернеющих стволов и суков деревьев, выбегавших гурьбой либо одиночно навстречу автобусу (Антону иногда мерещилось, что они точно так же, как и люди, могут, если это нужно им, принимать тот или иной образ и даже свободно передвигаться, и уж, конечно, так же поглощено думать о чем-то, подремывая). Тени сгущались, заволакивая все в сказочной задумчивости, таинственности и бесконечной глубине.
Сбился счет времени, и пропало чувство реальности.
Наступавшие сумерки быстро поглощали все вокруг, скрадывалось расстояние; светозамаскированные фары автомобильные почти не выхватывали из темноты ничего, лишь неровную, разбитую всю дорогу. Все в салоне колыхавшегося автобуса уже подремывали, сладко позевывая, а кто и откровенно посапывал. Но Антону еще не спалось, и он все также полулежа на тюках, одеялах и матрацах, по которым помаленьку – под влиянием инерции и их утрамбовки – сползал, почувствовал себя будто даже в одиночестве.
VI
На одной из вынужденных ночных остановок, сблизившись, впритык встали за крытой полуторкой. Снаружи послышался из-за равномерного шума двигателя чей-то хрипловатый густой голос. Дверь автобуса открылась и, всунувшись в нее наполовину, Терещенко, шофер этой полуторки, громче обратился с вопросом:
– Может, кто желает пересесть ко мне? Желающие есть?
Разбуженные пассажиры молчали недовольно, ничего не понимая толком.
– Может, разве что Антон, – сказал кто-то.
– Ну, давай, Антон, дуй ко мне в кабину, а? Место у меня освободилось.
– Да, – обрадовался Антон возможности продолжить путешествие непосредственно в кабине: его как магнитом тянуло в особенности к военным шоферам, людям, причастным к столь благородному и мужественному своему ремеслу, к которому ему тоже хотелось приобщиться. Но с беспокойством он как бы испросил разрешение и совет у своих возможных опекунов, с кем находился в автобусе: – А это можно будет?
– Если только тебе хочется, Антон; ты иди – ты от нас не потеряешься, – спросонок разрешил его сомнения бывалый солдат Стасюк, чтобы побыстрей с этим кончить. – Лезь сюда! Что, пролез?
– Все в порядке. – В момент Антон вполощупью вышел наружу.
Над чутко задремавшей местностью выкатывалась круглая медная луна, светившая призрачно, красноватым светом, что из-за чего он вблизи уже различал черты Терещенко.
– Идем, залезай, – оживленно говорил ему новый покровитель. – Капитан мой, понимаешь, перебрался в кузов – лег на боковуху. А мне одному негоже ехать. Собеседник нужен. – Непонятно, шутил он или нет. – С тобой, глядишь, повеселее станет, так? Ну, забрался? Дверцу хорошо закрыл? Дай проверю…
Прильнув к ветровому стеклу и зорко, как ночница-сова, всматриваясь вперед, Терещенко хватко держал и крутил мускулистыми руками руль и одолевал, где нужно, невеселые разводья российской дороги. И клял ее при случае. Незлобливо. Привычным уже образом. Про себя.
Его полуторка была изрядно изношенной, помятой, латаной не раз: она вместе со своим хозяином, не страхуясь, перебывала уже в многочисленных военных похождениях; в кабине ее пахло бензином, а пообтертое расшатанное сиденье прыгало под Антоном и скрипело разболтанными пружинами. Но она, и груженая, довольно легко преодолевала все препятствия. Служила ему. Слушалась его.
– Бачишь, яка езда? – словно думая о том же, проговорил, не отрывая взгляда от дороги, Терещенко. – Вот дурна.
У Антона ж невольно вырвалось, напротив, с восхищением:
– Вижу. Как же вы – вы все шоферы – ночью водите машины? Я не представляю… Зрение кошачье нужно ведь.
– Не кошачье, а обыкновенное человеческое. Такая уж привычка выработалась в нас, водителях.
– И здоровье нужно. Ведь недосыпаете…
– И к недосыпанию привычны мы. Пока еще молод, еще силы есть. Но война же и не век, поди, продлится? Будет праздник и на нашей улице. А як же… Будет! На гражданке шоферить – крутить баранку в односменку – куда ни шло. Добре дело. Каждый скажет. И я его не променяю уже ни на что. Ни трошки. Руль из рук своих не выпущу, пока жив. Это точно. Везде ты на колесах быстрых колесишь – любо-дорого; мигом туда-сюда скатал. Столько видишь всего! Кругом друзья-товарищи. Ни с чем не сравнишь нашу профессию. Всюду и всегда мы людям нужны. И робишь себе все равно что вольный казак. Себе в удовольствие.
– Понимаю… На совесть. – Антон ему завидовал, его профессии.
– Однако ж в нашем деле нема мелочей. Треба очень тонко применять сноровку и осторожность, где проскочить, а где и уступить – трошки ставить глаз: среди нашего брата тоже есть лихачи. – И он тут же взвился, что ужаленный: – Вон, бачишь, как он пронесся мимо нас, сломя голову. Куда? Пошел вдруг в обгон. Чего он? Чи шальной? Сдурел? Як бык бодучий попер…
Так по-бывалому, рассудительно, незлобливо комментировал – с хрипловатым певучим тембром голоса – Терещенко за рулем, комментировал все, что ни касалось его и разговора с Антоном, текущего, как и дорога ухабистая, медленно, будто в рассрочку. Антон с ним договорились уже до того, что он может, только захоти, также научить его вождению автомобиля.
Диковинно под желтоватым лунным светом белели в отдалении какие-то большие наземные шапки, выросшие здесь, посреди черной взрыхленной земли и зелени, кажется, совсем недавно. Лунный свет увеличивал их размеры. Но постепенно Антон догадался, что это были доты, расставленные с промежутками, ровно стражники.
В эти августовские дни 1943 года, он заметил, между прочим, и по разбитому дотла Ржеву – и тем был поражен – усиленно строились укрепления, амбразуры, доты, оборудовались огневые точки. Верно, на непредвиденный случай: ведь это было все-таки в двухстах километрах от Москвы… В войне, затеянной сильным и жестоким врагом, приходилось очень многое учитывать…
Его еще печалила смерть трех невинных мальчишек от взорвавшейся мины. Он был свидетелем падения немецкого бомбардировщика «Юнкерс», сбитого нашими зенитчиками.
Он в ранний час добежал до околицы снесенной в прах деревни, где – из колодца – армейцы брали воду для кухни. Мелкие красноватые язычки огня лизали брюхо распластавшегося хищника. По-хозяйски двое бойцов, взяв в руки заступы, обкладывали землей чужой металл, – гасили пламя; они будто занимались привычным будничным делом – спасали какое-то общественное добро, что было для них естественно, разумно. Здесь же, среди кустарника, под охраной сидели на траве в какой-то прострации трое немецких летчиков в комбинезонах – они только лупали глазами. Четвертый их летчик, выбросившись из бомбовоза при его падении, не успел раскрыть парашют – и остался лежать бездыханным на российском поле, в двух тысячах километрах от дома своего.
Для чего же продолжает побоище тупой маниакальный враг – гнетет Россию? – Все шныряет над ней по-за облаками…
– Нате вам, приперся сюда брюхатый – и вот напоролся на плюху, – удовлетворенно-твердо проговорил для себя вставший обок Антона красноармеец в летах в бывалой выцветшей гимнастерке.
– Но зачем? – не выдержал Антон. – Здесь у нас бомбить-то уже нечего. Абсолютно. Они в сорок первом все расколошматили. В сорок втором – сорок третьем добавили…
– Да, известно, уж такая чертовская закваска, то есть философия, в голове у фрицев; нужно подавить, поставить нас, русских, на колени, – пояснил красноармеец. – Я учительствовал историком и знаю это очень хорошо. Но мы достаточно научены, чтобы больше не бывать терпимыми. Пусть все знают.
Приказ есть приказ. Только если ты гражданин – собственная совесть должна стучать у тебя в груди. Разве ее-то заслонишь чем-то другим, если ты человек?
VII
После освобождения Ржева, за несколько тихих месяцев, Антон тоже отвык от бомбежек и обстрелов. Теперь среди тарахтенья мотора грузовика неожиданно послышалось вновь насторожившее гуденье самолетов, явно неприятельских; уже забухали где-то недалеко зенитки, там-сям заполыхали вспышки снарядов и сотрясавшие мощью разрывы бомб. И это давно знакомое мерцание рваных вспышек и грохотанье все усиливалось, становилось беспрерывней. И порой – настолько мощным, точно это палили и хотели попасть именно в грузовик. Таким, значит, было приближение военной части к фронту, к опасности; очевидно, они въезжали в самую живую полосу ночной бомбежки, так что Терещенко временами притормаживал автомашину, чтобы не быть разбомбленным случайно, по глубоким, что траншея, колеям большака. У Антона возникло странное впечатление, будто не с ним такое было – что он плыл вместе с Терещенко в кабине по мрачно исполосованному пространству навстречу неизвестности – плыл под раздирающе-оглушающие звуки пальбы и разрывов, перекрывающих гул самолетов и то мерный, то натужный шум мотора полуторки и других встречающихся на большаке автомашин. В какой-то миг он даже потерял ориентировку, и ему определенно показалось, что теперь они развернулись и ехали обратно на север.
Постепенно у него само собой стали смыкаться глаза, несмотря ни на что; глаза его слипались, но он их еще протирал и, зевая все тыкался лицом в переднее стекло и высовывался в боковое окно кабины – надеялся еще увидеть нечто единственное, что заслуживало бы его внимания: не хотел заснуть и тем самым подвести шофера. Но он все же заметил это.
– Что, поуморился, значит? – и предложил участливо: – Иди в кузов, не томись. Заснешь там. – И остановил затем полуторку.
– А вы как же? – растерянно спросил Антон.
– Мне не впервой. Не беспокойся, друг. Идем.
– А там местечко есть?
– Припас. Там только двое. Третьим будешь. – И он будто хмыкнул от особенного удовольствия услужить всем.
– Ну, спасибо, – сказал Антон на радостях, отчасти снимая с души тяжесть своего стыда.
В крытом кузове, куда он залез, спали стойко двое мужчин, лежа на плотных тюках, наложенных примерно вровень с бортами; он присоединился к ним – лег посередине, еще некоторое время вслушиваясь в близкие гремящие разрывы, подкидываемый при езде и раскачиваемый в стороны, как на корабле. И так сладко, оказалось, было торнуться плашмя и свободно вытянуть наконец ноги и погрузиться в желанный сон даже под гул вражеских бомбардировщиков, бабаханье зениток, свист и разрывы бомб – дальние и близкие, под их молниевые всплески, под феерический свет чадящих фонарей, при качке и основательной встряске на перепаханной вяземской дороге. Никто из сослуживцев сейчас, как видно, и не прятался пугливо от сбрасываемых бомб, уже узнав в полной мере, что это такое. Так чего же, спрашивалось, ему, закаленному не меньше любого, он считал, в самом пекле бесчисленных бомбежек – сначала немецких, потом наших и еще добавочно артобстрелов – чего же дурака какого-то валять?..
И, засыпая, только думал: «Интересно, по кому же они молотят так интенсивно? Нагоняют страх. Ведь невзначай чего доброго, и могут зацепить…»
Антона разбудили тут будничные голоса разговаривавших и ощущение полного покоя. Автомашины стояли в тишине. Что такое? Испугался он: «И это сделалось без меня?! Ну, я – соня!» Поспешно сел на вещах, почти упираясь в верх брезентового кузова; но его попутчики, как он увидал уже в свете нового утра, лишь заворачивались во сне, не проснулись: они были с очень крепкими нервами. Осторожно выскользнув из кузова, он нашел, что полуторка и автобус уткнулись под могучей мшистой елью на опушке тенистого и тихого леса, к которому восточней подступало сочное нетронуто-спелое поле. А дальше за ним виднелась деревня. К ней вела отсюда проселочная дорога.
– Ну, теперь я полезу соснуть на место твое, – с улыбкой сказал ему усталый Терещенко, направляясь к кузову. – Выспался?
– Что, привал? – спросил Антон.
– Да, передых.
С детства, сколько Антон ни помнил себя, он никогда днем не спал ни минутки, да и подымался с постели, бывало, по обыкновению ежедневно раным-рано, почти одновременно с матерью, примерно тогда, когда она вставала, доила корову и затапливала печь; тогда изба еще пахла теплым парным запахом, а утром только еще разгоралось и порой крупно блестела невысохшая роса на траве и курился, колыхаясь и расходясь, теплый туман. Поэтому один вид спящего днем человека обычно навевал на Антона скуку. И не потому ли тогда он и в детский сад не пошел, как ни уговаривали его родители и няни, видевшие его каждый день и пристававшие к нему и зазывавшие сюда: тот находился в соседней избе…
– Ну, если тебе, приятель, не хочется, никто тебя и не неволит, – сказал ему как-то сержант Пехлер. – А я вот служил действительную и меня там приучили к дневному сну. Нынче я даже с удовольствием, особенно, когда наломаюсь, принимаю мертвый час. Отчего же не поспать лишний часок, если не в ущерб делу и очень хочется.
Пехлер был одним из спавших еще в кузове полуторки.
Между тем как у Антона возникло радостное настроение от всего, что он переживал, те, кого он увидел, уже бодрствовавшими, – Анна Андреевна, Ира, Стасюк, майор Игнатьева и капитан Шведов, – были какие-то вроде бы обычно-равнодушные ко всему. Они почти и не приветствовали его появление среди них.
Отчего? Может, что-нибудь не так со мной? Он, слегка недоумевая, и сразу же сделал открытие, поразившее его реальностью увиденного. В автобусе везли незнакомого бойца, раненного осколком во время ночной бомбежки, как раз тогда, когда Антон, забравшись в кузовок, уже крепенько спал себе, – и никто из возившихся с раненым не разбудил Антона и не сказал ему об этом ничего! Теперь это чуть расстроило его: все виделось ему вроде б в свете своего благодушного поведения – проявления, что ли, собственной негероичности, неучастия в чем-то очень важном.
– А я все проспал… – признался он, не то хвастаясь, не то винясь, Ире.
Она щурилась под ярким солнцем:
– Ах, мы поспали тоже – под бомбежкой удалось.
– Как же нашли его?
– Кого?
– Ну, бойца.
– Не искали. Солдаты нас остановили с просьбой: нет ли среди нас врача или санитара. Майор Игнатьева его перевязала (у него ранение в руку) и распорядилась взять его с собой. Попутно в госпиталь доставим.
– А-а… Взгляну-ка на него…
– Может, он пить хочет? Чай собрались вскипятить.
Тщедушный, небольшенький, с забинтованной рукой от плеча и торсом боец – совсем еще ребенок – сидел, привалясь, в кресле. Взглянув на Антона, новое для него лицо, он устало улыбнулся, как будто прощая какую-то незначительность и суету. Точно для того, чтобы рассеять у людей обманчивое о себе впечатление, он, назвав себя Виктором, сказал, что ему восемнадцать лет уже и что он участвовал в боях, да вот споткнулся на ровном месте, считай.
Антон было подумал, что рана причиняет ему невыносимую боль; но, оказалось, он хмурился, переживая больше от того, что так глупо опростоволосился на переходе – и попал под осколок то ли бомбы, то ли зенитного снаряда и что вследствие этого теперь будет лежать в каком-нибудь прифронтовом госпитале и поэтому может отстать от своих товарищей. А за него так беспокоился напоследок взводный старшина. Безвыходность вынужденного бездействия, на какое обрекало его это дурацкое ранение, его ужасало. И то, что вокруг него сейчас в автобусе суетились все, помогая ему в недуге, к чему он явно не привык, его совсем обескураживало. Недаром он спрашивал у всех нервно: а скоро ли его вылечат примерно? А найдет ли он после этого свою часть? А далеко ли находится госпиталь, куда его везут? А нельзя ли отпустить его – ведь он ходячий еще и вылечится как-нибудь сам по себе: его же перевязали, дали попить, он отдохнул – чего же еще? Ведь ему крайне нужно скорей попасть вместе с ребятами на фронт, да и только. Одна задачка у него.
Беспокойство раненого предалось Антону, и возникшее было прежнее сострадание к нему, отступило вдруг. Ему даже совестно стало сострадать тому в чем-то. Ведь он, Виктор, мечтал лишь о том, как бы побыстрее залечиться, чтобы снова встать в строй со своими товарищами по оружию и пойти в бой. И не одной его молодостью, как возможной причиной, объяснялось такое его состояние.
– Вон сейчас мы под елью устроим ему постельку, – приговаривал при нем о нем же, ровно о маленьком, нуждавшемся в ласковых руках взрослых, хлопочущий Стасюк, снуя туда-сюда с вещами. – Поможем ему, он перекусит, выспится, тогда другой разговор пойдет. Не правда ли?
Виктор молчал и взглядывал на всех. Точно обреченный.
Поэтому мы с Ирой также старались его успокоить.
– Спасибо! Спасибо! – благодарил он. И прикрывал в утомлении глаза. Потом неожиданно спросил у Антона: – А ты в госпиталь ко мне придешь? – Показалось, будто хотел спросить это именно у Иры.
– Приду, если будем стоять недалеко, – ответил Антон готовно.
– Да не обязательно… Я просто так спросил…
Привычная жизнь для всех, устроивших себе этот временный передых – пережидание в лесу, ничем не нарушалась, даже без привычного для каждого дела.
Приятно тонули голоса и шаги в мягкой прохладной и пахучей тени угрюмо насупленного мшистого леса, в котором преобладали ели с обросшими плесневелыми лишайниками стволами.
Анна Андреевна, налаживая чай, вскипяченный на костре, весело пожаловалась всем, что ей в сегодняшнюю ночь приснилось то, как сибирский кот все хотел ухватить ее за ногу. Что майор Игнатьева немедля и расшифровала уверенно:
– Это оттого, Андреевна, что у тебя, вероятно, не было поступления крови к мозгам.
– А что, разве я уж катастрофично старюсь? – воскликнула та с непридуманным ужасом.
– Не знаю. Наверное, к тому у нас идет, а не в обратную сторону.
– Вот тебе твоя дочка лучше скажет, стареем ли мы…
И опять был смех.
– Над чем вы смеетесь? – разулыбалась, сияя и подходя сюда, к компании, Ира.
Однако Игнатьева уже подошла к Шведову, несколько погрустневшему, осунувшемуся, – он собрался бриться. Глядя прямо в глаза ему своими выпукловатыми карими глазами, она заговорила с ним с веселостью, а он не знал, видимо, что делать, – смотрел и в глаза ей и на ее высокую грудь, и, поддерживая разговор с нею, чувствовал какую-то неловкость… Ему было, видимо, просто грустно отчего-то. Так нередко бывало с людьми на войне. И это, показалось Антону, объясняло все. Но иные взрослые люди, в том числе и Игнатьева, не замечая этого, может быть, старались выведать у него, почему он грустен и тем самым как бы выразить ему сочувствие.
– Игнат Стасович, далеко ли мы уехали за ночь? – спросил Антон у хлопотливого Стасюка.
– Километров этак девяносто проползли по-черепашьи.
Антон присвистнул разочарованно. Хотя все же так далеко от дома еще не заезжал никогда.
Наконец, вылезли на свет – ко всеобщему удовлетворению – заспанно-помятые капитан Ершов, автоначальник, бывший завсегда с очень мирной физиономией и в миролюбивом настроении, и деловой снабженец Пехлер:
– О, не худо: едой уже запахло! Значит, вовремя поспели! И кто-то новенький здесь…
Все перекусили, сев кружком, с консервами, попили чай. А потом фактически слонялись кто где и поделывали что-нибудь – так коротали время. Дневное. Потом, после полудня, как вышла вся принесенная вода питьевая, Ира и Антон направились за ней с бидоном и ведром в деревню, к колодцу. Антону было интересно находиться в обществе с ненарочно восторгавшейся всем виденным Ирой, натурой более, чем он, чувствительной, воспитанной, без всякого жеманства и кокетства.
– Ой, незабудки! – воскликнула она и, живо опустившись к ручейку в канаве, сорвала несколько иссиня-голубых незабудок, словно оттенявших сильнее ее смеющиеся темно-карие глаза. – Странно в природе. Почти как Игнатьева вчера про глаза говорила… Такие красивые, нежные цветы – и растут среди самой грязи, выбирают такие места.
– Потому что они – влаголюбивые, – пояснил Антон.
Воздух был тепл, густ. Уже зацветала кое-где белым и нежным блекло-сиреневым цветом картофельная ботва.
Какой-то сумрачной просторностью и непохожестью на привычную для Антона отличалась местная заросшая деревьями малолюдная деревня: круто возвышались над строениями соломенные крыши, колодец был с длинным журавлем, и встретились им порознь лишь три женщины – обутые в лапти. Одна из них остановилась, озадаченная появлением гостей и, заметно якая, спросила с любопытством, кто же они такие и откуда. Они назвали себя. Она еще больше удивилась. И тут Антон как-то вдруг осознанней задумался над тем, что вплотную началось для него это новое: безвозвратно он уже входил в круг интересов и забот коллектива и учился жить в нем. Каждый час.
Они, радуясь чувству своей молодости, возвращались с водой назад, когда уже на прямом отрезке деревенской дороги, шедшей к месту их привала, увидели, что навстречу им полным ходом катились автобус и полуторка. Поставив ведро и бидон с водой наземь, они замахали руками и закричали: потом побежали вместе с ней, невольно ее расплескивая. Однако на повороте обе автомашины встали: едущие все же поджидали их… Из автобуса даже вышел капитан Шведов и нетерпеливо прокричал:
– Да воду-то вылейте! Не волоките зря!.. Ой-ой!
– Что случилось, товарищ капитан? – Антон и Ира добежали сюда запыхавшиеся.
– Что? Решили дальше ехать. Ну, скорее ж выливайте воду.
– Нет, дайте сначала напиться. – Прямо к ведру, с краю его, приложился, нагнувшись Терещенко. Напился досыта. – Вкусная, черт! Спасибо! – И еще подмигнул им.
За ним напился и вышедший из автобуса Чохели.
– А в бидоне, пожалуй, оставьте, дети, – велела высунувшись в окошко, Анна Андреевна. – Отлейте до половины.
Еще не завечерело, когда по пути доставили Виктора в госпиталь: собственно, спешили из-за него. Две автомашины, уже не теряя одна другую из виду, резво разбежались среди других военных грузовиков по выпрямившемуся большаку, окаймленному с востока лесным лиственным урочищем с деревьями средней величины, когда впереди справа показался с веточкой в руках щеголеватый, улыбавшийся ефрейтор-связист Аистов.
– Вон, видишь, наш неизменный женишок вышел на свиданьице с нами, – пошутила для дочери Анна Андреевна.
Он молодо-весело поздоровался со всеми, только полуторка и автобус притормозили возле него, у едва приметной развилки, уводящей в урочище, впрыгнул на подножку полуторки и стал указывать направление дальнейшей езды; автомашины свернули влево, затем вправо, проехали по лесу примерно с километр, прежде чем остановились окончательно – завершили переезд.
«Что, и всех-то делов? Разместимся теперь в этом неприветливом лесу? Чем же он лучше только что покинутого ими? Чему же все радовались накануне?» И видел Антон точно, что и все будто бы с недоверием отнеслись к новому местоположению, где всем предстояло по-новому обустраиваться на неизвестно какой срок.
Где-то слышно погромыхивало.
VIII
В четырнадцать лет, откровенно признаться, Антона очень восхитил американский фильм «Очарован тобой», такой невоенный, развлекательный для просмотра в августе 1943 года. Влюбившийся герой фильма с завидной легкостью и изяществом делал с очаровательной девушки карандашный набросок, вместе с ней бил посуду, барахтался в пруду, потом пел одну песенку веселую, причем ехал в повозке на сене, болтая ногами, и другую – серьезную – объяснение в любви. Кинопередвижкой демонстрировался этот фильм в большой палатке, только что устроились лагерем западней Вязьмы, под густым зеленым пологом – в целях маскировки (из-за близости к фронту) – олешника и осинника.
Назавтра вечером, на новом месте, Антон в жилой одноматчевой палатке доустраивал свою кровать – ивовыми прутьями привязывал (ни единого гвоздя не имелось) нетолстые ольховые стволы, настланные на перекладины, что держались в свою очередь на вбитых в землю колышках. Когда в палатку зашел милостиво разговорчивый усатый сержант Вилкин, друг молодежи, и сам молодой – еще двадцативосьмилетний: но казавшийся Антону степенно бывалым, независимым ни от кого, и спросил:
– Что, справился – сладил сам от начала до конца?
– Отчего ж не справиться? – удивился Антон вопросу. – Это ведь пустяк совсем.
– Вполне, – поддержал сержант, оживляясь. – Тут особенный какой-нибудь – скажем, вокальный – дар и не требуется вовсе. Ни к чему. Не арии же исполнять и скакать на ножке одной… Кстати, тебе-то понравился вчерашний кинофильм? Хорош?
– По-моему, он всем понравился. – В смущении воспитанник тоже присел на кровать.
Вилкин вздохнул:
– Да, мы очень уже соскучились по миру. Но в жизни, ты запомни, все равно нет ничего подобного, легкого, что давалось бы людям запросто… Стоит только захотеть… Ничего похожего… Обольщаться нечего… Для примера я могу рассказать одну близкую мне историю, если хочешь… Ну, послушаешь?
– Конечно, я хочу. – Антона очень привлекало все необычное в людях или случившееся с ними.
– Только давай, Антон, пройдем куда-нибудь подальше, чтобы нам не помешали, а? – встав, сказал сержант. И он тоже встал и пошел рядом с ним. Напрямик по леску, еще светлому, несумеречному.
Вилкин начал сразу на ходу:
– Родом я из-под Владимира, а смолоду жил по протекции дяди, оторвавшись от родных (поссорился с деспотом-отцом), в Москве; жил нетрудно, но и все-таки нелегко, потому что малость свихнулся (да поздновато) на инженерно-техническом поприще. – Он явно недоговаривал чего-то, и Антон не переспрашивал его и не уточнял ничего. – Хотя из меня не ахти какой новатор мог получиться, зато оторвался от крестьянствования; впитывал вершки городской культуры и гордился, что научился быстро молоть языком, да выгодно выглядеть, как молодой человек.
В деревне вся моя родня уже колхозничала, и я наезжал сюда – по первости меня тянуло сильно: все не мог отвыкнуть от приволья природы и ласки материнской. Это должен знать ты по себе, Антон. Сестры мои невестились, бегали по гулянкам, и я с ними за компанию нет-нет и показывался там, хотя к танцам и певучим гуляночным страданиям был абсолютно равнодушен почему-то. Но в последний раз бес все-таки попутал меня, свихнутого балбеса.
Старшая сестра моя, Маша, как водится, подружилась – и потому и я познакомился – с молодой помощницей агронома. Было такое опытное хозяйство, а возглавлял его неловкий и оттого краснеющий немолодой Фома Кузьмич. Значит, как-то июльским вечером летящей походкой шел я куда-то мимо изб, да и увидал ее, Лиду, она вместе с этим агрономом, в доме кого и жила, убирала сено во двор – и я ввязался ей помочь. Так мы втроем сначала весело убирали под крышу свежее сено, сваленное у двора, а потом с неменьшей веселостью пили чай в добротном пятистенном агрономовском доме. Собственно, чаевничали уже впятером. Угощала нас – пирожками да печеньем своего приготовления – скучливая Зинаида Андреевна, вторая жена бездетного Фомы Кузьмича; она удивительно походила всем существом своим на убежденную монахиню, – была вечно неприступно строгая и в мыслях, и в одежде. И еще присутствовала, но точно отбывая некую повинность, приехавшая погостить ее дочь Валентина, студентка, крупная (в отличие от нее) и пышноволосая. Она-то держалась отчужденно, даже нелюдимо – игнорировала не только отчима, но и всех присутствующих, словно все отравляли ей само существование. Однако и за столом я был неуемно и безбоязненно говорлив и, балагуря как иногда, веселил всех. Это свойство приходило ко мне тогда, когда мне становилось особенно легко, радостно.
Вилкин вывел Антона к тихой полноводной, извивавшейся в зарослях речке, за которой открывались кусочки простора, и, спустившись под деревца, на пахучую траву, продолжал:
– Мне просто нравилась (без всяких задних мыслей) милая, по-домашнему уютная Лида с ее загадочной полуулыбкой, ее кокетливо-женственно косящий взгляд; мне нравились ее горловой голос, ее прелестная выточенная шея, ее прелестные гибкие руки; мне нравилось, наконец, быть рядом с ней и видеть ее, ее разрумянившееся лицо и ласково и благодарно блестевшие глаза. В таком полувлюбленном к ней состоянии я был в этот вечер. К тому же, надо сказать, по-молодости я считал, что уже многое узнал из книг, из кино и от людей. И ведь многое удавалось мне, чего греха таить, сравнительно легко. Может быть, поэтому я и привык уже смотреть на все, в том числе и на сложные человеческие взаимоотношения, с некоей покровительственной легкостью: мне казалось, что люди сами порой необдуманно усложняют себе жизнь, усложняют безо всякой на то необходимости.





