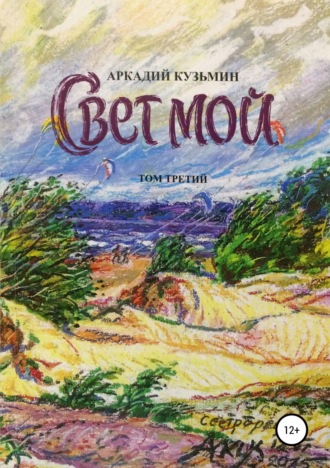
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
Все было здорово. Однако, его шатало и заносило, точно пьяного; он шел сторожко, медленно, держа равновесие, чтобы, главное, не упасть. Припекало солнце, хотелось пить. И, присаживаясь поминутно на груды битых кирпичей, развалины, он отдыхал – собирался с силами; и недоумевали прохожие немецкие жители, встречавшиеся ему на улице.
Антон знал примерно направление дороги. Дважды бывал посыльным в этом госпитале и еще раза два приходил сюда на примерку сапог, которые ему ладил госпитальный сапожник – добрый солдатик. И не раз подбирал его какой-нибудь шофер, остановив автомашину:
– Садись – подвезу.
– Извините, я не знаю вас, – смущался он.
– Зато я знаю тебя, малый. Давай ко мне!
– Спасибо. Дошел бы и так, – благодарил он незнакомцев за доброе участие к нему.
Сегодня же, когда он трудно добирался обратно в часть, тем не менее, постоянно чувствуя за плечами, как нагоняли его автомашины, но не оглядываясь, интуитивно поджимался весь: не погони какой он боялся, а хотелось ему именно пешим преодолеть все расстояние, чтобы самому себе доказать что-то важное и убедиться в правильности сделанного, чтобы для пущей убедительности потом сказать Игнатьевой, что сам ведь дошел в часть – ничего же не случилось с ним…
Назавтра начальница госпиталя, майор, славнейшая женщина с веселым голосом, приехав в Управление, подсмеивалась над ним, повинившимся перед ней:
– А мы-то, право, обыскались – ну, куда девался больной?..
Все мало-помалу стало на свои места.
Антон как-то незаметно выздоровел и так – без врачебной помощи.
XXIII
– Давай, юн-друг, по-быстрому дуй к командиру Ратницкому, – сказал сержант Коржев Кашину, едва он вернулся в помещение отдела. – Зовет тебя – только что посыльный был. Давай!
– О, я мигом сейчас… – заспешил Антон, волнуясь. – Нужно приодеться… Это же, наверное, по просьбе моей… Вот узнаю…
Наступивший мир, который застал управленцев-медиков в немецком городке Пренцлау, нес с собой счастливое ожидание для всех всего. В том числе и для Кашина, воспитанника. Он не хотел больше зря упускать время – хотел учиться, главное, верно избранной профессии – этому уж ничто, кажется, не мешало; он мечтал осуществить задуманное, чувствуя моральную поддержку сослуживцев, принявших участие в его судьбе. И, как по-хорошему советовал ему капитан Шаташинский, парторг, ставший почти его опекуном негласным, обратиться лично к подполковнику Ратницкому – он мог сделать нечто большее, чем другие, для него. Попытаться точно стоило. Антон, набравшись духу, пришел к командиру с необычной, однако, просьбой – о том, чтобы если возможно, послать его с направлением на учебу в Москву, где, как говорили сведущие лица, есть специальные художественные школы, дающие и все образование. Ратницкий благорасположенный ко всем подчиненным, по-серьезному выслушал Антона и сказал, что вскорости, возможно, здесь, у него, будет генерал-лейтенант, командующий 31-й армией и что тогда он вызовет его, Антона, с соответствующим ходатайством. Мол, есть возможность и самолетом с оказией отправить в Москву… Ответ его очень ободрил Антона.
И вот этот сейчасный вызов… Что сулит?..
Антон в чистой форме вошел в белый одноэтажный особняк. Постучал и открыл белую застекленную дверь.
И как же был удивлен увиденным: крупный полнотелый подполковник в белой рубашке (было по-летнему тепло, даже жарко) сидел в светлице за круглым столом в окружении молоденьких военных медичек-граций, которые явно служили в госпиталях. Их было более трех особ. Они пили с вареньем чай. И сияли лицами как-то особенно.
– Товарищ подполковник, по Вашему приказанию прибыл… – пытался Антон доложить о себе. Но тот остановил его и с весело-приказывающим тоном показал на свободный стул около стола:
– Ты сюда, сюда садись! Знакомьтесь, девушки, юный художник, портреты маршалов пишет. Служит, как все. С нами прослужил два года. Начал, считай, из-под Москвы.
«Все: пропал позорно! – упал Антон духом. – Для чего он, командир, любезный, компанейский, вдруг выставил меня, не отличавшегося бойкостью на людях, на эти девичьи смотрины… Он, что же, счел нужным просто похвастаться мной, будто редкостью какой и тем развлечь красавиц?» Антон тотчас решил, что он по какому-то недоразумению попал в сей девишник, т.е. совсем не по назначению, ошибочно; ему тем более стало не по себе и оттого, что тотчас океан девичьих глаз вперились в него с повышенным и приветливым вниманием, как в редкое какое существо, чего он явно не заслуживал. Ведь не герой какой. А главное, не был столь раскованно-общительным в незнакомом обществе людей, смущавших его. Так как сейчас был не среди простых солдат, которые не разглядывали его пристально так, с любопытством и с которыми он всегда знал, о чем поговорить.
Сам-то Ратницкий не терялся и этой живой цветочной клумбе – вел себя совершенно свободно, естественно. Он басовито кликнул Аннушке – Анне Андреевне. И та, тотчас явившись, в легком платье, вся сиявшая, довольная, знать своей ролью угощающей, поставила перед Антоном блюдце со свеже ароматнейшим янтарно-клубничным вареньем и чашку с чаем. Она сегодня собственноручно приготовила варенье из первых плодов поспевшей клубники.
Сперва почти страх охватил, сковал Антона: уж куда б ни шло – сама ягоды, сорванные с грядки, – съесть их можно и приятно; а это сладкое до приторности варенье – он не мог его терпеть, как не любил вообще что-либо сладкое.
– Ой, вы много мне, Анна Андреевна, прошу… – взмолился он с отчаянием. – По сладостям с детства не страдал…
Да, с вареньем вышло в общем-то пресквернейшим образом: для Антона было бы непростительно не съесть угощения – это значило обидеть доброго хозяина в присутствии прелестнейших медичек-гостей, которые с живейшим интересом расспрашивали его, Антона, обо всем, успев расправиться с угощением. Они не могли сдержать в себе понимающих улыбок, глядя на него, враз поскучневшего и виноватого, оттого они еще больше оживились, заговорили наперебой. А подполковник невозмутимо парировал известной готовой формулой:
– Учти: не съешь – за шиворот… Давай, не подкачай… – И подмигнул еще.
И уж тут, к счастью, враз пришло к Антону чувство равновесия какого-то душевного.
– А-а, чего там… церемониться! – Махнул он рукой. – Разве не мужчина я, что отнекиваюсь… – После чего взял и скоренько одолел все варенье. – Уф!
И скованность в нем, он чувствовал, прошла.
Гостьи уже прыскали со смеху. Но, хотя затем он нечаянно и освоился в таком женском обществе, его уже мало волновало все остальное – что все продолжали учтиво-вежливо расспрашивать о его дальнейших планах. И вскоре подполковник отпустил его, определенно пообещав:
– Ты жди. Насчет своего ученья. Я еще позову тебя…
Антон опять ждал очередного вызова. А этот вспоминал всегда с улыбкой в душе. От радости юности и радости наступивших мирных дней.
XXIV
Впоследствии Анна Андреевна при встрече с Кашиным живо, дружески смеясь, вспоминала то, как командир в приказном почти порядке потчевал его свежим послевоенным клубничным вареньем; она при этом говорила, что, видно, все толстяки – лакомки известные и добрые на угощение. Да, она всегда его боготворила – за его человечность, жизнелюбие. Вместе-то они провоевали ведь три страшно длинных года, которые вовек не позабыть. К сожалению, с отъездом Кашина из Германии на Родину все сложилось иначе, чем ему по наивной простоте думалось с самого начала, когда он говорил об этом с Ратницким, после чего и был приглашен им на чаепитие с клубникой. Требовательно-строгий и также душевно-щедрый на отзывчивость, заинтересованный в понимании настроя подчиненных, он поддерживал Кашина и в том, что, может быть, по наитию взбрело ему в голову, и хотел сделать все зависящее от него – на пользу ему, воспитаннику. Но вот не успел. Вскоре изменилось важное условие: Ратницкого отозвала Москва (очевидно послала на Дальний Восток), а вместо него назначили подполковника Дыхне, первого его заместителя, находившегося до того (до поры – до времени) как бы в тени. Стиль же начальствования (что существенно) у спокойно-разумного Дыхне был иным – суше, незаметней, что ли; он, не очень-то склонный к каким-либо служебным инициативам, не стал бы осложнять себе жизнь чем-нибудь сомнительным в собственных глазах, притом в начале-то своей командирской деятельности, доставшейся ему в наследство на короткий, вероятно, срок. И Антон, знавший его такой характер, – ему нередко доводилось близко сталкиваться с ним по делам, – уже не мог обратиться к нему запросто. Не посмел. Также оттого, что тот проявлял иногда непонятную нетерпимость. Так, недавно он, выйдя на лестничную площадку здания, где поставили пианино, и застав его за ним в мертвый, по его понятию, час, выругал за то, что он пробовал играть и тем самым мешал ему и его миловидной жене, старшему лейтенанту, спать. Антон, конечно, был виноват и чувствовал свою вину, но был все-таки обескуражен его неоправданным выговором. Смутил его и замполит, майор Голубцов, самолично спросивший как-то в коридоре о его дальнейших творческих планах; когда он вновь подтвердил – уже перед ним – свое ходатайство о направлении в какую-нибудь художественную школу, он так и сказал – с некоторым холодком:
– Зайди как-нибудь. Мы обсудим. Что ж ты на ходу разговор затеял? А, впрочем, погоди… Про то, что обещал тебе прежний командир, – я не знаю. Теперь ведь новый. Обратись к нему. Сам знаешь, что сейчас никто персонально нами не будет заниматься; подождем – увидим, что-то должно быть в смысле демобилизации солдат. Тогда… Порядок есть порядок. Особенно армейский…
– Но тогда-то разрешите снова вам напомнить? – спросил Антон, придерживая дыхание: еще цеплялся за какую-то возможность в смысле разговора.
– Да-да, пожалуй. Заходи.
И всё. Больше ничего. С тем и разошлись.
А уж был июль сорок пятого – два с половиной месяца прошло со дня победы над Германией; неизвестность относительно дальнейшей судьбы не могла не беспокоить Антона, так как близилась осень, то есть подходило время начала нового учебного года. И поскольку его решение ехать домой, чтобы, наконец, учиться, начиная с шестого класса, было твердым, неизменным да за него хлопотали старший лейтенант Шаташинский, парторг, и майор Рисс, начальник третьего отдела, – было решено демобилизовать его вместе с объявленным советским правительством первой очередью демобилизуемых воинов старших возрастов.
Почему-то в последние два дня, накануне его отбытия, как бывает порой, закружилась самая настоящая карусель с его сборами, печатанием нужных справок, обходным листком, отчетом об обмундировании, получением пайка и т.п.; ему было как-никак грустно расставаться со всеми, кто любил его, видел в нем сына, товарища; но все, завидуя ему и любовно напутствуя, давали напоследок всевозможные житейские и практические советы.
Заглядывали в самые глаза, будто удостоверяясь лучше, что это именно он:
– Ну, чуб-то у тебя!.. Подстричься вроде бы не мешало, а?
Обнаруживали:
– А ты маленько вырос, брат! Заметно…
Шаташинский, знанию которого Антон очень доверял, внушал ему (и солдат-художник Тамонов подтвердил), что для того, чтобы получить образование художника, нужно непременно попасть в Москву. Там – отделы народного образования. Они могут направить именно в специальную для этого школу. А сержант Коржев не преминул добавить, что только не нужно там ротозействовать. И знающе присовокупил к месту поговорку:
– Помни: Москва слезам не верит.
Улыбнулся Антон тому. Уже слышал это выражение расхожее.
Как-то сложится все дальше? Что греха таить: ему было как-то боязно, но и радостно.
XXV
23 июля всех отъезжающих, – Кашина и трех малознакомых ему ветеранов-солдат, появившихся в Управлении на днях, – пригласили на небольшой прощальный ужин. Спускаясь на первый этаж, в столовую, Антон на лестничной площадке по обыкновению дотронулся пальцами до клавиш еще стоявшего здесь неуместно пианино, и оно издало неожиданно тихий жалостно-расстроенный звук, который очень близко коснулся его сердца. Отчего? Отчего же так устроено на свете, что нельзя соединить между собой все хорошее и хороших, близких людей и что нужно – приходит такой день – выбирать что-то другое, чтобы дальше жить? Будто что диктует это, не считаясь ни с чем, ни с какими чувствами. Что, великая необходимость только?
Словно какой именинник, пришедший на собственное торжество, подсел Антон к столу, скромно накрытому на несколько персон; то же самое, по-видимому, и чувствовали рядом с ним сидящие ветераны (без больших наград), кого сюда собрали, этим самым выделив их пока из всех солдат. Как же: ведь на этом ужине присутствовали от начальства провожатые (все честь по чести) – майор Рисс, парторг Шаташинский и также старшина Юхниченко. Так сказать, была официальная часть. И, конечно, было уж официальное напутствие, произнесенное с волнением майором с самыми добрыми пожеланиями всем. Он поблагодарил за трудную службу армейскую, за то, что исполнили свой долг перед Родиной. Затем попросил бывалых солдат беречь, не обижать Антона, младшенького, в дороге. Обычные его слова, внезапно с хрипотцой произнесенные, звучали теперь особенно трогательно, отчего Антон заерзал на стуле. Сильнее оттого растроганный предстоящим – по-существу сегодняшним – расставанием с людьми, с кем вместе прослужил больше двух лет и кто служил ему примером, постоянной подмогой и надеждой; в ответ Антон тоже, лепеча, что-то обещал, просил не беспокоиться за него – он не подведет; он настолько уже уверился в том, что все, что теперь ни делалось, делалось к лучшему для него. И он радовался оттого, что скоро вступал совсем самостоятельно, по-взрослому на путь, который вполне добровольно, с ответственностью избирал, нисколько не колеблясь, не жалея ни о чем. Все бесповоротно решалось для него, и горевать не приходилось, несмотря на нежеланное расставание с друзьями. Но что делать? Ведь оно-то все равно должно было состояться когда-нибудь. Иного и быть не могло, как понимал; лучше раньше – не позже.
Вскорости майор и старший лейтенант, исполнив свою напутственную миссию за столом, ушли. Свободней потекло привычно знакомое застолье. Антона сближал разговор с новыми попутчиками, и он с жадностью слушал их и разглядывал их вблизи, их лица – старался узнать-открыть то, чем они столь замечательны или занимательны. Безыскусной простотой своей. Двое-то – щуплый и смирный Кочкин и шумливый красноватый, кажется, Солдатов, – точно были такие: попроще, покорявей по виду, по выправке, по говору, в обмызганной форме. Своим общением они не могли составить компанию третьему. А третий, демобилизующийся вместе с ними, немногословный ясноглазый и крепкого сложения москвич, сержант Миронов, будто уже примелькавшийся Антону своим крупным лицом и внимательностью (он вроде б заведовал каким-то материальным госпитальным складом), тоже был прост во всем, но выделялся неким благородным степенством (и держался все-таки несколько особняком, словно оттого, чтобы не растратить свои душевные силы перед близкой встречей с родными). И тут, помнится, очень своеобразно начал выражать веселье по случаю своей демобилизации и скорого возвращения домой к мирной работе общительный Солдатов, который тотчас понравился Антону открытостью. Воодушевившись и откровенно ребячась (в возрасте!) он так и порывался что-то показать присутствующим; встав из-за стола и привлекши тем к себе внимание, пыхтя и работая туда-сюда руками с узловатыми пальцами и также ногами, классно изобразил начало хода и постепенного набирания скорости железнодорожным локомотивом; причем он столь удачно имитировал подобное, особенно звуками, точно всю жизнь проработал за кулисами театра и импровизатором различных сценических звуков. Наверное, ему сейчас это сильно нравилось – изображать идущий поезд.
Однако удачно продемонстрированный им фокус, не более того, перестал казаться интересным, только Солдатов, как заводной, принялся повторять его, наигрывая его друзьям-сослуживцам Антона, пришедшим попрощаться с ним. И он стал уж следить за ним бдительно, чтобы тот не нагрузился шибко, а скорее проспался.
И хуже всего было то, что сержант Коржев, напарник Кашина по работе, сообщил ему осведомленно за столом:
– Учти, замполит на тебя очень обиделся.
– Майор Голубцов? За что?
– Как же, говорит, что ты якобы всю стенку в клубе оголил: свои портреты, что рисовал, посымал. Чуешь, друг?
– Да, слушай, ничего похожего: взял лишь один поздний для того, чтобы было что показать при поступлении в художественную школу.
– Он сказал, что ты мог бы и еще что-нибудь легко нарисовать, если есть талант. Для себя-то…
– Я и рисовал было для себя портрет. А потом вывесил, как упросили все меня… Но я и не знал о своем этом отъезде – времени осталось, право, мало. Да и неизвестно: будет ли теперь?
Странный все-таки был Голубцов. Вроде бы по должности политработника, какую он занимал в части, ему полагалось знать военнослужащих, как самого себя. Между тем, когда Антон недавно обратился к нему за помощью, он оказался незнающим и незаинтересованным лицом в такой ситуации; он был вообще в стороне, – даже не знал подробней истории его появления в военной части. Нет, он никогда не сделал ему ничего плохого; только был крайне сух, мелочен, придирчив, казалось, не только по отношению к нему.
Антон сам очень переживал все это, факт, – что неверно восприняли сделанное им и придали тому иное значение. Есть ли выход тут? Он ломал голову над этим и ничего лучше не придумал, как попросить Тамонова, художника, выручить: нарисовать взамен тоже портрет маршала, – не хотел, чтобы потом говорили плохо о нем.
– Странно! И он заметил-таки что одного портрета не стало? Там же несколько моих…
– Да, спросил, почему опустела стенка? Что такое? говорит: дескать, взял имущество общественное… Непорядок.
– Во, как! Выходит, почти воровство? – Антон как на иголках сидел.
Ну, час от часу нелегче! Нелепые выдумки… Жаль – поздний час для того, чтобы пойти к замполиту и хотя бы объясниться на этот счет с ним.
– Ай, – Коржев махнул рукой, – ты, Антон, не думай о том, не волнуйся зря! Езжай себе спокойно. Нам, верно, тоже недолго предстоит загорать здесь в тепличных условиях, – вот бабки в штабах подобьют – и расформируют нас, увидишь. Что же нам еще – цветочки с умилением собирать, как собирает их старшина Юхниченко?
И Антон с сержантом засмеялись, представив себе то.
И все же неприятный осадок оставило на душе у Антона это недоразумение. Да прибавил ему несказанно хлопот побойчевший Солдатов, который принес откуда-то полное ведро пива, пил его и, выступая неугомонно, все проделывал уже для себя самого упражнение с отходом под парами нагруженного локомотива. Не успокоился он даже в полночь, уложенный в постель: активно противился он сему и порывался к пиву и друзьям. Так что пришлось уволочь ведро с этой жидкостью в отдел к Коржеву. Как Антон убедился лишний раз, взрослые люди вполне сознательно любят, когда их ублажают как-нибудь и чересчур возятся с ними другие; они бесподобно изображают из себя больных, усталых, капризных, даже пьяных, – лишь бы кто заботился о них, сочувствовал им. Особенно, если публика есть на месте. Почему же эти взрослые, порой и не пьяные вовсе и не такие уж немощные на самом деле, как малые дети ведут себя – нужно столько нянчится с ними? Знают прекрасно, что их не бросят? Пожалеют? И ведь совсем здоровые чаще страдают подобной неизлечимой болезнью.
XVI
Узнав, что отправление демобилизуемых солдат из части назначено на завтрашние четыре утра, Коржев предупредил Антона:
– Ты обязательно разбуди меня – я помогу. И провожу.
– И я тоже, – заявил, сверкнув черными глазами, Сторошук.
– Ой, что я разве чемодан не донесу до кузова? – сказал Антон. – Все у меня в готовности…
– Нет-нет, разбуди-ка нас, мы говорим… Пожалуйста!
– Ладно, вы только не забудьте попросить Тамонова, когда тот вернется, нарисовать портрет маршала – взамен тому, который я увожу…
И вот вновь узнал в себе чувство особое, что словно рдело: раным-рано ты уже бодрствуешь весь, а все лежебоки (кто ж они?) еще беспробудно спят и видят розовые сны предрассветные. Они же просыпают – сожалеешь – такое волшебство в природе, которое возможно не увидят никогда. Сегодня, правда, не было того; пасмурнело утро, и чуть-чуть кропил мелкий дождик.
По-тихому одевшись и переступая по полу, чтобы ненароком не поднять с постелей сладко спящих Коржева и Сторошука, Кашин спустился с чемоданом на улицу, к ждавшему крытому брезентом грузовику. К нему вышли, собрались с вещами и трое вчерашних невыспавшихся солдат. Разговаривали хрипловато. Как водится, отъезд задерживался – из-за сопровождающего. Тем временем из подъезда вышагнули заспанные Коржев и Сторошук. Подойдя к отъезжающим, протянули на прощанье руки. Где-то на втором этаже хлопнула оконная створка, и кто-то прокричал им что-то, прощаясь тоже.
– Ну, идите, досыпать; все: мы залезаем. До свиданья! – И Антон, дрожа, как от озноба, от предстоявшей скоро неизвестности, улыбаясь провожающим, шутил: – Вымокнете ведь… Простудитесь…
Посильней заморосило. Включен мотор. В квадрат из-под брезента Антону виден мокрый, блестящий булыжник, строения в духе средневековых и жмущихся в дверях друзей, махавших им руками. Слышен отчетливо гудок паровоза, перестук колес вагонов… То слышал Антон в далеком сорок первом году… В видимом им квадрате все, качаясь, замельтешило, стало уплывать – все быстрей и быстрей понеслась автомашина – и своды аллей от придорожных деревьев слились в один зеленый тоннель.
Затихли все. Действительность завораживала.
На сборном демобилизационном пункте, куда их быстро довезли, наготове ждал состав прихорошенных теплушек; возле них и в них самих уже роилась, сновала, шумела, радовалась, плясала и пела масса собравшихся солдат. Кочкин, Солдатов и Кашин тоже поднялись в чистую теплушку, примостились к нарам – все вчетвером; немалая честь находиться среди бывалых людей, причастных к победному подвигу. Но нужно оглядеться, чтобы освоиться лучше.
День разгуливался вроде. Пока укомплектовывался эшелон и тянулось время, кто-то встречаясь или знакомясь и отыскивая своих земляков, менял вагон. Кочкин и Солдатов тоже перешли в другой. К удивлению, здоровались и с Кашиным знавшие его – из госпиталей. Так, вдруг поднимаясь в теплушку и просияв, кивнула Кашину русая, бледнолицая и тихая сержант-медик, Аня, в сапожках с желтыми отворотами, – она как-то бывала в штабе Управления, видел он ее. Подав ей руку, он помог ей зайти и внести вещи в вагон. Приткнулась она на краешке нар, молоденькая, ладная собой, но чужая в мужском обществе шумливом; сидела задумчиво – какая-то недоступно-странная, непонятная даже Кашину, провидящему, жила своей тихо-замкнутой жизнью. Несмотря ни на что. Однако не прогоняла Антона – видно, держала возле себя как спасительный сейчас заслон от каких-нибудь случайностей. Склонна была слушать его, говорить с ним о том-о сем серьезном. Среди галдежа и веселья окружающих. Тем естественней показалось ему его желание в том, что он догадался быть теперь ее понимающим без слов и бережным союзником – ведь наступала для них пора большой жизни. Сидя на ящике, перед Аней, он смотрел вверх – на ее тонкое с грустинкой лицо – и будущее так манило его! Оно было совсем рядом. Совсем взрослое. Ему казалось: он-то вполне умел разговаривать по-взрослому…
Потом это кончилось счастливо. Выяснилось: дальше женский вагон выделен, и Аня заторопилась туда, обрадованная.
– Ого, с каким ты провожатым! О, голубоглазый мальчик! – отметили, высовываясь, весело-удалые военные девчата в том вагоне, куда Антон поднес Анин чемодан, помогая ей, и ввели его в еще большее смущение: – Такой юный кавалер, что надо! Что, ты также едешь домой? Куда? Нам по пути? Не скажешь?
Нет, он вежливо ответил то, что нашел нужным сказать. Но поскорей – едва успела Аня его поблагодарить – повернул назад. Подальше от расспросов. Здесь его не выпускал из-под зорких серых глаз своих сержант Миронов, словно он негласно выполнял наказ майора Рисса.
До чего ж ему было неожиданно увидеть близко к полудню и самого майора, а с ним замполита Голубцова и другое начальство, приехавшее сюда, понятно, инспекцией с целью проверки состояния дел по отправке воинов. Рисс первым заметил – позвал Антона и, как всегда, весело поинтересовался, как чувствует он себя; Антон доложил, что ему хорошо – доволен. Чувствовал и тут его отеческую заботу, внимание, – не был одинок.
И уже перевел взгляд, храбрея, на умно-любопытствующие глаза замполита:
– Товарищ майор, мне сказали, что вы недовольны тем, что я увожу один нарисованный портрет. Но, во-первых, я и готовил его себе для этого по вечерам, только попросили друзья вывесить на время… Верно…
– А, что сейчас об этом?! – Голубцов досадливо поморщился. – Ты мог бы предупредить меня… Дал знать…
– Вот, извините, не успел… А, во-вторых, я просил: Тамонов должен сделать…
– Ну, не будем… Считай: все в порядке. До свиданья! – Голубцов пожал ему руку. За ним – Рисс:
– Давай, давай, Антон! Живи счастливо! Привет от всех!
И опять Антон взволновался. Объяснение ему не помогло. Как же иногда умеют люди – даже умные люди – создать из ничего (это надо же суметь) какие-то нелепости, повод для придирки; этак же нельзя жить нормально, не то, что счастливо. Успокоился он лишь тогда, когда им, накормленным, сытым, показали под обширным двускатным навесом барака развлекательный американский фильм о похождениях шпиона. Фильм почти ослепил Антона присутствием в нем реального и правдоподобного.
Солнце пробрызнуло яркий свет – сквозь облачные слоения, и зарделись лица многочисленных бойцов: они наконец рассаживались по теплушкам. С предвкушением начала путешествия. И, точно отвечая ожиданию, лязгнуло вагонное сцепление, поезд тронулся с места и, отбрасывая над собой привычный шлейф дыма, стал набирать ход. Вагон мерно покачивался, перестукивая все учащеннее по рельсам – удивительно похоже на то, как изображал вчера Солдатов. Скользили назад изломанные тени построек, зеленое переплетение деревьев; мелькали островерхие красные крыши зданий со шпилями, фонарные столбы, кирпичные стены, купы каштанов. С мечтой Антон ехал в неведомое. Какой будет жизнь: скучной, веселой, тяжелой? – он не знал нисколько. Но определенно знал одно: что будет она не бесцельная, а хорошая, серьезная – все-таки это целиком зависело от него.
Незаметно втащились в какой-то польский город. Только пристали к перрону, посыпались из него солдаты. Зелень там-сям перемежалась уголками зданий, вились высоко стрижи; повсюду толклись вездесущие поляки, предлагая булочки, батоны – свежеиспеченные, разносящие ароматный запах. Они же и проворно скупали носильные вещи. Одно другому не мешало.
Глянул Антон получше на вокзал городской – и, догадавшись, ахнул: ба, да это ж город, где квартирует их часть! Узнал его… Ну, фантастика! Ведь именно отсюда нынче утром он уехал… На сердце заскребло слегка.
Кстати, здесь недолго простояли – к лучшему.
Да, увы, его опять подвели свойственные молодости наивность, неосведомленность и нетерпеливость в стремлении к желанному. Скоро – уже на следующей остановке – выяснилось, что их только доставили к свободному сборному лагерю (это, если не ошибиться, в 12 километрах от Грудзёнза). И то: погрузив на машины имущество свое, они колонной, а потом вразбивку, пеше прошли до лагеря с десяток километров и часть дороги – по очень тяжелому, очень мелкому наносному песку, среди сосен, когда их накрыл дождь. На марше сержант Миронов будто бы по старшинству вновь присматривал за Антоном. Антон, придерживаясь его тоже, говорил ему о том, что хотел бы в Москве учиться, только сначала заедет домой, во Ржев; а тот как-то насупленно-неодобрительно молчал, ровно считал, что он намеренно вешается ему, москвичу, на шею – подговаривается…Что же тогда могло так связывать с Антоном?
В сборном лагере, из десятков тысяч поступающих сюда воинов, ждущих демобилизации в бесчисленных длинных бараках, формировались уже конкретнее – по городам и срокам – поезда. Предстояло ведь подготовить, рассортировать и перевезти на огромнейшие расстояния несколько миллионов советских солдат, скопившихся в Европе.
По-своему текла налаженная лагерная жизнь со всеми службами. Все поочередно несли караул, дежурство, чистили на кухне овощи, убирали помещения и территорию; на больших площадках под открытым небом часто давались концерты, демонстрировались фильмы, киножурналы. И Кашину запомнился увиденный здесь фильм «Давид Гурамишвили», очень пластичный, выразительный. И также был разговор бойцов после просмотра журнала о Потсдамской встречи Сталина, Черчилля (затем Эттли) и Трумэна. Один из них говорил, точно выражая наше общее мнение:
– Какой-то желчный он, Трумэн, хоть и улыбается, холеный. Не нравится он мне – подведет под монастырь!
– Что ж ты хочешь от него: крупный капиталист! Но, брат, дружить-то надо всем ради мира и спокойствия. И капиталистам – с нами.
Иной раз приятно, как в детстве, грелись у входа – у южной торцовой стенке – на ласково теплом солнышке.
Наконец, спустя примерно неделю, настал черед отправки московского поезда. Опять протопав десяток километров, разобрали свои сваленные, условно помеченные мелом вещи и разобрались сами по теплушкам. Кашину с Мироновым снова достались верхние нары.
Устроились, кончилась возня. Вагон дрогнул знакомо. Ура!
XXVII
Антон помнит, как пока стояли неизвестно почему на какой-то станции очередной, по вагонам разнеслась взбудоражившая всех новость: «А знаете, ребята, там, в головном вагоне, ведь едут и наши знаменитые на весь фронт фронтовые сестрички-спасительницы… Да, да, эти самые… Пойдем, поклонимся им»… Их запросто и вместе с тем уважительно-ласково называли по именам и фамилиям, точно общих одноклассниц, но с редким уважением и преклонением перед их безмерным подвигом и мужеством по спасению жизней раненых воинов. Началось буквально паломничество мужчин туда, к женскому вагону. Для солдат, спасенных этими хрупкими медицинскими сестричками на поле боя, был легендарным подвиг их, и они, фронтовики, теперь хотели посмотреть на своих боевых подруг, право, с большим любопытством, нежели на кинозвезд. Ибо лишь теперь могли получше разглядеть своих героинь – тогда-то было не до этого: были ранены и без памяти даже, и поэтому-то не смогли вовремя сказать тем «спасибо». Антон помнил: одна из них прогуливалась вдоль путей (со своей подружкой) на костылях – без одной ноги. Глядя на нее и думая о чем-то, напряженно курил ветеран. А вокруг были мирные запахи, кислый запах каленого железа. По краям насыпи еще лезли белые ромашки.





