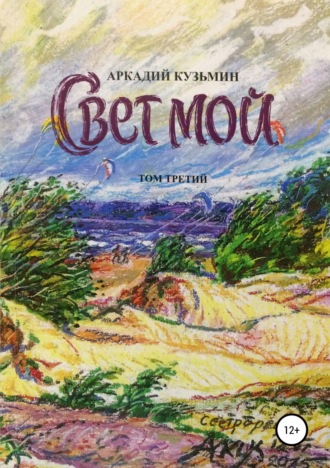
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 3
Вскоре, все-таки уговорив капитана, Васильцов велел ехать хотя бы к комендатуре, где рассчитывал обо всем договориться. Однако, и найдя ее, но неофициально узнав у кого-то там, что экскурсии в Берлин нежелательны, он – во избежание отказа в разрешении – не стал его просить и – уж если мы приехали и проехали сюда – предложил нам все же рискнуть – поездить так.
– Не до нас коменданту, – говорил он, садясь в автобус и указывая шоферу, где ехать. – Все разбито, а население голодает, и без света и воды. И чтобы спасти его от голода, наши подвозят картофель, – повторил он, очевидно, чьи-то слова.
Прямо почти непроездно, а совсем непролазно – в обе стороны. Кирпичные горы вперемежку с искромсанным железом, балками, над которыми светились небом торчавшие стены, запирали улицы, и проехать можно было только по битому кирпичу. Саша, безунывный и не удивлявшийся ничему шофер, лавировал искусно, и старенький, потрепанный автобус, пыхтя и переваливаясь, временами полз точно по дну каменного оврага, где копошились берлинцы.
За неделю до вступления советских войск Берлин ожесточенно бомбили английские «Москито», и, как писалось в газетах, эти разрушения были «дело рук союзной авиации».
От гудков, подаваемых Чохели, жители пугливо сторонились. А цепочки их в некоторых местах разбирали завалы или стояли к колонкам – за водой.
– Я никогда не думала, что могу ненавидеть, – сказала Игнатьева. – И они хлебнули горя. Образумятся, видно…
Васильцов предложил остановиться пока на малолюдной, обезжизненной, хоть и малоразрушенной улице, по которой ехали.
XVI
Весеннее солнце светило точно сквозь неестественно красноватую пелену – кирпичную пыль, смешанную с воздухом, стоячую над городом. И неестественная тишина стояла на улочке, на которой остановился автобус. Немногие магазинчики были закрыты, крест-накрест заколочены досками; стены облепляли, по выражению Волкова, «липушки» – недавние приказы гитлеровских властей. Редкие прохожие тотчас возбуждались любопытством от появления здесь русских. Но Антон уловил то, что странно-пристальный взгляд берлинцев дольше, чем на товарищах, задерживался точно на нем. Не глядя себе под ноги, а только поднимая их повыше, чтобы не зацепить за булыжник, покосилась на него, проходя, и не старая еще немка с покрасневшими глазами, которые словно выела красноватая пыль, – и пугливо приостановилась близ него. Она всматривалась в него прищуренно. К ней по-немецки обратился Васильцов.
Васильцов был в Берлине, как на привычно-знакомом ему и на неузнаваемом в то же время валу истории, на котором теперь вместо домов возвышались кирпичные горы и все покрывала осевшая розово-красная пудра.
От немецких слов, произнесенных ладным русским офицером, немка даже вздрогнула, но сказала, заламывая руки, что у нее был такого же примерно возраста, как и этот камрад, – она показала на Антона, – сын, но что был мобилизован этой весной – и погиб. Она всхлипнула, не удерживаясь.
– А, фаустпатронник, наверное. – И Васильцов стал утешать ее.
В последнее перед падением Берлина время из четырнадцати-шестнадцатилетних юнцов нацисты формировали заслоны с фаустпатронами, надеясь еще сдержать наши танки.
Подошли другие немцы, видя, а главное, слыша, что свободно и благожелательно говорил по-немецки русский офицер; толпа моментально как-то увеличилась, сдвинулась вокруг кольцом.
– Ja, alles was vergebens. – Да, все было напрасно, – сказал и дернул головой какой-то оказавшийся ближе всех тонкошеий старик – как бы извиняюще за то, что было, и, страшась того, что им, немцам, нет теперь подлинной веры.
– Wer erten will, musaen. – Кто хочет жить, тот должен сеять, – сказал майор обнадеживая.
– Das war richtig sein. – Возможно, что это правильно.
Толпа старалась вызнать все, касающееся капитуляции Германии. И легко майор Васильцов взял инициативу беседы с нею на себя – взял, как капитан руль корабля; и легко ему было в этой роли – он знал немецкий язык и правила своего поведения. К тому же он был очень уверен в себе – и серьезен в меру; он будто давал импровизированную пресс-конференцию о своем здоровье, самочувствии. Было-то понятно, что потрясенные неизбежным немцы не то, что многого еще недопонимали. Им сложно самим по себе начинать по-новому жить, притом в разрушенном городе, когда наступала такая возможность. И слишком определенно они хотели узнать про то, что станется теперь с ними, вместо того, чтобы уже делать что-нибудь самим. Но чувствовался в нем искусный дипломат и притом сердечный.
Оттого-то оживлялись чужие бледно-болезненные лица.
Берлинцы главным образом хотели знать то, кто в Берлине останется – русские или американцы и какая власть установится в Германии; они почти что хором заявляли, что пусть в Берлине будут русские, а не американцы (об англичанах и французах они почему-то не упоминали). Но не было ль это преднамеренным заискиванием, чему их научил нацизм?
Васильцов же, не задумываясь, уверял: нет, ничего другого, кроме новой немецкой власти в Германии не может быть никак.
У автобуса все делились меж собой мнением:
– А народ-то ткается. Все глядеть, слушать…
– Правильно. Лучше смотреть в глаза друг другу, чем стрелять.
– Вишь, говорят, что пусть русские будут…
– Можно насказать всего.
Мимо проскользнула, опустив глаза, Люба, печальная, хмурая и одинокая, уставшая уже страдать; с устало-грустным выражением на вытянувшемся лице, она вошла в автобус и скромненько села в свой уголок. Чьи печали она носила с собой?
Все повторилось и при следующей остановке: берлинцы мигом окружали автобус и выспрашивали обо всем у Васильцова, а главное – о послевоенном переустройстве Германии. Это убедительно свидетельствовало о том, что они себя не чувствовали тут посторонними людьми, какими порой хотели казаться, или, может быть, больше не хотели себя чувствовать такими.
Майор знал, что показать в Берлине. Переназвав по пути уже, пожалуй, дюжину берлинских достопримечательностей и улиц, он не мог не забегать каждый раз вперед: «А теперь я покажу… если тут проедем… поезжай-ка прямо», – говорилось понятливому шоферу, и тот вел автобус туда, куда указывалось. Все были довольны таким превосходным проводником, отлично ориентирующимся в лабиринтах развалин. Но Антону хотелось зарисовать что-нибудь с натуры. Об этом он думал прежде всего.
Военные автомашины текли в обоих направлениях, сигналя гудками и обтекая неожиданные препятствия.
Так выехали на широкий проспект Унтер ден Линден с расходящимися узорами брусчатки. Посреди его высились пирамиды из сложенных мешков с землей – заложенные памятники, и П-образные архитектурные арки – вход в метро. Вскоре вдали возвысились черные Бранденбургские ворота без венчавшей их квадриги Виктории (колесницы Победы). И Антону даже почудилось, что их колонны столь тесно перекрывают улицу, что не проехать. Однако автобус, даже не замедлив хода, миновал их легко; они, поиссеченные осколками бомб, снарядов, мин и пулями, остались позади. И сразу же завиделось справа, за грязным, тусклым и разодранным парком громоздко-неповоротливое здание, раскромсанное и обгорелое. А над ним – над его продырявленным ажурным куполом – контрастно переливался, ярко алея на солнце, советский флаг.
– Рейхстаг, – сказал Васильцов.
– Неужели?! – Все в автобусе прилипли к окнам. – Этот?!
– Ну, помпезная громадина!
Ближе подъехав, Саша развернул машину и поставил ее к уголку тротуара. Отсюда начинался старый парк со слабо, словно нехотя, зеленевшими деревьями, обгорелыми, расщепленными и повально срезанными верхушками и ветками, со сплошь перерытой землей, заваленной к тому же отстрелявшимися сине-зелеными фашистскими танками, орудиями – глыбами металла, бочками, снарядными ящиками, боеприпасами, касками и всем, чем угодно. Ветерок, вороша, играл обрывками накиданных бумаг…
По широким выщербленным и закиданным обломками ступенькам входа, среди толпы наших возбужденно-радостных военных разных рангов, валивших сюда и обратно, сослуживцы поднялись в Рейхстаг. И там, в первом же помещении их остановили царившие (и днем) сумрачность и жуть, хотя стоял такой веселый шум среди армейцев.
Искалеченные бронзовые на подставках статуи великих германских полководцев в боевых доспехах и гербы, висящие над ними, меж колонн, обступали с двух сторон входной зал – вдоль закопченных стен; кирпичные кладки забаррикадировали боковые проходы – за ними недавно оборонялись эсэсовцы, и еще несло оттуда гарью и тошнотворно смрадило от еще неубранных разлагавшихся трупов. В пепле на полу, засыпанном также щебнем, штукатуркой и ворохом бумажных листков, утопали ноги; кроме того, валялись, дополняя впечатляющую картину хаоса, обломки разной мебели, армейские ящики и снаряжение, и крупные стреляные гильзы. От пожара и разрывов почернела и облупилась штукатурка – особенно внутренних колонн, изукрашиваемых теперь, как и все стены, будто письменами какими, или посланиями: побывавшие здесь победители, ухитряясь порой забраться на немыслимую высоту, писали, либо выцарапывали то, кто они, откуда, почему сюда пришли.
Вдохновившись этим, Коржев также выписал куском мела на серой стене все, включая свою и Кашина, фамилии.
Многие весело, с шутками, фотографировались. И слышался звон радостных, чистых голосов, орденов и медалей.
В центральном зале – для заседаний – были пробоины от прямых попаданий бомб.
Васильцов повел всех дальше осматривать рейхстаговские помещения, а Антон, внушая себе строго, что нечего столько разглядывать битые черепки, заспешил на улицу: хотел зарисовать Рейхстаг – не упустить представившийся момент. Открыв дверцу автобуса и кое-как примостясь на его ступеньках, он стал наносить на лист бумаги правое крыло Рейхстага; левое же крыло здания, если смотреть отсюда, несколько закрывали крайние парковые липы с черными стволами. Да Антон подосадовал, что неудачно для рисунка выбрал место. Но ему было уже некогда перейти куда-нибудь еще и переделать композицию. Он видел перед собой этот тяжелый, точно осевший, или присевший, Рейхстаг с верховой клетью, видел свалившийся на бок узкий желтенький трамвай из двух вагонов, опрокинутые машины, паутины весенней зелени, – и карандашом набрасывал все это на бумагу.
Проходившие мимо военные, замечавшие, что он рисовал, шаг придерживали, замирали подле. На мгновение хотя бы. Чтобы заглянуть в планшет рисовавшего. Восклицали с уважением:
– Молодец малец! Копию снимаешь!..
Снять «копию» с Рейхстага он, однако, не успел: вскоре возвратились сослуживцы, очень шумные, довольные, не знавшие и не понимавшие его творческого огорчения из-за того, что у него плохо получалось.
XVII
Изящно вытянутая вверх, точно поставленная на оригинальном столике, с парящим ангелом с крылышками, «Колонна Победы» – символ поражения французов; все выпотрошенное – снарядами, бомбами, огнем – квадратное здание почтамта. И Антона, сельского жителя, нисколько не поражали почему-то ни то, ни другое: ни изящество и ни размеры чего-то.
Потом спустились в неглубоко прорытое берлинское метро, которое пробивали даже тяжелые снаряды и которое по приказу Гитлера было затоплено вместе с городским, прятавшимся в нем, населением. В сырой подземельной темноте чиркали спички, чтобы подсветить себе. Все туннели наполовину – вровень с посадочными платформами – были залиты водой: она маслянисто-черно отливала под облупившимися ржавыми сводами; темнели в глубине пустые отсеки бывших магазинов, помещавшихся под землей.
– Ну, несравненно оно бедней, бедней московского, – уверенно определила москвичка Суренкова. – У нас подземные станции – прямо же дворцы.
– И дома у себя потоп натворили. Бр-р!
– Да, зрелище ужасное. Выйдем-ка скорей наверх.
Да, зимой, в критический момент панического бегства немецкого воинства из-под Москвы Гитлер, обращаясь к своим полчищам, взывал в приказе: «Ключи Берлина во Ржеве, помните!» Может быть, уже тогда он и его хваленые вояки усмотрели в этой недоступности для них желанного – сломить жестокостью наш народ – собственную обреченность, которая настигнет их рано или поздно? И поэтому потом – чтобы отдалить от Германии расплату, – так они вгрызались повсюду в каждый метр нашей земли?
Взгляд Антона скользил по перенесшим встряску зданиям, по памятникам, сброшенных с тумб, разметанным баррикадам, завалам, покосившимся перебитым уличным фонарям, по каким-то бесконечным вывескам, названиям, по выбитому, в ямах и кирпичных осколках, асфальтовому полотну, по мятущимся желтоватым лицам берлинцев. По летному полю знаменитого берлинского аэродрома Темпльгоф – участкам, незалепленным домами с бетонными взлетными дорожками, с характерными внушительных размеров ангарами, со смятыми самолетами в куче, зенитками и со светло зеленевшим травяным покровом, там, где ему было дозволено зеленеть.
Вот подковообразный храм Победы, увешанный скульптурными изображениями знамен и оружия, со свирепо оскаленными гривастыми каменными львами. Одного из них, уцепившись рукой за пасть, оседлал какой-то наш удалец-солдат – решил сфотографироваться на память верхом на нем: свешиваясь со льва, он другую руку протягивал вниз – приглашал взобраться и своих приятелей.
Да, вот с этих самых площадей и улиц начали маршировать безумцы к мировой катастрофе. Именно прошлое Берлина и его отделанные чаще в духе милитаризма памятники, фасады и камни так напоминали о том на каждом шагу.
В середине дня сослуживцы приехали на окраинную целостную улицу с ровными серыми пятиэтажными домами с лишь оббитыми-белевшими карнизами. С неверием подошли к открытому пивному бару и заглянули внутрь его:
– Что, и пиво есть? Ну, как замечательно!
В Берлине разрешили уже торговлю, налаживались хлебопекарни и открывались всякие лавочки. А подальше от центра, на окраинах города, значительно меньше пострадало все; верно – потому по совету Васильцова и приехали сюда.
В баре, куда все шумливо зашли, были расставлены столики, но посетителей не было; несколько одутловатая немка, опрятно одетая и при чистом фартучке, по-хозяйски поглощенно возилась с насосом за стойкой с мокрым мраморным верхом, и на нем были составлены высокие фарфоровые кружки. Она вспыхнула, узнав о цели визита к ней русских солдат.
– Bitte schon! – Прошу! – И сожалеючи извинилась перед Васильцовым за вынужденную нынешнюю скудость в ее баре: кроме пива нечего уж предложить гостям. Время трудное.
Спросив, сколько посетители берут, она стала быстро наполнять пивом – накачивать насосом – пивные кружки. Все поочередно подходили к стойке, брали эти кружки, ставили их на столики и усаживались сами. Принесли из автобуса кое-какие продуктовые припасы, предусмотрительно взятые с собой.
Разговор повелся в несколько ручьев – и тут, и там. Говорилось всякое: грустное и забавно-смешное.
– О, как!.. умирать буду… О-о! Пить не буду…
– Золотые слова. И вовремя сказаны.
– А я, ребята, украинского борща страсть как захотел…
– Ну, давай, бузуй!.. Поменьше разговаривай!
Волков же вдруг вспомнил, что солдат Найденов – из службы 1-го отдела, 9 мая, перед тем, как его убили власовцы, весело считал – загибал пальцы, сколько же всех родственников к нему придет теперь на случай его мирной смерти: «…Сашка – сам четверть-двадцать. Надька – сам треть-двадцать три, Еркашка – сам друг, хотя сам треть, но пускай – сам друг – двадцать четыре…» Досчитал так до пятидесяти одного – и со счета сбился. Однако на его непредвиденные похоронки уж никто из родственников и не смог придти, стало быть… Судьба иначе распорядилась… – И как-то осекся, диковато глянув в сторону Шаташинского: тот увлеченно участвовал в разговоре за дальним столиком с тремя майорами.
– Все вроде дуется на меня. Не подступиться к нему. – И сержант пробарабанил пальцами по столу. – С нами, дураками, и нужно обходиться так.
Очевидно, привлеченные нашим дружным гомоном, в полуоткрытую стеклянную дверь бара пугливо просунулись две детские головки. А затем сюда зашли и стали в каком-то немом выжидании светловолосый мальчуган с голубоватыми глазами и поразительно густыми ресницами и поменьше – девочка, очень схожая с ним тонким, тоже белым лицом, – вероятно, его сестренка. Они были воспитанные дети. Одетые опрятно. Солидно брат, как старший, держал сестренку за руку.
По всей вероятности их привлекло сюда не простое ребячье любопытство, а голод, коснувшийся их; что это такое, Антон в достаточной степени познал на себе. И если все заметили вошедших детей с вниманием и участием к ним, то Антон – с особенным: вскочив из-за стола, он с какой-то стыдливой и покровительственной радостью, словно это пришли его лучшие друзья, стал собирать со столов – где тушенку, где хлеб, а где сало или еще что-то – и все это, попавшее ему под руку, с неловкостью совал в робкие, непослушные ребячьи ручонки:
– Bitte! – Возьмите! Пожалуйста!
Сердцем своим чувства мерил он. Их постоянством. Поневоле оказавшись рядом с домом этих ребятишек, пожалел их в общей беде: они не виноваты. Может быть, они являлись детьми того высокомерного офицера, которого его мать образумливала в 41-м году. А может, и Вальтера…
К удивлению всех, Люба уже ласкала, подозвав к себе, малышку; она с женской чуткостью и нежностью погладила ее по голове и поцеловала в волосы, и та притихла, доверчиво ослонясь о колени подозвавшей, с угощением в руках.
Однако с появлением ребят насупилась, даже изворчалась про себя владелица бара. И едва они отнесли, должно быть, домой продукты и поспели сюда вновь, она вознегодовав за это, уже в открытую прикрикнула на них: гнала их прочь – чтоб они не шлялись больше.
– Es sei! – Пусть! – Срываясь, напустилась Люба на нее, защищая их. – И второпях добавила ругательное что-то.
– Es ist mir uber. – Это мне надоело, – в свою очередь оправдывалась оторопевшая немка. – Нa und ob! – Еще бы!
Вмешался майор Васильцов:
– Nicht zu machen. – Ничего не поделаешь. – Und tangt nichts. – И это не годится никуда. – Он говорил увещевающее, резонно. Ведь и для фрау кое-что оставили – поделились тоже. Всем жить надо.
– Mein gott! – Боже мой! – немка не унималась. Ей обидно очень. У нее самой же дети, нужно их кормить. А русские, если победили, и должны ей давать молоко и продукты. Она всхлипнула под конец, когда майор расплачивался за пиво новенькими марками.
Мило высвистывал какой-то мотив Саша Чохели, немного отдохнувший, снова севший за руль.
Теперь поехали мимо уютных озелененных особняков, где когда-то Васильцов и другие сотрудники советского посольства снимали частные квартиры, надеялся он заглянуть напоследок в одну из них, а заодно и найти, если не сгинул, тогдашнего шпика. Майор хотел теперь посмотреть в глаза тому.
XVIII
К сожалению, дом с последней квартирой Васильцова попросту перестал существовать – был начисто весь развален. По другую же сторону улицы нестаринный жилой, но слегка ободранный дом, выставлял точно всем напоказ угол с зияющей на стыке третьего и четвертого этажей рваной выбоиной, в которой застрял рояль. Осмотревшись, Васильцов зашагал в ближайший подъезд этого здания, а все заинтригованно, кроме Любы и Антона, потянулись следом. Хрустели под ногами раскрошенный кирпич и черепица, сброшенная с крыш.
– Ишь, табуном полезли – нос совать, – осудительно проговорила Люба. И отправилась побродить около. Антон же, пройдя с закрепленной на картонке бумагой немного вперед, вдоль улицы, хотел пока зарисовать ее.
С этим невзрачным зданием с выбоиной, с переломленным, что соломинка, фонарным столбом, с чахлыми зеленевшими липками. И хотя он примерился к объекту, но как только присел на кирпичи повыше, перспектива ухудшилась: автобус заслонял даль улицы. И все, что надлежало изобразить, имело, он рассмотрел, полным-полно несущественных деталей. К тому же солнце беспощадно освещало городские развалины, а их ему не хотелось зарисовывать, чтоб не выходило так, будто он любовался этим. Однако некогда и нечего было выбирать.
Да едва разрисовался, как уж услыхал за спиной голоса:
– Klein soldat! – Маленький солдат!
Новая помеха! К нему подошли двое любопытствующих дородных немцев в возрасте. И их некоторая степенность и непринужденность, с какой они, став подле Антона и наблюдая за тем, как он набрасывал на бумагу карандашные штрихи, преспокойно судачили между собой, вызывали в нем внутренний протест. Нет, он не испытывал к немцам ни малейшей ненависти, хотя навидался и натерпелся от них всякого; его удивляла экзальтированная неосведомленность берлинцев – не они ли некогда лесом рук в экстазе приветствовали фюрера, одобряя агрессию, а теперь таращатся: «Klein soldat!».
Он еще не привык к тому, чтобы за спиной кто-то стоял и наблюдал за тем, как он рисует. Он хмуро покосился на подошедших, мешавших ему психологически. Он не мог сказать им «weg!» (т.е. прочь!), как говорили на оккупированной советской территории гитлеровцы всем советским людям; он только прижимал ближе к себе рисовальное приспособление, продолжая рисовать, и говорил понятно:
– Nein! Nein! – Нет! Нет! – Дескать, нельзя.
Но они еще пожимали плечами стоя, – не отходили.
Из дома уже Коржев выскочил – к автобусу, и Кашин за работой прокричал ему:
– Что, нашли того, кого искали?
– Точно! – громко отвечал сержант. – Эх, перепугался было! – И умчался уже с бутылкой снова.
Через некоторое время из подъезда вышел майор вместе с грузноватым, в летах, розовощеким приземистым господином – в окружении жужжавших спутников. Господин был тоже, что и стоявшие за Антоном немцы, в одной белой тонкой трикотажной рубашке. Это и был отысканный шпик. И его состояние сейчас отражало еще не прошедший полностью испуг от такой непредвиденной встречи с дипломатом, хоть он и старался улыбаться непринужденно – играл свою изменившуюся роль, к чему обязывало его теперешнее положение: здесь некогда он выслеживал советника, а теперь заискивающе мялся перед ним на фоне руин, растерянно шмыгая глазами.
– Ja, es fugte sich… es fugte sich. – Да, случилось так… случилось так, – оправдательно ладил он. – Das wir uns tragen, – что мы встретились.
И твердил он о том, что никогда, никогда не хотел войны, затеянной Гитлером, он, маленький человек.
– Я в этом не сомневаюсь. – Jch zweifle nicht daran, – говорил иронически Васильцов.
– Да, Гитлер капут – настал мир; нас заставили капитулировать, делать нечего. Так разглагольствовал далее розовощекий бывший шпик, как если бы сожалел, что этого уже никак нельзя исправить, чтобы доказать, наверное, то, как плохо было капитулировать.
Вокруг разговаривающих собирались немцы. Приблизились и те, кого занимало мое рисование. Все стояли кучно, курили и говорили о прошлом. Васильцов переводил.
– Пришел к власти Гитлер – нажал на вооружение, загрузил работой; нам обещал в результате беспроигрышной войны счастливую жизнь и просторные земли.
– Что ж тогда вам пенять, вот и распросторились.
Собственно скоро сказано было все – и понятно.
Только одна тощая посивевшая немка в вязаном обвислом костюме, качавшаяся туда-сюда, как маятник, выжидающе-вопросительно глядела на Антона, словно приклеилась своим умоляющим взглядом к нему.
– Was Frau? Was ist gefllig? – Что угодно? – спросил он, не выдержав.
Женщина словно бы проснулась от его вопроса и качнулась ближе к нему; она сбивчиво, запинаясь от волнения, объяснила, что хочет о сыне своем спросить. Может, он в плену у русских. Младший сын. Служил на Восточном фронте. Под Москвой. Старший сын, Генрих, был капут в сорок втором году. Извещение есть. А на Курта нет. Она не знает, где он? Все это Антон понял и сказал ей о том, что он тоже не знает, где его отец лежит.
– O? ja, ja, ferschtein, – прониклась она сочувствием к нему. Помолчала в знак этого. – Das ist er! Bitte! – Вот он! Пожалуйста!
– Что, его фотография?
На Кашина будто опрокинулся 41-й год: один из Куртов смотрел на него с фотографии именно того памятного периода.
Он вернул немке фото и сказал, что не знает, и она в надежде оживилась; мол, он хороший у нее. Он не ответил уже, а просто поглядел в глаза этой матери, и она опустила свои.
В немалом удивлении Васильцов к ним подоспел:
– Что у вас?.. И ты, Антон, тут знакомых встретил? Так?
– Да вот Mutter, товарищ майор, ищет сына своего – солдата. – И отступил – чтобы Васильцов ей все поспокойнее и получше объяснил.
В салоне автобуса, рассевшись, все пристали к майору – каким он нашел гестаповца: ведь наверняка тот подастся куда-нибудь, вновь будет нам вредить. Майор будто не слышал никого. Он только что иронически выслушивал ошеломленного визитом шпика и наблюдал его интеллектуальную сноровку лебезить – и был поэтому задумчив некоторое время.
– С него не все листочки опали, – сказал он после. – Да черт с ним! Он – пешка.
– Какая же самоуверенная глупость! – воскликнул старший лейтенант Папин, молчальник. – Везде понаписали:
– Berlin bleibt deutsch!
– Венец авантюры – авантюрная расплата, – уточнил Шаташинский.
В этот момент по берлинскому наружному кольцу бесчисленное количество студебеккеров везло и везло в плен обезоруженных, капитулировавших солдат третьего рейха с обессмыслено-потухшими взглядами.
В автобусе один характерный налет усталости осел на всех без исключения лицах: кто наездился, кто насиделся, кто нагляделся и наговорился; но все уже старались вести себя так, чтобы только не обижало друг друга это заметное равнодушие от усталости. А Волков все не мог набраться храбрости, чтобы извиниться перед парторгом; он так разнервничался, что зевал, как ни признавали за ним спокойный характер.
Майор Васильцов уже равнодушнее обычного обещал завезти на обратном пути и на знаменитое озеро, служившее берлинцам местом для воскресного отдыха.
Дождь провожал их отъезд. Запотели с нависшими каплями, точно посеребрились тонко-прозрачно, стекла автобуса и чуть потемнело внутри его.
– Ну, взглянули на Берлин, и можно теперь по домам расходиться, – Папин потер руки.
– Да, почему бы теперь не отменить границы и не распустить многомиллионные армии? – высказался Кашин, и Шаташинский обернулся к нему, сверкнув стеклышками очков:
– В принципе, и немецкий народ хороший, как все народы, но нашлись среди него такие люди, которые нечисты, и Гитлер подобрал их. Действительно, как дико. В познании тайн мирозданья человечество еще движется, а здесь топчется на месте, а если идет, то мелкими шажками. Государства заняты подготовкой пушечного мяса, полноценного солдата. Генералы в исключительном положении, а артисты, художники, рабочие – нет. Люди доверчивы. Они верят, что если это свыше установлено, то значит правильно: там виднее… Наверное, – развивал он, когда среди курортных темно-зеленых сосен засквозило рябившее озеро, и автомашина стала. Он умолк, но по выходе из автобуса повторил еще, точно споткнулся: – Так-то, мальчик мой!
Однако Антон внезапно попросил, кивнув ему на Волкова:
– Вы простили б его за выходку. Он себя не помнил, право.
Помедлив, Шаташинский воодушевился:
– Ну, что ж; ну, что ж. Я никогда не разуверяюсь в человеке. Если неудачен один поступок, – это не значит, что человек дурной. И он сквозь очки поглядел в ширококостную спину удалявшегося Волкова.
И стало можно успокоиться за друга.
XIX
По капельке дождилось, дразня землю, заплывшее небо; пахло прелью, хвоей и смолой и как будто фиалками; было сыро – на мелком, плотно слежавшемся речном песке следы почти не пропечатывались. На протянувшемся озере под напором ветерка топорщилась седая водная поверхность, у краев беспокойно качался камыш.
Кругом стояло запустенье, как вода, набравшаяся в лунку.
Все восторгались озерным видом, всходили на протянутые по-над озером шириною в две доски мокрые мостки. Они жихались, покачиваясь под ногами. Прошелся также и Кашин по ним: хотя сказочности никакой вокруг не находил, он в конце их положил фанерку на шаткие перильца и, телом загораживая бумагу от косо опускавшегося дождика, отсюда все же стал срисовывать озеро. Карандашом набрасывал выступ этого берега с каким-то дощатым сарайчиком, со вторыми мостками, с лодками, с камышом, с водой и далью.
Сослуживцы оставили его в покое. Но, как было сегодня уже не раз, вскоре он почти физически ощутил неудовлетворенность собой: ему не работалось в полную меру и в радость. «Видимо, влияла праздность», – думал он, с досадой сворачивая рисунок.
В летнем заброшенно-нечистом бараке, в углу столпились наши; на их лица набегали тени неизжитого еще сострадания. На несвежей соломе лежал старенький, заросший больной немец со слезящимися глазами и жалостно стонал. Он был испуган. Нагнувшись, Игнатьева, как врач, уже что-то делала над ним, хоть и никаких медицинских инструментов у нее с собой не было; сквозь жалостливые стоны он лишь просил, чтобы его не трогали и сохранили ему жизнь, так как к нему его дочь должна прийти.
– Was fehtt in nen? – На что вы жалуетесь? – Васильцов склонился над ним.
– Jch leide an einer krankheit. – Я страдаю болезнью, – слабо отвечал лежавший.
Искры жизни будто погасли в его глазах. Тем не менее, Игнатьева и Суренкова установили, что у больного простой грипп. Для него у них нашлись какие-то порошки, и для него положили на солому часть оставшейся еды.
– Видишь, он считает, раз кончено все с Германией, то кончена его жизнь, – сказала Анна Андреевна. – Но дети, которым мы дали хлеба, вероятно, совершенно иначе думают.
– Знать, до этого все на нервах держалось, а теперь расслабилось, и к тому же голодно, – определяла по-своему Анна Андреевна.
А на улице Волков указательным пальцем – жест, который Антон не любил у него, – поманил его извинительно.
– Ну, что у тебя? – Кашин подошел к нему.
Волков, плюнув, выругался:
– И точно он свихнулся – так крутил, когда я спросил об его устройстве на гражданке. Ты знаешь, он заочно переписывается с какой-то дивчиной, от которой случайно попало к нему письмо. И она прислала уже третье. Вот прохиндей какой, – кивал Волков за стволы сосняка, где мелькала ухмылявшаяся загадочно про себя, крупная физиономия старшины Юхниченко, который, нагибаясь, срывал цветки и нюхал, точно пробовал их на вкус своими толстыми губами. – Один врач мне объяснил, что какой-то кислоты не хватает в голове у всех свихнутых.
– Да я о Шаташинском спросил. Уладили с ним?
– Ах это?! Замирились. Я извинился, – сказал сержант виновато.
Еще вчера Антон ничего не понимал в истинном значении поступков Любы. Но сейчас в его душе не находилось осуждений никому, напротив, он по человечески жалел людей, с кем соприкасался. Может, под влиянием этого он вдруг горячечно попросил у Юхниченко, который вышел из-за мокрых обнизанных каплями, кустов:





