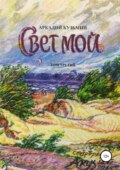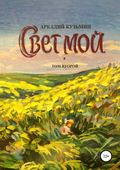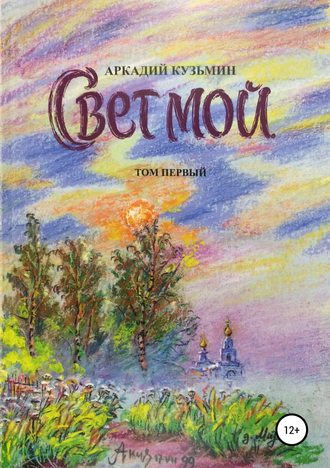
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 1
Антону припомнилось, как в предвоенный год сиплый мужичишко, пристав к ним, пятиклашкам, возвращавшимся гурьбой из Ржевской школы, на улице Коммуны, обжигающе декламировал стихотворение Лермонтова «Бородино»: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана?..» Аж захватило дух у всей ребятни от суровой новизны слов поэта, от предчувствия надвигавшейся беды…
«Данность не отменишь, – умозаключил для себя Антон: – и кто бы что бы ни громоздил теперь, по большому счету Сталин тактически упредил агрессию Гитлера в том, что успел реорганизовать отсталую индустрию и сельское хозяйство Советского Союза, обновив и укрупнив эти отрасли, т.е. опередил на уровне усиления элементов игры, или, точнее, жизнеспособности народа.
Спустя-то лишь двадцатилетие после повальной разрухи, оттока денежных средств, государственнообразующей элиты, специалистов! Эти системные укрепления спасли страну от уничтожения. Советский Союз смог противостоять бронебойной немецко-европейской мощи и доктрине, построенной на преимуществе тотальной молниеносной зверской войны, и усмирить врага, уничтожить чуму фашизма. Германия израсходовала все свои и саттелитские силы и резервы; она надорвалась, выдохлась. Не добралась до победного финиша.
И разве не позорны были торг и словоблудие в стане оппозиций о том, кому и как противостоять, когда именно большой капитал – а перед ним стлались ниц императоры и короли – вовсю командовал, подкупал, разобщал инакомыслящих и, поигрывая мускулами, рулил – правил неоспоримо на вселенскую военную перекройку?
Однако думай лучше о себе самом – проку больше будет. Да наверное».
XI
И только-только Кашин поразмыслил таким не обязывающим ни к чему образом, как странновато (впопад, что ли?) спросил у него Иливицкий, только что они вдвоем вышли из затиснутого здания техникума на тускло освещенную и холодную 2-ю линию:
– А ты еще пашешь… пером? Тебе хоть удается? Бр-р-р! Зябко что-то…
Примечательно продолжавшиеся еще их отношения были отныне и потому, что друзья занимались в одном институте, хотя и на разных факультетах.
– Дрянно, мало очень, – односложно, замявшись, признался Антон. – Нужна великая отвага, чтобы перепахать весь фактический материал, а не плодить благожеланные придумки абы как. Но, спрашивается, для чего? Красиво не поступиться своей правдой? В чем она? Взять и половчее рассказать какую-то историю всем знающим и незнающим? И кто тебя поймет? Рутина же – исследовать обстоятельства крушения какой-то личности и чьих-то чудных замыслов и предлагать кому-либо подобное чтиво. Это никого не прошибет, не повлияет ни на что, потому как психологически-биологическая основа в человеке – животная: давай хапать, что бы ни случилось. Вот если б предугадать падение звезды… Выдать будоражащую сенсацию… Не знаю, не знаю… Не идет… Не вызрел замысел, видно… Но дело это, представь себе, кем-то движется. Помимо моей воли. Аминь, как говорят. С тебя все же спросится… Я это чувствую… Предельно… Да, похолодало…
– Ну, ты, филолог-гуманист, даешь! – Ефим захохотал несдержанно, голосисто, невзирая на октябрьскую ветренность, обходя стекленевшие на тротуаре лужи. – Как мудро ты расфилософствовался… Значит, еще уповаешь на гуманную необходимость…
Поистине нескончаемой головоломкой для всех представлялись письменные упражнения Антона.
– Вы, Антоша, все пишете, лишаете себя всего, всех развлечений, – сочувствующе усовещала его квартирная хозяйка Анисья Павловна, когда он марал-исправлял за столом отдельные странички. – Держитесь, как инок-затворник. Мир захотели перевернуть своей идейностью, принципиальностью, убежденностью. Не перевернете, сударь, поверьте мне, стреляной, хромой вороне!
Более года назад Антон – в очередной раз неизбежного выбора – поселился у Анисьи Павловны, столковавшись с ней о том на обменной толкучке, проходившей у перекрестка Маклина-Садовой. Носильных вещей у него было мало – все принес с собой. И ко всему этому, к своему перемещению в городе он, довольно пожив в землянках, в палатках и у кострищ, когда люди не маялись дурью от безделья и не гробили свое здоровье наркотой, – он еще относился просто, как к непростому, но не смертельному временному явлению.
– А ты, Фима, в чем разуверился? – спросил Антон. – Чем расстроен? Вижу: мрачен.
Ефим, его ровесник, тоже помыкался с детства, оказавшись в начале войны вместе с матерью, медиком, и отцом, химиком, в Средней Азии. И их, родителей-ленинградцев, не стало уже после того, как они вновь обосновались в родном городе.
– Во-первых, омрачает то, что от нас, студентов, требуют немедля же участвовать в книгопроизводстве, – сказал Ефим. – Мол, иначе: не устроитесь – так пеняйте на себя, отчислим…
– Кажись, я подстраховался в этом плане: практикуюсь с корректурой. Но у тебя же ведь тетя есть – секретарь в главном издательстве… Неужто для тебя, любимого, местечка не присмотрит, не добудет?
– Боюсь, фактически я подвел ее, во-вторых.
– Каким образом?
– Переусердствовал. Она-то представила меня книжным художником. И те почти приняли в работу несколько моих рисунков к рассказам. Нужно было лишь подтенить в них, рисунках, отдельные места, обобщить; однако я, лох, перестарался – и запорол: попригладил маленько. В результате все – насмарку.
– И что будешь делать?
– Попытаюсь их восстановить в первоначальном виде. До чего ж несправедливо уязвимы мы! – завозмущался, жалуясь, Ефим. – Много на себя берем – и бежим, бежим, сворачивая голову, чтобы догнать время убегающее, а мало что удается нам.
Недавно, встретясь случайно в капелле на концерте с Антоном и Оленькой, надевшей перед походом сюда синюю длиннополую бархатную юбку, Ефим разоткровенничался весь:
– В зале музыка, скажу вам, бежит галопом – не догнать ее. И уж, конечно, не объять. И чувствуешь себя, если не профаном, то полным болваном: скачешь за ней вприпрыжку, выдыхаешься начисто – не успеваешь никак скакать вровень. Уже нет в мозгах у самого себя скорости прежней, нет быстроты соображения и должной тренировки. – Ефим был всегда откровенен, даже слишком, открыт и в сравнениях верен, понятен всем.
Оленька даже засмеялась от этого его откровения. И больше оттого что она так нашла выход своим сомнениям.
«Нет, нет, – поспешила она сказать себе то, что не могло быть возможным для нее, было невозможным и быть не могло хоть сколько-нибудь близко к этому. Тот, домогавшийся ее ухажер вдруг представился ее воображению несвободным по натуре человеком, каким-то неуютно-еловым… по цвету… он станет ей скорее в жалость, а значит, и в тягость, избави бог. – В них, – подумала она о Кашине и Иливицком после веселого замечания о музыке последнего, – в них другое отличительно качество – свободность. И мне оно ближе, знакомей. Они сами себя и музыку воспринимают вживе, как и все пожалуй. Как у них получается – незаученным образом. Не шагают по гладенькому тротуару…» И эти-то фигуры, окружавшие ее, постепенно заслонили собой того далекого человека. Но ей предстояло лишь воочую вновь убедиться в этом при встрече с ним, чтоб не ошибиться ненароком.
Антон уловил на ее лице отражение какой-то скрытой внутренней борьбы, неведомой ему, и насторожился. Но Ефим говорил так приватно (чтоб только выставить свою персону) о величественно простой музыке Баха, на которой никак ненужно сворачивать башку и за которой ненужно, по мнению Антона, гоняться, высунув язык, а только, слыша, чувствовать и даже видеть ее.
Ефим не жил без преувеличений.
– Кажется, когда слышишь его фуги, – сказал Антон, – то представляется, как на полотне широкими мазками зарисовывается пейзаж – типично сельский, стародавний, непритязательный, но многоговорящий, хоть и вроде камерный – сродни вечно живому, влекущему к себе. Хоть и сам ты хватай кисть и действуй красками по холсту в этом же ключе – свободно, под аккомпанемент накатывающихся музыкальных волн.
– Да ты максималист известный, знаю тебя, – рокотал Ефим.
Но сейчас заумолял настойчиво:
– Ой, кстати, попозируй мне, прошу!.. Один поясной рисуночек надо переделать начисто. Типаж в шляпе изобразить… Больше некого мне попросить…
– Ладно, Фима, удружу тебе, – согласился Антон. – Чего ж…
– Вот благодарю тебя! – обрадовался и повеселел Ефим.
– В роли нигилиста будешь. Оленьке привет передавай. Все у вас с ней ладно?
– Как почти у тебя с рисунками.
– А-а! Весьма образно. Весьма… У меня-то тоже скромненько… Тянучка… Ну, пока!
– До свиданья! – И они разошлись в толпе спешливой.
«И что слетело с языка? – устыдился своему малодушию Антон. – Коли и быть иначе не может. Просто ненадежный я союзник для Оленьки – нехваткий, бесквартирный…»
Совесть не мирится с текучей безуспешностью в жизни, которая сама по себе, как весь город, независима и ничего не ждет, не любит ждать и терпеть; от жизни ты сам неосудительно ждешь для себя чего-то путного – надеешься, что получишь то по своим достоинствам сегодня-завтра-послезавтра. Это нужно для тебя как воздух, вне какой-либо очереди и каким-то особым заслугам. Однако от того, что ничего такого не происходило покамест у него, Антон и не жаловался никому-никому на свое житье-бытье. Ни самому себе. Уж что выбрал сам, голубчик, – неси крест!
Антон, став жить на гражданке в городе большой культуры, главное, из-за стремления получить надлежащее образование, снимал углы (что и многие из прежней молодежи) у хозяек-блокадниц, сдававших за приемливую плату чаще закутки коммунальные. Бесперспективность с жильем была очевидна. Но как ее, желанную перспективу, выловить?
На Ржевщине у него вместо отцовского дома, снесенного немцами, стояла времянка; Антоновы братья, старший Валера и младший Саша, обживались и строились сообща, вскладчину. Они ставили одну просторную избу для последующего раздела на две семьи (Саша был уже женат); две младшие сестры ими никак не брались в расчет, поскольку те собирались уезжать в Москву и могли вскорости выйти замуж, а старшая там уже замужествовала, родила сына. Вклиниваться сюда, в хозяйство и вотчину братьев, Антон не мог практически; да он не хотел (они знали хорошо об этом) возвращаться сюда, в прежний мир – порушенный. Но также и не мог пока сносно зарабатывать, чтобы осуществить какие-нибудь стоящие, не то, что кардинальные, строительные проекты.
Не складывались у него – может быть из-за этого – и житейские дела, сколько не подступал он к их осуществлению, совмещая работу с учебой институтской, с безалаберным питанием в столовках на бегу…
Отец Оленьки, насупленный Захар Семенович, мастеровой-шорник, подрабатывавший (станки-то крутились при помощи приводных ремней) в ремесленном училище при заводе им.Карла Маркса, посодействовал Антону в устройстве его сюда художником. Однако здесь, где учились на токарей, фрезеровщиков и слесарей пятьсот ремесленников, сорвиголов, его выбрали комсоргом, и ему пришлось воевать и ладить с ними, с мастерами и с райкомом комсомола.
Когда Иливицкий демобилизовался – годом позже, Кашин поначалу подкармливал его в училищной столовой, где комплексный обед стоил в пределах одного рубля, и помог подыскать ему место тоже заводского художника-оформителя на Выборгской стороне.
– Веришь ли, я учусь наглеть, – откровенничал вскоре Ефим, удивляясь себе. – Теперь мне приходится… в коллективе… иначе – затрут…
Несомненно житейская неустроенность словно сдерживала способность Антона мыслить основательней и даже дышать вольней, глубже. Он восхищался естественным поведением своих знакомых, друзей и несомненно их былыми похождениями, как у Махалова. У него-то самого ничего такого как бы и не было вовсе.
XII
«Нет любви у нас!» – уж помыслилось само собой Антону, едва Оленька, встретив его дома у себя, с мягкостью спросила, что бы было для него, если бы она вдруг сдружилась с кем-нибудь другим, и когда он с лихой бездумностью ответил ей, что все было бы для нее так, как она бы захотела. И он нисколько не обманывал и не обманывался тут, хотя еще письменно было клялся ей: «Не только ты болеешь, беспокоишься, но больше, чем ты думаешь, переживаю я за тебя, за нас…» Подносил округлые слова…
И она-то, Оленька, в тот момент, как она, переспросив, правда ли то, что он сказал ей и подтвердил взглядом, но не знал, не думал, насколько эта правда дурна, сидела прямо на диване, не шевельнувшись, блестя глазами и заливаясь краской стыда по мере осознания того, что могло значить сказанное им для нее.
– Да? – полупрошептали ее припухшие губы, но уже щечки вспыхнули жгучим румянцем, а голова все более и более клонилась набок, и она, Оленька, как подрезанная, упала на подушки, и послышались странные прерывистые звуки, оскорбившие в первый миг его. – «Да?» – Он слышал, с какой обычной шаловливостью (если она выспрашивала у него что-нибудь тайное, касавшееся лишь их двоих, но что в радости стыдливости веселило ее) переспросила она, приоткрыв красивый ротик и глядя перебегавшими серыми глазами ни на что в особенности одной какой-то косящей стороной. И желание поцеловать и так успокоить ее овладело им. Но вот он увидел, как губы ее задрожали, точно рывком она набирала воздух, и услышал тут же странные звуки, оскорбившие его. Он не понял их значения и потому оскорбился.
У него, Антона, разумеется, взыграла ревность помимо его воли и уверений – в том, что он бы не противился ее выбору друга; однако он сказал ей такое скорее в пику: зачем же ей было спрашивать у него про то сокровенное, что ей самой хорошо известно и понятно и понятнее не может быть! Определенно Оленька была больна каким-то сложным девичьим чувством, какое он мог лишь угадывать по ее душевному настроению, и только. И что особенного он, Антон, мог значить для нее? Что постоянно бывал рядом с ней – и она не боялась потерять его? В этом он чем-то убедил ее безосновательно?..
Несколько минут он сидел на стуле молча, ждал. Потом все-таки спросил, как спрашивал у нее ее отец, притворяясь:
– Что-нибудь случилось? Скажи…
– Ничего. Отстань! – был ответ.
Но и моментально она спохватилась-оттаяла: жарко схватила руку Антона, прижала его ладонь к своему увлажненному лицу. Зачастила:
– Как ты, бедняжка, страдаешь из-за меня, дуры! Такой ты у меня милый, хороший. Правда! Лучше всех.
«Нет, интонация голоса фальшива, – насторожился еще больше Антон; – она ведь хотела сказать совсем не то, неудобное. Зачем лгать? Зачем? Молчу».
– А что бы ты делал, если бы увидал меня с другим?
Теперь Антон уж определенно знал причину ее мнимой болезни: либо она поругалась с этим «другим», что вернее всего, либо Антон оказался ей тут помехой.
А назавтра она призналась запросто:
– Все-таки какая я несчастливая: люблю карие глаза, и сколько не было знакомых кареглазых – все мимо.
– Кто он? – вопросил Антон.
– Неделю назад познакомилась. Да не смотри так на меня. Уже все окончено. Он – пятикурсник. В трамвае пристал, уставился на меня… «Сейчас выходите?» – спросила у него. – «Нет». Я прохожу и чувствую: он все время пристально оглядывает меня. Потом спрашивает сам: «Вы выходите?» Я чуть не рассмеялась: Забавно! – «Я решил тоже сойти. Вы – в кино?» – «Да, хочу на вечер билеты взять». – «А то пойдемте теперь». – «Нет, не могу». – «Поедемте в воскресенье в Ольгино». – «Нет, спасибо. Еду в Петергоф». – «Ну, я приеду в Петергоф». – И он знай идет за мной, хотя я ему сказала, что я уже почти замужем, можно сказать.
Выходит, Оленька всего не говорила Антону. Никогда.
– Это потому-то, значит, ты и просила меня позже приходить к тебе?
– Подумаешь! Что такого я сделала? Изменила тебе, что ль? Не нравится – не держу. Пожалуйста. Всего-то пять раз встретились. Он стал со мной на «ты», я ему и отказала – сказала, что у меня уже есть настоящий друг, чтобы он не преследовал меня. Чудной: все выпытывал, что я умею делать по домашнему хозяйству.
– Разумеется, жену себе ищет – не хочет прогадать…
– Да нет же! Нет! – Она говорила решительно.
В другой раз Оленька рассудительно досказывала своей матери:
– Золотой сервиз у них – вещь дорогая. Книги роскошные. Овчарка. Стоит полторы тысячи. Папаша получал больше трех тысяч. Продали бы все это, и Люся доучилась бы на дневном отделении института, оказавшись без стипендии. Пять месяцев всего и доучиться-то. А то собаку вдруг отдали знакомым за так; и теперь она, Люся, говорит, что пойдет работать и поступит на вечернее отделение. Сколько ж она заработает? Мать ее получает жалкие гроши… И – такая глупость! Просто поражаюсь…
– Такие люди не умеют жить, – вторила ей Мария Ермолаева. – У них запасу нету. Слетел – и все.
Будто подобное замечание касалось и Антона, он чувствовал, уязвленный.
Впрочем наладились и другие разговоры. А затем будто какая-то струна на гитаре оборвалась: слово за слово – и Антон и Оленька раззадорились.
Она, нахохлившись, встала с дивана, подошла к этажерке и, сев на стул, стала вытаскивать из глубин ее полок и с силой кидать на письменный стол разные книги, в которых она, видимо, остро не нуждалась. Две из них, а затем и еще одна упали на пол, перелетев через стол. Она, перегибаясь, подняла их и начала теперь раскладывать книги надвое на столе: должно быть, на нужные и ненужные для своей работы. Антон с интересом наблюдал за нею. Он достал блокнот и, сидя, стал в нем что-то зарисовывать. Она взглянула на него. Он улыбнулся весело. Она раскрыла одну книгу и поверх нее посмотрела на него, как ему казалось, презрительно. Еще презрительней она сделалась, откинувшись на спинку дивана и почти закрыв лицо книгой, – точно она разбирала тут в ней то, что не давалось ей сейчас так легко и просто.
Антон сосредоточенно смотрел на Оленьку. Видел точеный профиль ее лица и не мог понять, взаправду ли она это делает или для отвода глаз. Он видел, как на фоне голубовато-серебристой стены высоко и часто подымалась ее грудь, обтянутая серебрено-серым свитером; он даже видел теперь напряженную работу ее розового лица – нахмуренного. На нем ходили тени, и оно то светлело, то тухло, распространяя радужный круг. И казались глаза ее темными, сочными вместе с тенью от ресниц – верно, они были смочены слезами. Почему? И отчего? Неужели он, его поведение стали причиной этому?
Волной накатилась жалость к ней, такой беззащитной, неустойчивой в своих сомнениях, развеять которые Антон был еще в силах, стоило ему лишь почувствовать это ее настроение в несовпадении хода их чувств. Исхода не могло быть иного. Ничто покамест не угрожало им. Бессовестно было бы не видеть, не знать этого. Он подошел к ней, наклонил свою голову к ее лицу. Сказал нежно:
– Будь разумницей! Ну! Любовь моя… Свет мой!..
И прежнее равновесие в их отношениях мало-помалу восстановилось.
XIII
Картина же в квартире, где снимал Антон жилье, когда он вошел сюда, была самой привычно обыкновенной.
Хозяйка большой комнаты, Анисья Павловна, неся грязные тарелки на кухню (она кормила любимого брата), взглянула на Антона вскользь и, кажется, недовольно:
– Что-й-то Вы сегодня такой веселый?
Он сказал, что заезжал к Оленьке.
– Ах, вот отчего веселый!
Он нахмурился – и оттого, что она позволила себе словно бы подразнивать его, замечая все, и оттого, что отчасти она была права, а больше оттого, что она-то была равнодушна к этому, но говорила так.
– Ну, ладно, не сердитесь. Я нарочно. – Она смилостивилась.
Анисья Павловна родом была из коренной крестьянской семьи, привыкла с детства к самому тяжелому труду. Она самостоятельно прибилась к Ленинграду и, проучившись на технолога, работала ткачихой на известной ткацкой фабрике. Она не раз избиралась комсоргом цеха, возглавляла таких же молодых, отчаянных ребят-комсомольцев, как и сама. И, бывало, они, комсомольцы, по целым неделям не выходили за ворота фабрики: и ночевали прямо в подсобках, лишь бы успеть выполнить и перевыполнить взятые на себя обязательства. Такими порывистыми они были комсомольцами.
Во время послеблокадной эвакуации, в сорок четвертом, Анисья Павловна чуть ли не окачурилась, говорила она, оказавшись у дяди, в сибирской деревне, – с голодухи съела целый батон… Не уследили за ней… Дядя жил со страсть ревнивой женой и любимой охотничьей собакой.
И теперь она, одинокая, опекавшая лишь брата (у нее кроме него уже не было никого из родных), неподдельно сокрушалась:
– Я смертельно ненавидела его золовку еще тогда. Вволю нагляделась на ее штучки-завихрения. Нынче дядя написал, что у него (в немолодые-то годы!) из-за нее разрушилась семья. Когда уже сыновья женились, внуки есть, растут. И вот он написал что если бы не ушел от жены теперь, то, наверное, мог бы совершить преступление. Уж лучше на свободе, на воле жить, чем в тюрьме сидеть. Он-то – страстный охотник. За охоту, за охотничью собаку все решительно отдаст. А жена дурной, беспричинной ревностью измучила вконец его. Хуторские знали ее эту слабость и шутили иногда над ней; так, бывало, кто-нибудь скажет ей в шутку, например, что муженек ее с какой-то кралей в сарае, – она тотчас же хватает его ружье и на бегу стреляет. А тут, весной, она просто бабахнула из ружья в воздух. Покуражиться, видно, решила. Глядь, и бежит к ней его лучшая собака. Охотничья собака всегда на выстрел хозяина бежит. И злодейка со злости великой и шаркнула из ружья в собаку: убила ее наповал. Этого дядя не мог вынести, хоть и очень терпелив был.
– У меня после блокады ключицы дугами торчали – хуже, чем у балерины, – сказала Анисья Павловна верно, чем вызвала на миг у Антона то воспоминание о балете, увиденном им в Мариинке, и соответственно – о встрече с Оленькой, и он даже вздохнул. – Я страшно похудела тогда. И голова с тех пор болит-разламывается. И легкие не в порядке. А придешь к врачам – они с тобой как с гайкой обращаются. Как токари-скоростники. Быстрей-быстрей поворачивайся…
XIV
Дважды звякнул дверной звонок. За скрипучей темной дверью квартиры ждал странноватый тип молодой, спрашивал Антона, к его удивлению. И еще больше подивился Антон, увидав на пороге перед собой худого смущенного от своего визита Андрея Пасечного, товарища по флотской службе, бывшего старшину-сверхсрочника и большого любителя поспать, побренчать на гитаре и попеть в кругу друзей, девиц. Андрей как-то скоропалительно демобилизовался из экипажа по лету. К недоумению знакомых и явному неудовольствию его жены Татьяны.
Едва поздоровавшись и переминаясь, еще не входя, он болезненно-торопливо зашептал почти заговорщически:
– Антоша, выручи вновь меня, пожалуйста… Сколько можешь.. Больше не у кого мне занять… Мне опять не доплатила контора… Перед Татьяной стыдно признаться… понимаешь…
– Понимаю-то я хорошо… Коллизия!.. – Антон и сам перебивался на мизерную зарплату. Впору самому занять денег. Тем более, что Андрей не отдал ему еще прежний долг, пусть и небольшой.
Не ко времени как раз Евгений Павлович, брат хозяйки, для чего-то выглянув из комнаты, вопросил:
– Кто к тебе?
– Друг один, – дипломатично ответил Антон. – Не беспокойтесь…
– Так давайте заходите! Потолкуйте не в дверях… И не могу же я пить в одиночку! – закапризничал, ровно ребенок, мужчина, всегда насупленный, словно замороженный, работавший на заводе токарем.
– Да, зайдите, – позвала – ублажила брата – и Анисья Павловна. – Уж без церемоний.
Антон нехотя подчинился, насупившись отчасти: выходила ведь обыкновенная пьянка, убийство времени. Ни по какому-либо поводу. Откажешься от нее – будет кровная обида из-за того, что якобы ты чураешься всех, отделяешься от компании. Однако Андрей преотлично согласился подсесть к столу. И после стопки-другой Евгений Павлович разоткровенничался и бесстрастно стал рассказывать истории небезынтересные для Антона – собирателя ценных, исключительных свидетельств о минувшем.
Евгений Павлович рассказывал:
– Первый раз меня ранили в сорок первом в ногу, выше колена, в волховских лесах. Зимней ночью нас, десантников, выбросили туда, и меня-то еще на лету, пока опускался на парашюте, подбили: почувствовал, нога моя дернулась, и мне стало жарко. И я боялся неладно приземлиться – на пенек или кочку. Обошлось. И парашют еле-еле погасил. Санитар подбежал ко мне. Ну, а немец разве разбирает, кто – санитар ли, раненый ли или здоровый, если мирных и детей он колошматил, стерва; он бросит вверх ракету, раскроется парашют над ней, горящей – светло; ты поклонись земле, не то не уцелеешь враз. Мы с санитаром в лес насилу зашли. Посадил он меня под елку: «Через полчасика приедем, солдат, за тобой, ты жди!» Я что-то долго сидел, стал замерзать. Потом выдернул комель подходящий, побрел с ним наугад лесом. Не разберешь, где свои, где немцы; справа все трещит, бабахает, слева трещит – идет, словом, бой. Ночной. Темно. А ориентируюсь я, ребята, аховски. Только к утру стал выходить из кондового леса. Иду уже сквозь опушечный лес – едут встречь мне наши зеленые повозки. «Ты откуда?» – спрашивают возницы. – «Куда вы едете. А вы откуда?» – «Куда ты идешь» Такой занимательный разговор. У кого сухарик попрошу, у кого кусочек хлебушка. Так я наелся, подкрепился. Попался мне какой-то контуженный, чумовой солдатик. Пристал ко мне. Мне с ним – все веселее. С ним плетемся – и видим: какая-то постройка стоит – целехонькая; из ее открытой двери, на самом порожке, – ноги торчат – в солдатских обмотках и ботинках. Сразу подумал: «Тоже забыли, как и меня, взять; надо и этого бедолагу захватить с собой – компанией втроем-то легче добрести до медсанбата. Где-то он должен же быть…» Зашли мы в строение, а там оказались одни трупы. На порохе разогрел я застылую тушонку, почти поджарил ее, и того контуженного, чумового собрата стал подкармливать. Снял с одного убитого сапоги, примерил их; с трудом переобулся, чертыхаясь. Потом повытаскивали вон трупы из жилья – решили навести в нем некий порядок. Пол подмели. Тут чумовой закурил. Забылся да незагашенную папироску кинул в сор. Как все вспыхнуло в момент! Сор-то был с натрушенным порохом. Чумовой все позабыл. Он чуток замешкался – не ожидал такой развязки – и загорелась на нем одежда.
Насилу я выволок его наружу. Оттащил подальше от места пожарища. Потому как уже начали рваться гранаты от жары. И пули трещат. Наши, видать, решили, что это немцы ломятся; как дадут пулеметную очередь по кострищу – только щепки от крыши летят-разлетаются.
Что ж, наша хата-приют накрылась: сгорела дотла. И надо что-то делать, не толочься же на холоде. К счастью, подкатила к нам, остановилась какая-то полуторка; мы тут же осадили шофера (был он один в кабине): «бери нас, подбитых, – доставь в медсанбат!» Но он поначалу мурыжил нас: мол, приехал по другому заданию. И так, и сяк крутил – отговаривался. И бензин-то, дескать, кончился у него. А потом, когда мы все-таки нахрапом вскарабкались кое-как в кузов, повез нас двоих и отвез за восемнадцать верст за Ловать. В медсанбат. Ну, здесь, в жилье, горячая печка, сделанная, естественно, из железной бочки, пышала; здесь и погрелись мы – проваландались – двое суток.
Я-то наивно думал по приезде: сейчас же медики и осмотрят нас. Но – какое! Через же двое суток шлепнули тряпку мне на сморкалку, велели: «Считайте до трех…» И уж ничего не помню. На спинку меня и в палату. После по физиономии меня, говорят, били – разбудить не могли.
Так я оказался в госпитале, что находился на Вятских полянах (возле города Киров). Кормили там нас, пациентов, чаще всего овсянкой. И я все подряд мел. Если, бывало, сахарцу нам давали, – один сосед просил у меня дать ему немного. И я делился с ним. Только так и остался сладкоежка на лечении тяжелораненым, а я по-скорому возвратился в боевую часть на фронт – уже на другой. Короче, летом сорок второго года дислоцировалась она под Вязьмой, где меня и ранило вторично. По-глупости.
Я был неосмотрителен. Накануне-то днем я запросто прошел разбитой деревенской околицей – никакой стрельбы. А на другой день пошел таким же образом – пульки просвистели мимо меня: чжик! Чжик! Подумал я сперва: верно, наши солдаты ошиблись – чудят! И не хоронюсь еще. Нет, опять стреляют прицельно по мне. Я пустился в перебежки. Прямо в каску мою стукнуло рикошетом, каска даже нос мой задрала: кровь закапала. И тогда я по-пластунски пополз. По конской канавке, где погуще трава. Немецкий снайпер выстрелом, – должно быть, за тысячу метров был, – стукнул меня в позвоночник. Метко стрельнул, стервец! Но, видно, не совсем рассчитал: у меня за плечами был вещевой мешок – задело и его. Голова моя запрокинулась, и ноги вскинулись; немец, верно, уже решил: «Ну, русский солдат готов! Тю-тю! Еще один…» Мне в ноги отдало-ударило; тепло стало, не больно. И только подумалось мне, что с моими ногами что-нибудь опять стряслось. Но подвигал ими – ноги целы. Тогда я бочком, собрав силы, уюркнул в ближнюю рожь. Спохватился немец – только пули засвистели надо мной. А где там! Ищи-свищи! Ко мне свои подбежали, оттащили меня в более безопасное место. Тут санитар попросил у меня отдать ему наган: ему надоело (очень неудобно) бегать с громоздким автоматом – и подбирать, выволакивать раненых.
Скорчившись в окопчике, я часа три ожидал вывоза. Наконец прикатила повозка. Бежит ко мне санитар: «Ты громче кричи, чтобы тебя услышали и нашли». Закричал я… Троих нас, подстреленных, поклали в повозку. До лесочка лошади плелись шагом. А в леске немцы массированно обстреливали дорогу: были ближе к ней. Ну, и там в одну руку кнут, в другую – вожжи (при паре-то здоровых лошадей) – галопом пролетели версты три. Растрясло нас по кочкам. Мочи никакой уж нет! «Остановись-ка, теперь, малый!» – просим накрик ездового. «Подождите, – кричит он. – Еще нельзя. Простреливается пока местность…»
Анисья Павловна, воспользовавшись моментом, присудила:
– Да, люди руководствуются правилом: кто кого смог, тот того и с ног. А властители всегда норовят всех под копыто свое загнать и каждого этим своим копытом по башке дернуть. Дурной век такой.
Гости помолчали чуточку из уважения, и вроде бы обдумывая сказанное.
После новой стопки Андрей заторопился, словно спохватившись, что не успеет высказаться «по душе», и исжаловался в основном Евгению на тамошние непорядки и условия, что он после службы не может прилично жить и зарабатывать и что нет у него никакой профессии. А посему он, помытарившись, решил – и заявил вверную, – что завербуется на Колыму, туда, на золотые прииски. Может, тогда будет дело для него. Евгений не спорил с ним, говорил ему:
– Давай, брат! Шуруй!
Когда они вдвоем, слегка навеселе, вполне приличные, уходили, почти обнявшись и напевая что-то приятное, приличное, Антон сунул в карман Андрею лишь один червонец.
Перед сном Антон с любопытством перелистнул обтрепанную книгу в темном переплете, ту, которую нашел в подворотне, оброненную кем-то. То был учебник «Систематический курсъ древней истории» выпуска 1900 г. Раскрыв на закладке пожелтелой, Антон прочел: