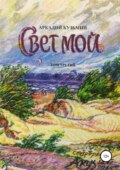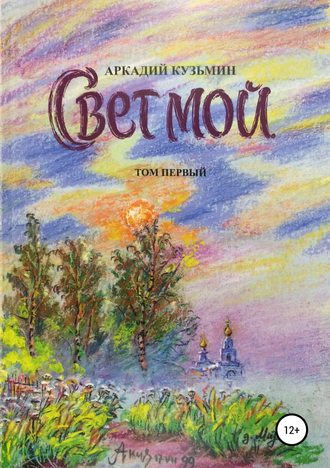
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 1
Известный двухэтажный дом, занимаемый теперь фашистским ставленником, главой города, назывался Чертовым с еще дореволюционных времен. Был такой прецедент. При строительстве его заказчик – купец неуступчивый – явно поскаредничал: уплатил строителям меньше, чем они запросили. И те в отместку при кладке стен потайно вмуровали в них пустые бутылки. Поэтому в ветреные дни весь дом наполнялся неприятными звуками завыванья.
Однажды, не нашедши вывешиваемых списков здесь, на обычном месте – признак прекращения поблажки горожанам, Наташа и Антон в тоске направились за Волгу – на ту сторону города: сказывали, будто видели списки там где-то на Советской площади.
Только перед самым волжским мостом, у которого, на берегу реки, еще лежали неубранные тела казненных, им встретилась молодая тетя Дуня, которая везла на саночках за собой маленького Славика. Они все обрадовались такой нежданной встрече. Поздоровались любовно, отошли чуть в сторонку от дороги и остановились.
– Тетя Дуня, вы куда?
– А вы, ребятки, зачем шли сюда?
– Хотели списки пленных проверить. Говорят, они есть на Советской площади.
– Я – оттуда. Их уже нет. Хочу дойти до Чертова дома. Посмотреть…
– И здесь списков тоже нет.
– Ну, а к лагерю мне далеко… Так что вернусь… – Тетя Дуня привздохнула.
Она прежде работала парикмахером в парикмахерской на этой городской стороне, хотя и жила на той, за Волгой. И нередко к ней на работу заходили ребята Кашины, и она ловко подстригала им волосы на голове, работая машинкой и ножницами.
– Тетя Дуня, так ничего и не знаете о Станиславе, муже? – спросила Наташа.
– Наташенька, ничегошеньки, – сказала тетя Дуня. – Знаете, я ведь со Славиком опять перебралась в свою квартиру из-за того, чтоб не разминуться с ним, если он вдруг появится… Но, наверно, он погиб там, в Эстонии или где-то еще… Попробую еще… Схожу потом к лагерю…
– И туда уже не подпускают близко…
– Да, мы со Славиком одни… Страшновато…
– Крестная, ты к нам приезжай жить. Со Славиком. У нас дом большой. Будет легче всем. Мама вспоминает о вас, говорит и молится.
– Наташенька, я подумаю. И наверно переберусь. Ну, поеду к себе. До свиданья.
С тем и расстались.
После бесцельных хождений туда-сюда Наташа и Антон сунулись к месту нахождения лагеря и их, как и других пришельцев-горемык, уже не подпустили немцы близко, отогнали от лагеря прочь. Видимо, из соображений строжайшей изоляции пленных красноармейцев, которых выводили за лагерные ворота лишь на различные работы. Тот факт, что военнопленные заметно исчезали из-за колючей проволоки благодаря и содействию жителей. И все же отчаянно-непослушное население, не взирая и на строгий запрет оккупантов, стремилось использовать-таки любой удобный случай для того, чтобы каким-то образом освободить бойцов, содействовать их побегу из лагеря.
Анна же тем сильней беспокоилась за судьбу Василия, словно кто без устали нашептывал и нашептывал ей черные слова и предрекал еще самые тяжкие невзгоды, какие предстояло ей пережить. Она было укоряла детей за нерасторопность – что не могут найти своего отца. Однако что они могли сделать, чтобы облегчить ее душевные страдания? Да ровным счетом – ничего-ничегошеньки. Такое было время.
V
Одним серым морозным днем в избу к Кашиным влетела тетя Поля – покраснелая, с воспаленно-красными глазами. Она, выпалила запыхиваясь:
– Гонят! О господи! Только что от станции отогна-а-али… Сюда… Родимые!.. Бежала я… Чтобы вам сказать… Успеть… – Всплакнула. И, сжав руками голову с выпроставшимися на висках из-под серого платка седыми волосами, упала на скрипнувший стул. Заморгала и морщилась то красневшим, то бледневшим грубоватым лицом.
Ее теперешняя убитость подавляла всех.
И почудилось Антону, ее другу, что прямо на его глазах сию же минуту стала прибавляться у нее седина; и он поспешно, жмурясь, даже отвернулся на мгновение. Вероятно, так и старели прекрасные душевные люди, укорачивалась их жизнь. Потому как тут была жестокая правда: не годы их старили, а горе.
Издала опять Анна слабый стон со слезной просьбой:
– Может, сбегаете вы в Абрамково – отца, авось, опознаете?.. Антон, Саша!..
Лучше бы она не напоминала им об этом! А! Что с нею разговаривать. Не переубедить ее никак. Мысли ребят вновь взвинтились. Ни Наташи, ни Валерия как раз не было дома: молодежь немцы выгнали на работу; так что Антон вместе с Сашей в лад накинули одежку на себя и понеслись стремглав, слов почти не пророня, на бегу запахиваясь и застегиваясь и прикидывая в уме все, что можно прикинуть впопыхах. Но только бы успеть – вот задача.
Красноармейцев, сказывали, перегоняли по абрамковскому тракту под Осугу. А оттуда их вроде бы переправляли по железной дороге в Германию или куда-то еще.
До Абрамково бежать – далековато. А пробежали братья продуваловские дворы – свой крюк деревни – и как открылось виднее взгляду это редко застроенное Абрамково, то в просветах его крайних к станции изб уже видно заколыхалась черная масса идущих. Ну, не добежать туда вовремя. И пустились отсюда братья ровной снежной целиной наперерез, прямо через овраг. Выбежали они дальше, между самим Абрамковым и дремотным садом, где, среди берез, лип и тополей, одиноко чернела вторая ромашинская заброшенная школа; они поспели сюда, аж с опережением колонны: ее жуткая гармошка едва только выдвинулась из-за изб абрамковских.
Пленным, видно было, там еду кидали бабы, дети, и слышно было, как немецкие конвоиры не давали, кричали на всех, погоняли, будто животных каких.
Антон и Саша остановились с разбегу. На обочине дороги, тяжелейшей, заносной…
– Здесь постоим, – выдыхнул кто-то из них, клацая зубами от непривычности того, что предстояло увидеть
Да, все было вот, наяву; братья с ясной отчетливостью, застыв неподвижно, видели все. Все недетское их внимание было сейчас отдано открыто совершавшемуся на глазах у них.
Слышалось мерно нараставшее шарканье по закованной дороге сотен и сотен подошв передвигавшихся пленных красноармейцев, и от этого лишь шарканья мороз подирал по коже (настоящий же мороз потому, должно быть, и не чувствовался нисколько). Шествие на большаке действительно было леденяще жутким, неправдоподобным, никогда еще не виданным зрелищем. С мрачной молчаливостью сбитыми рядами насилу двигались одни уже развалины с потухшими глазами, иссохшие, в изодранной и грязной амуниции, обутые во что попало и почти разутые, а не те живые и красивые, сильные и смелые воины, какими они несомненно были прежде. Саша и Антон хорошо запомнили, например, какими провожали их на фронт летом…
Они, дети, пропалывали колхозный лен за деревней и, внезапно услышав переливистый паровозный гудок над перелеском, сорвались дружно с поля и через канавы, кустарник, пни, коряги, выбежали к железнодорожной насыпи. И эшелон с бойцами, теплушки в маскирующих зеленых веточках берез, надвинулся на них громадой вместе с чем-то грустно новым, немирным: он будто, подхватив, понес их с собою вдаль по звенящим рельсам. В тот момент, как они растерянной кучкой стояли внизу у насыпи, махали руками и кричали: «До свиданья!» своим отцам и старшим братьям. А бойцы пели сурово что-то и ответно махали им. Быстро прогромыхали мимо ребят вагоны. По-прежнему светило, грело солнце. Но уж словно вихрь прошел в растроганных детских сердцах…
Да каким же духом еще живы были эти пленные? И, должно быть, еще велико в них было присутствие духа, если они все-таки передвигались, чувствуя наверное, кто из них уж не жилец на свете, – или желт, как тыква, или бел, как полотно, – и в последний-то, следовательно, раз идет по родной земле, закованной морозом, и гулко отдаются в сердце те последние, тяжело дающиеся шаги.
А фашистские солдаты, повыставив, как водится, перед собой оружие наготове (долговязые зеленые фигуры теснили с двух сторон колонну), надменно, резко покрикивали на пленных:
– Schnell! Schnell! Schnell!
И еще прикладами – чтобы те шли быстрее – подталкивали в спины. Отдавались звуки ударов.
А ведь это были не какие-нибудь безликие существа вредоносные, а люди гордые, они имели жен, матерей, детей и невест; ведь унижали их человеческое достоинство – самое ужасное, что можно было придумать.
Куда их гонят? Зачем? Почему же так жестоко? Кто повинен в этом? И чувствуют ли за собой вину исполнители этой жестокости – немецкие солдаты? – все эти вопросы, кажется, застыли ужасом в раскрытых глазах подростков.
Этого нельзя забыть за давностью. И нынче только наши явные недруги, недоброжелатели могут высказывать холодное удивление по поводу нашей памятливости. А иные из завоевателей-мучителей еще жалуются перед телекамерами о том, как их, невиновных ни в чем, попавших в плен, русские держали за что-то в лагерях и еще заставляли работать, тогда как они нисколько не хотели этого. Они расисты, эти полунацисты, могущие позволить себе жениться и на полуеврейке; но политика-думка у них одна, незабытая: сейчас подождать, а потом еще посмотреть… Авось опыт русской компании с проводимой в ходе ее массовой жестокостью еще весьма пригодится им…
Позвякивая железками, прорысили на лошадях вперед, в голову далеко растянувшейся колонны красноармейцев, двое щегольских немецких офицеров. Пахнуло резким конским потом. Лошади убраны специально для прогулок: в тщательно подобранной с бляшками, сбруе. Под всадниками плясали. Видно было по всему, что и верховые, не скрывая, гордились собой в такие вот минуты, гордились своим щегольством и считали очень важной свою миссию, потому как уверенно, красиво скакали здесь, звеня всякими железками, навешанными на лошадках и на себе, и властно отдавали на скаку приказ пленным и конвойным:
– Schnell! Schnell!
И еще усерднее пошла экзекуция пленных: опять раздались тупые удары прикладами в спины бесстрастно онемевших мужчин и крики немецкой команды.
Ужасно!
Ни Антону, ни Саше отроду не доводилось быть свидетелями такого. Так как же следовало вести себя. Они до ощутимой рези в глазах всматривались в лица шествовавших – не потому, чтоб признать своего отца; но не могли ни тронуть, ни прикоснуться к тем, кто истомленный, в серой истрепанной шинели, рядом с ними проходил. А как им хотелось хотя бы подбодрить гонимых, чтобы на сердце и у них самих как-то полегчало. Здесь сама история невинными ребячьими глазами все судила. Пристально смотрела. И запоминала все.
Антону тут почудилось, будто кто-то совсем рядышком, почти над ухом, прошептал охрипло, явственно: «Ну-ну, парень, помнишь ли мой фонарик чудненький?» И было оттого ему стыдно, страшно перед пленными – в каждом из них, проходившем мимо братьев, ему мерещился именно тут боец, кинувший ему из-за колючего ограждения злополучный сей фонарик. А он взамен мало снабдил его капусткой с поля: испугался попросту. Стыд какой! Позор! И казалось при этом, что глаза каждого гонимого опять буквально кричали ему: «Что же ты, малый, никак не узнаешь меня?! Ведь это я иду, вглядись-ка хорошенько. Ну!..» И немо укоряли его за мальчишескую трусость позорную: ведь он был вольней, свободней их – мог и не пугаться вовсе окриков…
И будто что толкнуло братьев: прокатился позади колонны выстрел.
Мало ль выстрелов уже слышали-переслышали. Они завсегда теперь раздавались везде. Но тут-то зачем? Что такое там? И там-то, на пригорке, откуда сдвигался сюда хвост колонны, стали судорожно разбегаться деревенские жители. А здесь пленные бойцы шли и шли, отринутые от всего, – и словно слыхом не слыхали ничего, никакого выстрела и нисколько не догадывались ни о чем. А немецкая машина, известно, была запущена в ход и работала исправно-чисто, не знавала перебоев по части душегубства. И словно ватой у пленных были заткнуты уши – они шли. По четверо в ряд. И только б не отстать и не упасть; не дай боже, чтобы отстать или упасть; это они знали уже лучше местного населения. И, может быть, потому на некоторых их тусклых, посинелых и землистых лицах точно застыла неземная отрешенность. Да, когда-нибудь люди изучат даже абиссали глубин океана, но нескоро еще будут изучены абиссали глубин человеческих. Да и возможно ль это?
VI
Антону было невмочь чувствовать свою беспомощность.
Он весь уже дрожал в напряжении, вглядываясь в опущенные заросшие лица пленных, что и не заметил, насколько вероятно, недозволенно близко продвинулся к самой колоне, так как один из конвойных что-то резковато крикнул, видно, на него, чтоб он отошел прочь. Но ему показалось, что немец был недоволен ближайшим красноармейцем, чуть нарушившим строй. Однако следующий конвоир, дойдя досюда, молча ударил чем-то Антона и отбросил с дороги, так что он отлетел в глубокий сугроб и сел, озираясь.
С досадой, удивлением и возмущением пришел в себя Антон от тычка, отвешенного ему тоже, видно, впрок. Ни за что другое приласкали тумаком. Ведь – по справедливости – он не грозил ничем гонителям, он, не сделавший покамест еще никому, кажется, ничего плохого, совестливо (тайно от других) лишь мечтавший до сих пор о большой любви к другим существам. Ему было очень жалко обижаемых. А у самого от этого обыкновенно вся душенька тряслась…
– Дурак же! – чертыхнулся он, еще сидя мягко на отлете.
А над ним по-прежнему, затемняя отполированное белое пространство, нависшей, колыхавшейся массой порядно с шарканьем перемещались почернелые спотыкавшиеся пленные. Но уж зарядило, засветлев, в глазах у него. Может, оттого, что уже отодвигались влево их ряды: шествие кончалось, уползало дальше; а может, и оттого, что дергал Саша за рукав шубейки – помогал брату подняться, – и все качнулось перед ним неуловимо. В образовавшемся просвете перед братьями закачалась от слабости крупная фигура оборванного замыкающего красноармейца, который, идя ближе к тому краю большака, отставал, и на него-то все осатанелей, злей налетал невысокий конвоир, подталкивая его вперед прикладом карабина – самым испытанным у немцев способом.
В этом заключалась тут главная работа немецкой солдатни. Солдат был соединяющим звеном в цепи производимого гитлеровцами насилия; и если бы он почему-нибудь вдруг прекратил свое гнусное дело, или хотя бы чуть ослабил свои усилия в выполнении его, – эта цепь гнусности и подлости, естественно, распалась бы сама собой. И преступлений было б меньше.
Замыкающий конвоир действовал почти молчком, слов не тратя, – намеренно, определенно, точно. И, видимо, не ошибался он в понимании необходимости и важности того, что делал по приказу или без него. О том говорил гнусный прищур его глаз.
И снова последовал какой-то тихий толчок в самую-самую грудь Антона, не могшего уж не досмотреть, чем все это кончится, хотя стучало у него в висках и он понимал, что смотреть нельзя, хотя и Саша мешал ему тем, что сквозь слезы, почти плача, пытался тащить его куда-то за рукав.
Обессиленный пленный заметно сбивался, отставая; он хоть и большой, как скала, от одного дуновения воздуха качался. Шедший же с отступом от него в трех шагах конвойный, жалкое слепое создание в буквальном смысле (немец собою невзрачный, белесый, недоросток даже – был с полтора наперстка ростом), дважды снова методично стукнул прикладом его, ощерившись, в озлоблении великом. Они точно играли в кошки-мышки. И, по-видимому, красноармеец все понимал – потому спешил слушаться экзекутора, желая убедить его в том и, возможно, лишний раз таким образом убедиться самому в чем-то очень важно-жизненном. Однако у него уж не получалось ничего, вопреки желанию: напрочь силы все ушли, иссякли, оставили его. Это было так печально. И пока он еще что-то мог, он еще шагал навстречу неизвестному. Без излишней напоследок суеты. Это, очевидно, пуще злило немца; злило пуще его то, что русский, выходило, уж ни в какую не боялся его, гонителя, у которого он был в руках вместе со своею жизнью.
Такой исход на большаке пугал братьев Кашиных. Они, словно позванные кем, с дрожью последовали сбоку уходившей шкробавших колонны пленных.
– Эх, пан, я пойду, пойду, – слышно с укоризною красноармеец бросил за плечо – вымороченному немцу-приставале, признавая сейчас власть за ним, непонятней называя его даже «паном».
Но все больше, не справляясь с ходьбой, отставал от своих товарищей. Катастрофично.
И тогда маленький немецкий солдат, сильный в смелости, что генерал, окончательно и самостоятельно решил казнить русского солдата – зачем миловать военнопленного? Он перешагнул пролегшую справа канаву придорожную, зашел справа с той западной стороны, и на ходу, развернувшись туловом сюда и уперев карабин прикладом в плечо, поднял черный карабинный ствол почти в упор на уровень пленного виска (прямо в направлении кашинских ребят) и по-деловитому нацелился…
«Что это?! Зачем?!» – только и успел сообразить Антон, как уж что-то сделалось. Кончилась игра.
Обычного грохота выстрела Антон будто и не слышал, а почувствовал внезапно, что запахло порохом, чем-то подпаленным. То ли дым пороховой задрожал перед ним, расходясь; то ли в дыме эта глыба человечья дрогнула, словно споткнувшись всерьез и подавшись несколько назад. Нет, именно она дрогнула. Судорожно дернулся красноармеец, качнулся, глотнул ртом воздух, точно рыба, вытащенная из воды. Шагнул еще телом вперед, – ноги у него уже подогнулись сами, – и скалою рухнул наземь – без стона или вздоха, точно стало ему легче, лучше. Рухнул весь – и куда-то провалился вмиг. Такое было впечатление. Все это считанные секунды длилось.
И как будто голубь, облетев круг от того места, где упал боец, трепетно коснулся крылом своим свидетелей-братьев. Они оба почувствовали нечто похожее на то.
И тут ребячьи взгляды скрестились со взглядом хладнокровного, профессионального убийцы в серо-зеленой шинели.
Но были у того две ничего не выражающие дырки вместо глаз, дырки, вот и все.
Свой карабин он, опуская замедленно, покрутил в цепких руках, задержался еще на какое-то мгновение да опять замедленно взглянул, как в прорезь, на неподросших еще для его мужского дела подростков и, нахмурясь, отвернулся. Догонять колонну стал, с твердостью ступая в сапогах по чужому закованному тракту. Сытый, живой, довольный и не сомневающийся ни в чем. В возрасте под тридцать лет.
И казалось совершенно немыслимым продолжавшееся молчание пленных, не взроптавших даже после потери еще одного своего товарища. Они, молчаливо сносившие удары конвоирские, словно вполне согласные с расправой, ничем не проявили беспокойства о жертве; они лишь старались не отстать, чтобы, следовательно, избежать того же самого, или, по крайней мере, не видеть ничего такого, и чтобы, значит, не расстраиваться очень, не сломиться прежде времени и не обречь себя тем самым тоже на верную смерть. Умирать зазря никто не хотел.
VII
Отставшие Саша и Антон, не дыша, подвинулись и заглянули в параллельную с большаком канаву, о существовании которой они было забыли с перепугу; красноармеец-то в нее свалился и, что поразительно, оказался жив! С окровавленным лицом и большими голыми руками, барахтаясь в сугробистой канаве и окрашивая белейший снег в ало-красный цвет, он мычал как-то бессвязно и пытался встать. Под головой его, пропитываясь кровью, снег подтаивал, как сахар; таял он, хоть и морозно было все-таки, и под его елозившими как бы наощупь кургузыми руками.
Раненый, опоминаясь постепенно, наверное, в полной мере наконец сознал опасность все-таки быть убитым непростительно – сознал после того как отчасти понял, что его так неожиданно убили и еще живого сбросили умирать в холодную скользкую могилу, откуда ему уже трудно встать и выбраться; видимо, он более всего испугался известной этой неизвестности и своего бессилия, усиленного болью, страхом, ощущением, а еще в полубеспамятстве, как во сне, скорее как-то бессвязно замычал, чем закричал и застонал, не зная, будет ли ему от этого лучше.
В потрясении тем большем дети стояли над ним, барахтавшимся, точно на самом краю разверзшейся пропасти, – стояли, с тоже отнявшимися языком, ногами и разумом. Не сразу они нашлись, очухались, прежде чем что-либо сказать бойцу и сделать по-человечески. Да и не были они совсем уверены в том, что он, раненый, будучи в шоке и в состоянии бесконтрольности своей, способен хоть видеть сквозь кровавую пелену, слышать и понимать их. Хуже, если он, почувствовав их присутствие, мог подумать, что это вернулись немцы, чтобы добить его, и потому и замычал, словно сильней еще.
Обретшие наконец дар речи братья умоляли:
– Дяденька, родной!.. Дяденька, пока лежи в канаве тихо; если можешь, полежи…
– Вон гады оглядываются – ведь заметят. Могут дострелить.
И хотели-то перво-наперво слетать за тетей Полей, чтобы с ней порассудить, как тут быть.
Когда словно в подтверждение самых худших их опасений там, в колонне уходившей, вскинулось какое-то движение; кто-то резво, бегом отделился от нее и, перемахнув канаву снеговую, метнулся прочь, к деревьям, закрывавшим школьный сад. За бегущим кинулся конвоир, другой. Бухнули два выстрела. Но обезумевший, видимо, пленный мигом очутился почему-то на ближайшем тополе, по его стволу лез все выше. Уже не спеша подошли туда его вооруженные преследователи, снизу нацелились в него… И вот тело нелепо, ломая тополевые сучья, соскользнуло вниз и упало. Поднялся белый султан снежной пыли. С беглецом было покончено.
Оглушенные здесь пальбой, деревья сбросили с ветвей голубое покрывало инея, оголились, почернели… И западал снежок, словно желая скрыть от ребят то, что не должны были они видеть и чего вообще-то не должно было быть у людей. Снежок таял на словно обугленных руках, шее и лице притихавшего раненого, – он, полулежа, сплевывал кровь.
И Антон спросил, еще не веря, обрадованно:
– Дяденька, ты как? Слышишь нас?
– Ну-ну, – как будто прохрипел тот со стоном легким. – Эх, переносицу, должно, расквасили они мне. Язви их в сердце!.. Прощай, любовь!..
– А ползти ты сможешь? Видишь?
– Ну, теперь смогу, пожалуй, сам… Поползу и встану…
– Не сейчас – ты полежи в канаве две минутки; пусть подальше немцы отойдут… Мы крикнем тебе.
Конвоиры будто услыхали этот сговор: поостановились, повернули сюда головы… Ну, собачий нюх!
Крикнули они с угрозой.
– Weg, рус! Schnell! Schwein, weg! – Стволом карабина отмахнули: прочь, скоты, мол.
Они. Ясно, не давали тотчас даже хоронить убитых. Не в правилах их лютой компании.
– Чуть погодя, переползай прямо большак и – в сад, – второпях договорили мальчики. – Там пустует школа… Мы – сейчас… – И уж, послушно пятясь, поскорей (чтобы, главное, не погубить красноармейца, да и себя самих) ретировались.
А вернувшись вскоре снова на большак и зайдя в пустующую школу, братья Кашины уже не обнаружили красноармейца, а видели его след: так, на полу разметанной школьной кухоньки (здесь недавно жила семья учительницы) валялись свежеокровавленные тряпки, крошки сухарей… По всей вероятности, раненый не стал задерживаться близ дороги долее, чем нужно: найдя в себе силы, он быстрехонько перевязался и ушел куда-то дальше.
Редчайше человеку повезло, что его спасла канава: к счастью, конвоиры не заметили, как он в ней барахтался, когда был без памяти. Они не раз так добивали раненых, если те шевелились.
После было и такое. Из второй партии перегоняемых военнопленных также повыскочил один беглец неразумный, запетлял за двор. Немцы, стреляя, кинулись за ним. И стоявший вблизи Гриша шестнадцатилетний, испугавшись вдруг, тоже побежал от них. Конвойные и его схватили, затолкали, хотели тоже застрелить. Как и того пленного, не успевшего зарыться в солому. Насилу бабы вырвали парня у них.
И еще твердили гитлеровцы о своем признании только приемлемых ими для себя правил ведения этой войны: дескать, не смей и не моги ты, противник, сражаться с нами и защищаться так, как ты можешь и умеешь, а лишь стоя на коленях перед нами и прося у нас пощады.
VIII
8 ноября легко-морозно блистали всюду волны свеженасыпанного снега, зеленился свод небесный. Антон, разогревшись, в проулке загребал лопатой и откидывал снеговые вороха, разлетавшиеся жемчужной пылью, – расчищал дорожку около большого двора. И вот сюда забрела одна серо-зеленая мумия с карабином – с посинелым лицом, замотанная вся, – слоняясь на часах, обходила непустые немецкие грузовики и повозки, понатыканные подле изб. С подозрительностью щерила глазки. Антона это раздражало. «Что, камрад, ты собой доволен?» – не терпелось ему поддеть того словом. Как разлился до земли, что от звучащей струны иззаоблачный гул одиноко летящего самолета. Только странно, что этот звук был каким-то отличительно красивым, переливчатым; он ничуть не пугал, не нес в себе признак возможной быть опасности для людей, напротив. Может быть, потому, что шел извысока?
– Was? Deutsch? – Антон тотчас разогнулся, чтобы отдохнуть немного, запрокинув голову, отыскивал глазами в зелено-синеющем разливе неба самолет. – Ну, конечно же, немецкий! Наших самолетов почему-то нету. Уничтожены, что ли, все? – Он обращался к часовому.
– O, ja, ja! – самодовольно-мерзко подтвердил тот, угрюмый молодой солдат, притопывая в сапогах негреющих, задубевших.
– Думаешь, что все: «Rus уже kaput? Вы ей свернули шею?» – И, Антон, отстранив от себя деревянную лопату, очень понятным жестом показал тому так, как привычно его собратья сворачивали шею изловленным ими курам. – «Так?»
– Ja., die Sache klapt, – оживился часовой.
– Nein, дело еще не сделано, kamrad. Увидишь…
– Das leuchtet mir ein.
– Nein – nein, это ты не понимаешь ничего. – Антон, уже иронизировавший над напыженностью солдафонской немцев, по-мальчишески пускавший в них словесные занозы в пику им, вновь голову задрал – проглядывал небо. – Где же он? Да вот где… Видно хорошо…
Пролетавший на восток бомбардировщик, однако, так и привораживал к себе его, Антона, взгляд; видимо, от солнечных лучей и также в отражении от набело заснеженных полей самолет был лучезарно-серебрист и, словно невесом и легкокрыл. Да неожиданно зашлепались вокруг него и с некоторым запозданием запукали – шарообразно-ватные купола разрывов зенитных снарядов. Значит, чудо: самолетик-то оказался нашим!
– Видишь: ведь советский полетел обратно, – взволнованно, с небрежностью уже сказал Антон отупевшему немцу. – Ну, кумекаешь?
Грел морозец щеки Антона, и они горели.
И еще он заметил, что от бомбардировщика, будто отделились-проблестели чешуечки, или струйки, серебра, но не придал этому никакого значения, тем более, что эти струйки тотчас и пропали, развеялись из поля зрения, в то время как летящий самолет еще обкладывали белые шапки разрывов, и возникла боязнь за него.
Когда ликующий Антон заскочил в избу, он застал здесь, похоже, диковинную мессу: перед Анной и иконами, стоя и крестясь, торжественно, молодо и страстно читал нечто молитвенное, церковное, или собственное, сочиненное благообразный священнослужитель, дьяк, знаток своей профессии (что выдавали внешняя смиренность в его обличье и духовная риторика). Это был, вероятно, один из побирающихся ныне церковнослужителей – с обнаженной залыселой головой и с заплечной холщевой сумкой на лямке.
– Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы благоверным людям на супротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство, – прочел дьяк. А затем другое: – Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небесе данный, прилежно молю тя: ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.
Даже трехлетняя Танечка притихла за столом, положила по-взрослому ручонки и наблюдала с удивлением то за бородатым дядей, строго читавшим что-то, то за прослезившейся отчего-то мамой; посерьезнели Вера и Саша, только что выстругивавший ножичком какую-то самоделку.
Уже появились слухи о том, будто бы некоторые ржевские попы присягнули новой, оккупационной власти; отказавшиеся же ей присягнуть и сотрудничать с ней церковники были казнены, несмотря на их духовный сан. Что будто бы во Ржев уже Гитлер прилетал и он-де высказал свое желание: именно на месте Ржева потом сделать русскую столицу, а Москву сравнять с землей. И правда была та, что немецкие солдаты уже весело поговаривали о том, что им дан приказ превратить и Москву в доподлинный пустырь.
Отчитав молитву и не двигаясь с места, неизвестный дьяк мял в руках потрепанный заячий треух.
Анна стыдливо, опомнившись и опуская глаза, поблагодарила и сунула ему в ладонь протянутую три картофельных лепешки, ломтик хлеба и ломтик сальца.
– Чем могу отблагодарить – не обессудьте нас… Обобрали уж… Самим нечем жить. При стольких-то ртах…
– Вижу, матушка, не мучься. Да спасибо за какое ни на есть вспомоществование, каким поделилась ты… Поклон тебе низкий. – Поклонившись, гость запустил в суму, как в большой карман, принятое подаяние.
– Много вас, просящих, теперь ходит так… Обездолен люд совсем.
– Потому я говорю вам: единой верою служите избавлению от супостата. Знайте и носите в своем сердце правду. Волюшка воротится вместе с зарей.
Глубоко вздохнула Анна:
– Ночь настала, зачернила все; не мережет свет. Суженых не видно. Долго ждать, наверное.
– Матушка, не убоись. Москва живет, она не склонит головы. Да придаст бог силы матерям и всем мученикам. До свиданья. – И он ушел, точно растворился. Точно его вовсе не было. А было это лишь одно какое-то знамение, неспроста явившееся к Анне.
Анна вслед ушедшему перекрестилась, устыдившись, пожалев его в душе. Ведь если по-серьезному считать, хотя она до революции заучивала в школе, культивировавшей православие, догмы богословия – закона божьего, она в жизни дальше этого не пошла и не стала истинной верующей патриоткой; никакого времени у ней не оставалось от хозяйства, колхоза, огорода и семьи для того, чтобы постоянно много и разумно, на все откликаясь, веровать в религии, подобно иным послушницам.
Она также и сейчас смотрела на культ вероисповедания, ближе не подвинулась к нему, как ни невзгодилось повсюду. Но, как и многие отчасти молившиеся женщины, она, видимо, по чисто бабьей привычке и слабости (боялась все порвать) также придерживалась лишь частично бытовой веры; старалась как-то соблюдать, но не соблюдала здесь все привычные обряды. Они, маловерующие по существу, ходили в храм для того, чтобы службу посмотреть, послушать песнопение, все равно что на занимательное массовое представление или в кино, или же на девичьи посиделки; так, слушая церковных утешителей, молилось – только от случая к случаю, как придется, – большинство молившихся. И крестили еще детей по заведенному некогда обычаю, чтобы, не дай бог, ребенок не был и не умер некрещеным, – будет грех. И своих ребят Анна туда, во Ржев, таскала, чтобы окрестить. Ей вспомнилось: раз еще Антон махонький на обратном пути домой жаловался со слезами, что устали ножки – не идут и приседал, и оттого-то, должно быть, у него в паху образовалось вздутие-желвак. Потом он рассосался, пропал постепенно. Само собой.