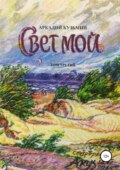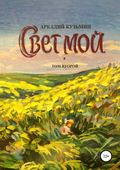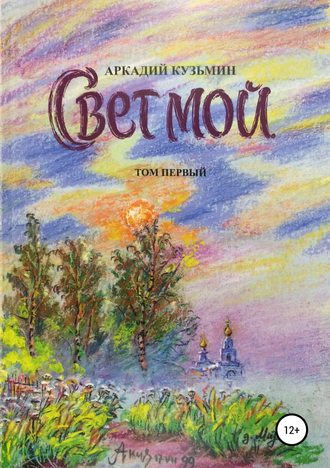
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 1
А вскоре взаимоотношения в семье Пчелкина усложнились до чрезвычайности. Словно сам собой раздвинулся занавес, и на сцену явился новый живой персонаж: это негаданно вернулся из заключения его младший брат Николай, отсидевший под Магаданом срок за убийство и амнистированный. О нем Антону никогда никто не говорил. Вышло же так, что довоенным майским днем Николай ввязался в драку в пивнушке, куда он и нарядные Кира и Павел Васильевич зашли на минутку, направляясь на одно из театральных представлений. Кто-то из городской шпаны, поднаторевший в уличных разборках, сильно ударил кулаком в донце пивной кружки, из которой пил Николай. Ну, и он взревел, и ответил сгоряча. И в схватке этой пала жертва кулачной расправы…
VIII
Юнцом Николай (безотцовщина) накуралесился, должно быть, изрядно.
Как-то он рассказал Антону раннюю историю куражного зимнего заезда их ржевитян на гулянку в Ромашино, где они, бой-парни, сцепились с местной молодежью. И давай волтузиться. Они отстреливались даже – до этого дошло, а один молодой мужик молотил их кольями. Они спаслись бегством. И Антон подивился такому совпадению; им, ребятам мать, Анна, порассказала про то. Тогда на гулянку в избу вломилась эта ватага городских гуляк и давай себе бесцеремонно хватать девок – таким образом приглашать на танцы. И Анну схватил какой-то щеголь-супермен: «Пошли, красавица, со мной!» Да тут Василий встал на защиту своей девушки: так саданул в грудь тому кавалеру, что тот открыл собою дверь и вылетел напрочь в сени, загремел там ведрами. Ну, и схватилась молодежь врукопашную. Отпор налетчикам, однако, почти некому было дать: была еще зеленая молодежь, не драчливая; вот Василий и молотил в одиночку тех пришельцев, и только кричал: «Ребятки, колья из тына мне подавайте!..» Анна со страху вжалась в стенку избы, пули свистели – банда отстреливалась и мимо удирала на двух возках, кони всхрапывали, дико косились; а Василий, преследуя «гостей», молотил их по спинам, по головам тычиной… Жуть как страшно было!..
А вскорости и приключилось нечто совершенно выходящее за разум, о чем поведал Антону сам Пчелкин, взъерошенный, взбудораженный и раздосадованный: выходило, что Николай в его отсутствие, домогаясь Киры, чуть ли не изнасиловал ее, хотя сами виновники случившегося уверяли, что до самого худшего у него не дошло, хотя он имел неосторожность сблизиться и обнимать, но она не сдалась. Кто-то же застал их за этим занятием. Николай затворился. И Пчелкин спрашивал у Антона, что же ему теперь делать: сигнал дан серьезный, ужасный: во всем кроется какая-то заумь – неясно, как здесь поступить мудрей? Кто же занимается враньем? Кому верить? Значит, Кира не меньше виновата, хотя она не виноватится нисколько, отрицает все.
Случившееся, что поставило взрослых людей в тупик, мучало всех каким-нибудь его разрешением, которое ни за что не находилось, пока не выскочила вперед очередная нелепица. Николай раз, обедая на фабрике-кухне и выпив стакан водки, увидал перед собой вывешенный на стене портрет Молотова среди других портретов членов правительства (были назначены новые выборы). И он всамделишне возмутился:
– Ах, вы нас сажаете, а мы должны голосовать за вас и выбирать! Ну-с, вам фигу! Получите!.. – И он залепил в портрет соленым огурцом.
Милиция дело на это завела. По суду Николаю дали два года тюрьмы. А в тюремной кузне, как впоследствии сказывали очевидцы, он сцепился с братвой из-за чего-то и был убит ударом молотка.
Следственно, исчез-таки человек, не принесший ни дому, ни родине никакой даже малой пользы, словно он и ни жил вовсе. По нему не плакали, не рыдали. Как так можно? Даже ведь песчинка иногда служит земле…
IX
И все-таки, как ни помысли, еще держались у Антона, хоть и слабевшие, привязанности к Павлу Васильевичу, проявлявшим иной раз неприличествующим образом свои склонности. Умышленно или по вольности духа. Чем, впрочем, вовсе не обескураживал окружающих граждан – от него никто не шарахался прочь, отнюдь. Напротив, для питейных ларьковых товарищей, аж сиюминутных незнакомцев, – он был неоспоримым авторитетом, почти патриархом независимым, для хозяйственников-заказчиков – профессионально-знающим художником; для блуждающих по улицам выпивох – щедрым гуманистом, спасителем.
Но и был вместе с тем это мастер, отменно глубокий живописец, традиционалист, сильный колорист (цвет выкладывал просторно) и рисовальщик-график на зависть; для него творческим мерилом были истинно созданные ценности, видимые и понятные каждому, а не те мнимые, придуманные, которые всяко нуждались в каких-то заумных пояснениях иных эстетов при неоглядном навязывании таких поделок публике. Просто такое обычно-необычное дерево жило на виду у всех. Оно ничего не затеняло своей кроной. Полновесной, не причесанной, не подстриженной под гребенку. И Антон, приезжая на родину, поддерживал связь с Пчелкиным, как с единомышленником в мере отношения к подлинным произведениям в искусстве, не нуждающемся в рекламе, в восхвалениях. Замечено: сие восхваление не воспринимается людьми, знающими толк, с серьезностью. Никоим образом.
Проявление же Антоном еще давнишней уважительности к Пчелкину-мастеровому, однако, не свидетельствовало о их взаимной сердечности, открытости вследствие неконтролируемого характера последнего, который прежде поступал скрытно-полуоткровенно, даже несколько жуликовато, – эту данность объективную, привычную для Пчелкина, нельзя было забыть, отбросить в сторону никак. Так, этот учитель своеобразно благодетельствовал: подряжаясь на какой-нибудь заказ, он приглашал на помощь и Антона, но не включал его в список работающих с ним в мастерской – ни рабочим, ни подмастерьем, ни учеником, и не выплачивал в полном объеме сумму, заработанную им; наверное, считал, что достаточно ему, юноше, и того, что ему выплачивал кинотеатр за афишки (спустя несколько лет тот по пьянке покаялся перед Антоном за эти свои вольные прегрешения). Все как есть.
Да, все это для Антона, очень бедного, как бы не имело тогда существенного значения, или он сам неоправданную оплошность допускал. Главное, тут он держал как бы сильную сторону, как трезвенник, удерживающий слабого, чтобы тот, слабый, окончательно не свалился с катушек долой. Значит, он, Антон, был подстрахующим спасительным кругом? Он чувствовал всегда себя более здоровым и здравым человеком, хоть и не таким уж умным, знающим? А зачем? Чтобы спасти чей-то талант? Страдающий от неразделенного бытия? Юношеская блажь, конечно. Но она была, была ведь в нем.
С той поры порядком все изменилось. И у Павла Васильевича уже были другие ученики. Он восхищался одним из них, говорил, что тот спорит с самим профессором по поводу, какую куда краску положить. Каково-то!
Антон всерьез и на сей раз попытался учителя уговорить выставить свои работы, чтобы молодежь видела, судила о них, училась на них; он убеждал горячо, заинтересованно о необходимости подобного просветительства, чтобы продвигаться дальше. Только успешным уговорщиком он не был: эта-то его попытка не возымела никакого воздействия на Павла Васильевича, кудлатое дерево. С сопящим носом.
И опять его память отворилась – вновь вспомнилась ему (с неменьшей, чем прежде, в молодость, досадой) – мелкая оплошность, как он попал впросак, купив на базаре залежалую банку с белилами, нужными для грунтовки холста. Отсюда был для него в душе отсчет чего-то важного, наисущественного, чем поступиться он не мог, несмотря ни на что, что и приводило иной раз к нежелательным последствиям. На Ржевском рынке тогда он столкнулся с молодым и бойким малым, называвшимся художником и журналистом. Тот в разговоре и предложил Антону белила в банке. Повел по дороге к себе домой и в комнате вытащил из-под железной кровати полукилограммовую банку с белилами; открыл ее и, нахваливая за качество краску, просил за нее сто рублей. Деньги такие были у Антона последние, полученные за портрет вождя. И он колебался: потратить ли их либо воздержаться покамест.
Незнакомец был старше его и несомненно опытнее, хитрее и напористее; он говорил, что сам купил за эту сумму, будучи в Москве, но что заниматься живописью больше не намерен, потому как самые богатые люди у нас – писатели. И он будет этим – писательством – заниматься впредь – это выгодней. Причем он называл по имени одного современного маститого писателя, который имеет целых два миллиона. И Антон не без сомнения купил за сто рублей эту злополучную банку белил, без которой, как потом выяснилось, он мог бы и обойтись в данный момент.
Но разве торговец не мог бы отдать белила просто так? – упорно мучал Антона такой вопрос. Ведь тот мечтал стать писателем. И, значит, нравственно должен был бы быть человеком, прежде всего. Тогда Антон не подумал сколько-нибудь об этом, а теперь вот размышлял сам с собой. И видел вдруг только это несоответствие (а не то, что переплатил, очевидно) – между желанием того торговца и тем, кем тот был на самом деле. Он попросту очки втирал. Теперь это ясно бросалось ему в глаза… Да будь на его месте, он, Антон, сам бы никогда такого не сделал – не уговорил купить то, что самому-то, видно, уже не нужно, а пожалуй отдал бы первому встречному или, по крайней мере, поделился тем, что имел. Собственно, он всегда делал так.
И много раз потом он по другим причинам попадал впросак. Заблуждения неотвратимы. Во всем. Они сродни невежеству. Какие духи порой помогают нам бескорыстно? И когда они бессильны?
Пчелкин верно говорил:
– Несть числа людей, образующих ложные потоки. Не по скору созрева, а в период беспорядочного колошения, разброса пыльцы по воздуху. Для оплодотворения заурядных фикций. Куда она полетит, где закрутится и осядет семенем – это нисколько не беспокоит таких подвижно промышляющих людей: это ведь кредо их существования, снования, толкания – видимость пользительности неотложной, без чего, разумеется, ну и никак немыслим иной порядок вещей. Для прыти явно противопоказан порядок в мозгах. А отсюда, – скоротечные завихрения у мужей публичных. Своего рода недержание. Неизлечимое. Хватит на все века новейшие. История потом отметит.
Неудовлетворительно поразмысливая так-сяк, Антон было взялся за автопортрет, начатый им раньше, уже подмалеванный. Небольшой холст этот уцелел. Тогда как все раннее Антоново рукоделие – картины и рисунки, и бумаги подсобные, в том числе и три наброска, выполненные в Берлине в 1945-м году, и военная записная книжка – то, что провалялось несколько лет на чердаке, поизгрызанные мышами и подмоченные, и покоробленные, – было ликвидировано, даже без ведома Антона, как всякий ненужный никому хлам. Тем более что братья на пару начали капитально строиться.
Так, Саша, смикитив, подложив под избенку бревна, как на катках вручную откатил ее в целости (вместе с печкой) в сторонку – к удивлению сельчан – и занял под стройку место прежней отцовской избы, широкой, просторной.
И Саша попросил Антона назавтра поехать с ними, братьями, на лошадях за кондовым лесом – помочь им управляться.
Антон теперь, портретируя себя, испытывал двоякие чувства: хотелось написать вещь вполне приличную, не абы как; но вместе с тем ему не нравилось как бы этим самым возвеличивать себя или, верней, за счет нужного или выигрышного сочетания красок создать какое-то ложное представление о самом себе. Ведь можно переборщить и сфальшивить. Он был обыкновенен, как все, даже, может быть, малоинтересен во всем. Что ж, написать себя поскромней, не манипулировать красками? Тогда портрет выйдет какой-нибудь анемичный, безынтересный. Вон куда занятней Пчелкин изобразил себя с разбухшей щекой и повязкой на ней, когда у него болел зуб. Так что же: быть портрету в серой рубашке или в красной майке – по-нахальному?
Антон находил сочетания красок и размышлял, и в голове у него встраивалась фраза: «Уж июль парил». Не с нее ли начать? Запеть? Что я смогу?
Х
Антон лежал, не спал и размышлял о том, как он в отрочестве, скиталец, тосковал по дому. И по-странному вспомнил одно возвращение свое. Давнее опять.
В мае 1944 года при затишье фронтовом Управление госпиталей вселилось в Климовичи, заняв двухэтажный деревянный дом, стоявший рядом с белокаменной церковью, где вел службу свойский поп, награжденный орденом Ленина за помощь партизанам. И вышло так, что командир Ратницкий разрешил воспитаннику Кашину двадцатидневный отпуск! Вследствие того, что он, Антон, накануне только помечтал вслух: побывать бы у матери! – перед вольнонаемной Анной Андреевной, поваром и своей покровительницей, уже начавшей по-летнему носить полупрозрачное платье.
Все вышло замечательно.
Правда, чуть испортил настроение старшина-толстяк Юхниченко: он велел сдать на склад новые военные вещи, не положенные по его разумению отпускнику, возможному невозвращенцу. Уж тут бабушка надвое сказала… Всяко может быть… И передумано… Ведь война…
Ужасна недоверчивость! Антон попытался было еще защищаться:
– Да я честное слово всем даю, что обязательно вернусь! Ему было досадно не столько за то, что этот вечно мурлыкающий тип, вроде бы рассудительно-ровный в обиходе, но не жалуемый никем, лишал теперь его, например, новенького, подобранного в размер ватника, вещи, очень удобной в дороге, сколько досадно за свое мальчишеское бессилие – бессилие слабого перед явным фарисейством сильного, имеющего власть. – Никак не для форса я клянусь, старшина, своей честью!.. Поверьте мне!..
Но какое! Тупа неуступчивость: тот подсовывал бэушную замену тряпок-тяпок, ну а там, если возвращение случится, – все опять перезаменить. Не проблемно.
С откровенностью друзья Антона – в том числе и шоферы – матерились. Да он уже быстренько понастроился на иной лад – от предвкушения предстоящих сердечных встреч. Ничего-то лучшего и быть не могло!
С утренней оказией он, сидя на брезентовой подстилке, затрясся в кузове полуторки, бегущей по застойной дороге; его сопровождал сержант Коржев, ехавший в кабине. Нежно сливочная с золотистостью – из-за распускающихся сережек – листва вуалью полнила разлапистые тополя, клены, березы, ивы и обмытые кущи и чащи мелколесья; везде стыли чистые блюдца и разливы полой воды и пенились ручьи на лесных порожках, возились птицы. И все видимое, окружающее, и встречные автомашины, разбрызгивавшие лужи, – все моментально проносилось, уменьшаясь, прочь, назад, кроме сопровождаемого стоячего светлого неба.
Через Рославль проехали не менее сотни километров – до железнодорожной станции Смоленска, где и остановились. Здесь Антон, засидевшийся без движения (отчего даже онемели у него ноги), взяв свой черный картонный чемоданчик да вещмешок, вылез из кузова, и когда чинный Коржев и круглолицый белобрысый шофер Кичко, извинительно попрощавшись с ним накоротке и пожелав ему доброго пути, тотчас укатили куда-то, он мигом пришел в себя. И отчетливо сообразил, что дальше, естественно, предстояло – согласно обстановке – действовать ему самому, лишь на самого себя рассчитывать, ни на кого-нибудь другого. Оттого прокрался пугающий холодок в груди: теперь – один! Настал момент для испытания дорожного. «Смогу ль?» – подумал он, страшась.
Теперь ему следовало миновать поездом гораздо большее расстояние: сначала ехать до Вязьмы, а оттуда и повернуть к северу – на Ржев. Но, мотаясь со своей поклажей туда-сюда, по перрону и меж станционных путей, забитых товарными вагонами, Антон сумел, в конце концов, только выяснить у всех, включая все знающих мешочников-менял, ехавших туда, куда гнала их нужда, следующее. Что пассажирские теплушки ходили отсюда еще нерегулярно, точных расписаний на их отправление не было, и неизвестно было никому, что отправится нынче на Вязьму, на Москву. И поедет ли вообще.
Рассолнечнилось, однако. Пахло мазутом, стойким кислым запахом окалины; стучали колеса подгоняемых, составляемых вагонов, лязгали буфера; пыхтели, коротко гудели паровозы; деловито сновали взад-вперед в спецовках сцепщики, хлопотали на путях.
Устав от поездки автомобильной и бесчисленных хождений на станции и вокзале, Антон опустился на отполированный вагонными колесами рельс, раскрыл чемоданчик, в котором вез выданный ему сухой паек, начал трапезничать. К нему тут как-то подбилась женщина средних лет с парнишкой лет двенадцати, бывшим в шапке-ушанке, несмотря на тепло.
Он приветил их, – по-простецки угощая, протянул им дольки хлеба с кусочками колбаски, говорил:
– Берите! Съешьте, пожалуйста! – Он не мог есть один на виду других голодных, он знал, людей, смотревших на него не просто. – И внезапно замолк на полуслове недосказанном, как поперхнулся, – подкатился какой-то комок к самому его горлу, что проскочили даже слезы, к его стыду: хлеб и его скитания напомнили ему о чем-то таком невосполнимом, горьком… Не сразу он успокоился.
Молодуха увидела и поняла его состояние.
– Да ты не расстраивайся, сынку; все у тебя устроится, небось; ты доберешься, куда нужно. – И она-то подсказала ему, что нужно искать теплушки, которые разнаряжают по станциям, по свежим буквам, написанным мелом на их боках: первые буквы и будут соответствовать названию нужной станции, куда они пойдут.
Так Антон учился опыту приспособляемости к обстановке.
Вскоре он в новых поисках, прохаживаясь меж железнодорожных путей, набрел на платформы, заставленные грузовиками, перемолвился немного с приветливо-радушными солдатами-шоферами, расположившимися на одной из них, и они, узнав о цели его путешествия, позвали его ехать вместе с ними до Москвы. Они гнали с составом в тыл старенькие грузовики и должны были получить взамен на заводе новые; они убедили Антона в том, что из Москвы ему будет легче выехать в Ржев, хоть и кружно это. И немедля приняли его как равного собрата своего, только он авантюрно согласился с их доводами. Но ему уютно было с ними.
Антон, устроившись в кузове на мягкой подстилке из сена, закачался под убаюкивающее мерный перестук колес платформ на стыках рельс. И ночью – под сплошным разливом черно-синего, почти беззвездного неба. Ни канонад, ни никакого даже буханья сюда не доносилось. Только часты были остановки эшелона. И видел Антон какие-то летучие мирные сны. Вот – опять в ночном, у костра, он дремлет. «Сынок, тебе не холодно?» – плывет к нему мужественный голос отца. И его заботливые руки (или чьи-то еще – может, и одного из шоферов грузовика) потеплее укрывают чем-то Антона. Ради только этих двух минут жить на свете стоило…
На другой день, в двенадцатом часу, эшелон, изгибаясь длинной лентой, вкатился в начавшуюся зону переплетения стальных ферм, магистралей, мостов, металлических переходов, вышек, конструкций, заводов и фабрик с торчавшими трубами, линий электропередач, больших зданий и других сооружений.
Все это впечатляло. И все как бы раздвигалось, пропускало поезд и платформы.
– Что, приехали?! – несдержанно восклицал Антон. – Уже Москва?!
– Спокойствие, дружок! Вишь, покуда пригород пошел! – отзывались сведуще в волнении командировочные водители, внутренне преображаясь как-то – должно, от того, что они как-никак прибывали в столицу – голову всему.
Антон неуклюже влез в юркий трамвай со звонком, чтобы, как ему подсказали, доехать до Рижского вокзала; он путался с вещами на проходе, мешая другим пассажирам. И помнил озабоченные лица сочувственно и угадывательно глядевших на него москвичек, молчаливых, собранных. И затихшие длинные громады зданий, и холодные высокие вокзальные помещения с крошечными окошечками касс и гладкими плиточно-каменными полами.
XI
Ночной поезд, составленный из простых укороченных пассажирских вагонов, дотащился до конечной станции Шаховская, что находилась в 80 километрах от Ржева; прибывший люд по-быстрому разошелся куда-то, точно бесследно растаял в темноте. И железнодорожные поиски у Антона продолжились. Растянувшиеся, но вполне успешные. Один пожилой машинист, высунувшись из кабины паровоза, подтвердил, что погонит состав во Ржев и, выслушав объяснение и просьбу Антона, добрейше предложил:
– Валяй, если хочешь, на тендер, голубь; залезай, если не боишься. Наверху тебя просифонит до печенок. Обкоптит всего.
– Не страшно, – несказанно обрадовался Антон удаче. – Спасибо за выручку!
– Ну, давай! Больше, видишь, мне некуда запихнуть тебя, голубь…
С его помощью Антон взобрался по скобам на паровозный тендер, возвышавшийся над землей сзади будки машиниста, и с замиранием сердца устроился на грубой мешковине, наброшенной прямо на уголь.
Никогда ему не доводилось таким образом участвовать в поездке.
Тем чудеснее.
Затем машинист ушел, видимо, в контору. Уже сквозила предрассветная синева. И внизу выплыл в черной одежде и шапке сцепщик с мигавшим желтоватым светом фонарем: тот обходил и проверял буксы на колесах – методично постукивая по ним железным стержнем, открывал и закрывал их. Он поднял голову, посветил на тендер и грозно – голос молодой – потребовал:
– Эй, чудик, куда взгромоздился?! А ну, слазь!
Антон поначалу смолчал, чтобы не скандалить и ненароком никого не подвести.
– Слазь, я сказал, наглец! – еще грознее поднял голос сцепщик. – Чего влез?
– А надо – и залез, – огрызнулся Антон на приставшего, что пиявка, рабочего.
– Вали отсюда поживей! Не то по башке огрею тебя фонарем!..
И недруг, еще разок – для пущей важности – выругавшись матом, двинулся вдоль вагонов. Отвязался сам по себе.
Этот длиннющий эшелон, составленный из пульмановских вагонов с грузом, мчался, что одержимый, на всех парах; Антону, сидевшему на тендере лицом назад, были видны в розовеющем накате рассвета лишь их качавшиеся покатые крыши, что вытягивались то по прямой, то изгибались в стороны; под вагонами неслась, гудела земля, дрожали рельсы. Антон, изредка оборачиваясь, видел, как в кабине кочегар все подбрасывал и подбрасывал лопатой в раскаленную топку уголь. Хотя он и плотнее запахнулся и поднял воротник фуфайки, и отогнул сторонки пилотки, завеваемая из трубы паровоза гарь обсыпала его всего серыми, он видел отчасти, крапинками; летучие частички сажи, завихряясь, даже сыпались в лицо; неприятно хрустело на зубах – даже в рот они попали.
Поезд с будто бы несбавляемой скоростью накатился на Ржевскую станцию, понесся к самому переезду. Возле него и замер.
Антон, спустившись наземь, поблагодарил своего спасителя-машиниста. Тот же, взглянув на парня из кабины, с высоты, и как-то повеселев, махнул ему рукой на прощанье.
Только подойдя к бывшему леднику, где был пруд, чтобы умыться, Антон, нагнувшись, увидел в зеркале нетронутой воды свое обкоптелое до черноты лицо, и понял причину повеселения машиниста. Но он был безмерно счастлив, что приехал на родину. Правда, предстояло ему пройти еще пару километров.
Мама, сухая, неторопко-несуетливая женщина, в пестрорядине и неброском платочке, стоя на задворках, словно в предчувствии чего-то особенного, с опущенными книзу руками, всматривалась в подходившего сюда Антона. Однако она, узнав его, не кинулась бегом ему навстречу, лишь произнесла с какой-то неприкрытой грустью или недоверчивостью оттого, что увидела именно его:
– Ах, это ты, сынок, вернулся?! А я думала-гадала…
И они расцеловались, смущенные оба.
Ждать-то она ждала постоянно не одного его; надеялась, что еще жив – не погиб Василий, глава семьи. И старший сынок Валерий уже служил где-то на Дальнем Востоке.
XII
Из дальних странствий обычно возвращаешься на родину открывателем еще неоткрытого чего-то дорогого, к чему причастны все, особенно родные, и все счастливы тобой, знаешь, видишь это. Похожее чувство, по крайней мере, Антон испытывал все дни, что гостил дома, среди членов семьи.
Теперь у Кашиных была двухоконная изба (с торчавшими на углах – неопилинными – бревнами): ее выстроили как семье фронтовика, пострадавшей от фашистов. Эта небольшенненькая изба давала приют уже многим нуждавшимся. Уйма всяких людей военных и служащих – переночевала в ней; бывало до двадцати человек укладывалось сразу на полу – и все помещались; ведь жилья еще нигде не хватало никому, в особенности же под городом, который медленно восстанавливался. Каждый человек хотел жить в тепле, иметь теплые стенки.
Природа наделила мать практичностью, и она безошибочно делала все, чтобы спасти детей, приспосабливалась ко все новым и новым лишениям, она – беззащитная, робкая, стеснительная.
Самые главные отношения Антона с матерью теперь определенно выражались в том, что она почти целиком всегда вела переписку с ним. И материнские письма, простые, безыскусственные письма хватали Антона за сердце своей непредвиденностью как сочетанием родных слов в присущем одной матери характере, так и в изложении каких-нибудь значительных или незначительных на его взгляд местных событий: они еще были близки ему.
Еще бесконечные лишения обступали всех односельчан.
Но в деревне, как и прежде – до войны, возобновились уличные гулянки под гармонь; на них пели страдания, плясали с мгновенно сочиняемыми частушками – в основном девчата (парни воевали или уже погибли), и сюда приходили какие-нибудь военные из тыловиков, чаще всего зенитчики. Мать упросила Антона разок вечером появиться здесь, чтобы показаться людям, не серьезничать, – она не хотела, чтобы те потом, судача, корили ее за то, что она будто прятала его от всех. И он ее уважил еще потому, что заодно пошла с ним «посмотреть» и сестра Наташа.
Под сосной наигрывал дядя Никита, инвалид. И какой-то плясун-лейтенант вызвал в танцевальный круг Антона, который к удивлению своему пустился тоже в припляс с ним – не хотел ударить лицом в грязь: на нем же была форма военная! И он раззадорился столь, что даже не танец вышел у него, а необъяснимое зрелище. Да, он, Антон вроде бы кривлялся на одной ноге, выделывая другой просто выкрутасы и совершая круг в паре с лейтенантом; но по всем приметам и живейшему одобрению публики выходило, что у него получился какой-то неизвестный никому, но очень своеобразный номер. И все весело-превесело смеялись оттого, что он залихватски выделывал коленца такие, какие ему не под силу было бы повторить когда-нибудь еще. Что ж, его прорвало-таки!
Он тотчас же стал популярным в глазах всех. С ним искали дружбу. Тут же сверстники предложили ему побороться. И он боролся с ними, катался по земле. Однако, одолев одного, а затем и другого подростка, годом старше его, Антон со стыдом спохватился: получалось, что он вроде бы хвастался собой! Как же, нагулял силушку на казенных харчах! Ума-разума не надо… Большого…
Вот всем-то этим – своим бахвальством – Антон был отчаянно неудовлетворен. И внутренне переживал за это еще потому, что коренные односельчанки, свидетельницы того, говорили потом его матери: какой же удалой сын у тебя! Это было для него почему-то хуже всякой ругани; уж лучше бы, наверное, поругали или пожурили его за что-нибудь.
Бывает такое душевное состояние.
Скорый отъезд спасал его от очевидных переживаний.
XIII
В ожидании отправления поезда (теплушек) из Ржева Антон потерянно забился в уголок на нары, подсев к открытому люку, – еще потому, что у входа, теснясь, столпились помогавшие ему взобраться в вагон молодые солдаты, которые сердечно успокаивали его сестру Наташу, провожавшую его. И когда уж лязгнули вагонные сцепления – и поезд тронулся, Антон повеселей прокричал сестре что-то, замахал ей рукой. Она взглянула на него еще пристальнее, сдвинув к переносице темные кустистые отцовские брови, точно стараясь поточней запомнить его облик, и двинулась поначалу близ вагона; шла и говорила поспешно какие-то последние слова, недовысказанные раньше. Она, не вытирая уже слез неудержимых, отстала и остановилась. И вскоре, тая у него в глаза, вовсе потерялась из виду.
Как ни тяжелы, но как неожиданно просты все расставания. Тут никому и ничему не скажешь: «Постой! Подожди!» Расстаешься поневоле. Раз – и ты без близких, милых.
«Так отчего же сестра рюмится сейчас? Может, оттого что я поспешаю в иной мир людской, а она-то остается одна со своими девичьими мыслями-мечтами, доверить которые ей пока некому? Но наверняка ничьих беспокойств и слез из-за меня в точности не было бы, если бы я не приехал погостить домой, чем доставил всем хлопот – что в военной части, что здесь. Пай-мальчик какой…» – Да, Антона сейчас сильнее всего мучили в душе неразрешимость сомнений, противоречивость в поступках и желаниях своих. Равновесия не было.
В Вязьме, под вечер, Антон, покинув теплушку, заспешил в вокзал – такое же, что и во Ржеве, полуразрушенное и подштопанное станционное строение: намеревался попроворней, не теряя времени, сесть в какой-нибудь московский поезд, идущий дальше – на Смоленск.
Однако такового не было и было нечего его ждать, истина известная, определенная. На счастье он набрел в толпе маявшихся пассажиров на двух командировочных бывалых военных, разговорился с ними; они стремились поскорее попасть в Ярцево – поэтому не сидели в ожидании, сложа руки, а действовали по-бывалому. И они-то – компанейский подвижный сержант, шатен, и сопровождавший его сильный русый солдат с большими руками, торчавшими из коротких рукавов шинели, узнав, что Антон тоже едет в том же смоленском направлении и даже дальше, чем они, уверенно скомандовали ему:
– Айда, приятель, с нами, коли так: сейчас что-нибудь придумаем, не может не быть выхода; не ждать же нам, когда рак на горе свистнет.
Незнакомцы, подхватив, поволокли за собой обыкновенные, но отяжеленные чем-то – будто камнями – мешки и пошли по путям вдоль всяких вагонов, отыскивая по меловым записям на них попутный транспорт. Антон охотно присоединился к ним, должно быть, тертым путешественникам, – из расчета, что втроем-то им действительно было проще что-нибудь сообразить и легче выпутаться из непредвиденно создавшегося положения.
– Ты не опоздаешь с нами, браток, – говорил солдат. – Будь спокоен!
– Я-то лишь боюсь, что моя войсковая часть могла убыть неизвестно куда, покуда я в отпуске проваландался, – признался Антон.
– В таком разе – прямо к коменданту топай, – наставлял сержант. – Так, мол, и так… Докладываю: я такой-то…
– Да станет ли он разбираться со мной? Что вы! У него, должно, своих, комендантских, дел невпроворот…
– Ну, впроворот-невпроворот, а это его прямая обязанность, запомни, – назидательно наставлял приветливый сержант с естественным проявлением к Антону, как к младшему, необходимой солидарности; – он должен знать дислокацию военных частей, точка. Проверит и готово. Только так, не иначе, браток, в нашем деле.
Им посчастливилось: полазив по междупуткам, они выяснили, что ночью один товарный эшелон пойдет на Смоленск. Антон первым залез в облюбованный вагон, дверь в который насилу отодвинули настолько, насколько можно было пролезть внутрь. Затем прошмыгнули сержант и солдат с мешками (они, как сказали, везли в роту мыло, получив его где-то на базе). Сгущались сумерки, и в вагонных потемках сержант посветил-пошарил тут-там слабеньким лучом карманного фонарика: