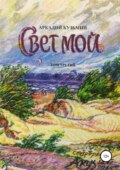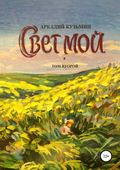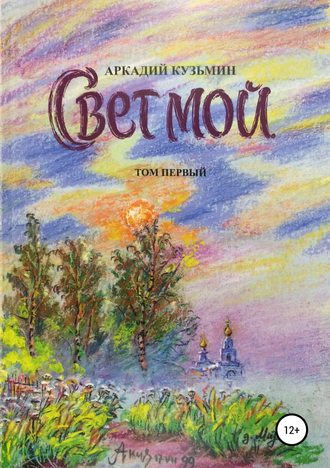
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 1
XXVI
– Возили-возили меня – привезли в Рыбацкое. Елочки, палаточки. Скинули меня в одну из них. Я словно бы забылся. Сестра будит меня: «Выпей!» Будто спирт в стаканце. На закуску кусочек сахара. Выпив жидкость, опять забылся, задремал. Потом снова будят меня. Везут в операционную. На стол, под свет. Тарахтит движок. Раздевают меня донага, переворачивают. Холодно. И стыдно. И хотя на животе лежать голому не столь стыдно: восемнадцать с половиной лет было мне… Я родился пятнадцатого августа…
– О-о! А я – пятого. Здорово, а! Никак не думал!..
– У меня была, т.е. оперировала меня, врач средних лет. Уколы: один, другой, третий. Трещит все в теле. Она: «Голубчик, кричи!» Какое там… Кричать… Кровь в зубах. Не могу. Она опять: «Миленький, кричи!» Никак не могу. А они, медики, ни за что не могут вытащить из моего тела осколок снарядный. Насилу вырвали наконец. Показали мне. Величиной он был тринадцать сантиметров! А размер моей раны двадцать семь на двадцать один сантиметр. Оперировавшая хирург с улыбкой и сказала: «Вижу я, что еще не всех ленинградцев поубивали фашисты». Меня на сантранспорте привезли в Ленинград, на улицу Чехова, шесть; здесь, в здании торгового техникума (кажется таковой он и поныне существует), располагался госпиталь.
Нас как привезли, так сразу скинули с нас шмотки. Но в санпропускнике никак не обрабатывали. Я имею в виду шерсть на теле. Приходит Валя – сохранилось в памяти это имя. Девчонка. Лет девятнадцать, если не меньше. Миловидная, и все у ней на месте. Волосы под косынкой спрятаны. Да ведь девчонки – и наши однолетки – всегда выглядели (и выглядят) взрослее нас. Намылила она меня там, где нужно. Мне-то все равно как-то. Я – лежачий. Мне краснеть нечего и, откровенно говоря, нечем: уж больно много крови я потерял в восемнадцать-то лет. Она хлопнула по тельцу моему вот так. Мне все равно как. У меня тут, на груди, ведь еще ничего – никакой растительности – не было. Не выросло. Этот сорняк позже вылез. Значит, после подняли меня на подъемнике на второй этаж – в палату.
– Ну, ты, Ваня, конечно, занял место у окна, – знающе проговорил Костя.
– Положили меня в углу, – сказал Иван, – и я начал заживо гнить. Со страшной вонью. В теле велика дырка была, гноилась. Это-то – в несказанной благодати чистой постели все-таки.
– Медицинский червей обычно пускают на рану. Они объедают гноящееся мясо. У меня так было в госпитале под Будапештом. И по-медицински это считалось нормальным. Сколько времени ты провалялся?
– Пролежал я два с половиной месяца. Под бомбежками, обстрелами. При каждом налете фрицев нас, раненых, медперсонал старался опустить в бомбоубежище. Иногда я под кровать заползал, чтобы не спускаться, избавить медсестер от лишних хлопот. Я спускал одеяло до пола, чтобы меня, прячущегося, не было видно сразу. Сами понимаете, здесь такая благодать: чистая постель, чистая простынь, чистое одеяльце – блаженство, которое только мы, фронтовики, можем оценить, попадая в такую обстановку. И я боялся даже на полчаса потерять все это из виду. Хотя и был факт, что между этажами во время артиллерийского обстрела попал снаряд. А там лежали тяжелораненые. И вот стеклами, вылетавшими из окон, из них некоторых убило. Одного даже до операционного стола не довезли. Печальный факт.
В палате, скажу, очень хорошо относилась ко мне одна медсестра. Такая Таня. Грудной застенчивый голосок, какие-то одушевленные руки, пальчики. И сейчас я ясно вижу ее перед своими глазами. И тут я не воспользовался этим обстоятельством.
– Ха-ха! – засмеялся Костя, откинулся головой назад.
– Нет, серьезно. Она, я видел, любила меня. Только я-то, чудик, еще не знал всех премудростей в том, как объясниться с ней, что сказать. Она мне очень нравилась.
Между прочим мое это ранение считалось легким… Мне дали и соответствующую этой категории ленточку на рукав: кости все-таки оказались целы. А мясо потом наросло, взгляните, – Иван встал со стула, спустил брюки – выше колена краснел жестокий рубец.
Натянув их, он сел снова.
– Вполне сносно, дружок, тебя заштопали, – сказал Костя. – В тяжелейших блокадных условиях.
– Вскоре в Долине смерти, где один берег очень крутой, а другой плоский, я чуть не угодил на тот свет, – рассказывал Адамов. – Немцы поймали нас в квадрат. Вплотную с нами ударился снаряд. Не головкой. Отскочил от земли. Если бы он ударился головкой, – был бы нам каюк.
Поначалу я был у комроты вроде сопровождающим. Еще носил ему котелки с обедом. Затем возмутился: «Да я прежде всего солдат – не адъютант». И этот долг чести, чувство ее спасали меня, видимо. И на Невском пятачке, бывшем смертью для защитников, где я дважды побывал, даже участвовал во взятии «языка», когда меня ранило вторично – прямо в грудь. Ранило сравнительно легко. Об этом… я, пожалуй, пропущу…
– Ну, не сокращай, пожалуйста – попросил Махалов. – Важно, как? Когда?
– Сюда мы переправлялись глубокой осенью сорок второго. Ночью. Старшина всего меня перетряхнул; попрыгали мы, разведчики, перед ним, чтобы не бренчать чем-нибудь. Все личные документы сдали на хранение. Весла обмотали тряпками. Тихо сели в лодку, чтобы незаметно переплыть Неву. Из пещерки с берега дали лучик фонарный, чтобы держать путь по нему, поскольку немец бил встречь кинжальным огнем по над водной поверхностью. Погода была зыбкая.
– Сезонная.
– И нас качало в шлюпке на воде. И так…
– А Нева несет… То же самое было и с нами на Дунае, когда переправлялись мы, морская пехота, десантом…
– Да, нас несло сильное течение к западу.
– Мне непонятно, зачем Невский пятачок нужно было удерживать.
– Я не знаю, но я дважды был на нем.
– Пятачок – это точно была смерть.
– Ну, я был дважды на нем. Итак, переплыли наконец Неву – лодка уткнулась в береговой песок. Старшина попросил: «Дай мне свой карандаш!» Я дал ему. «А ты – плохой артиллерист!» – заявил он, серьезный. – «Почему?» «Отточил карандаш, как Машка, которая пишет письмо любимому… Ну, ты радист, пойдешь с нами в разведку?» А чего? Я пошел с разведкой боем. В дни и часы, когда немец одурело – по двенадцать атак в ночь предпринимал против нас и все вокруг утюжил. Так что здесь, на пятачке, каждый наш солдат был на особом счету.
И вот я стал передавать по рации: «Наши вошли в немецкие траншеи». Без всего. В открытую. Без шифра.
– Безо всяких дураков?
– Да. Пошли. И уже взяли с ходу четырех фрицев – вытащили их из-под нар в блиндаже. Уже в нашенской землянке, возвратясь, начинаем их допрашивать. Руки им развязали. А переводчиком был я. Вроде б, оказалось, я и освоил нехудо немецкий язык в школе. «Нихт капут!» – первым делом говорю фрицам. Передо мной сидит настоящий красавец ариец. Санинструктор. Фотографии свои достал из портмоне, пасует. – «Это муттер? Это киндер?» – спрашиваю я. Двое детей у него. Он рассказывает. Я беру наушники, опять передаю в штаб, что нужно, ключом работаю. И еще перевожу с немецкого языка на русский.
– И сколько вас в землянке было?
– До десятка, верно, считая пленных. И тут-то один фашист, выдернув из-за голенища сапога нож, кидается на меня из-за спины. А я не видел того.
– И кто его кокнул?
– Разведчик. Если бы он не выстрелил, фашист воткнул бы мне в спину кинжал. Что ж, недосмотр у нас получился. И вдруг один из пленных солдат заговорил чисто по-русски. Это был чистокровный русич: его семья с ним эмигрировала из России в двадцать третьем году. Представляете: в мой год рождения!.. И он, и этот санинструктор сказали, что убитый был сволочь. Если бы они сказали про нож, тот бы и их порешил. Какая ж болезнь повела его, русского, в рядах нацистов против русского народа, он не смог сказать. Лишь пожал плечами.
– Да никакая! – заметил с жаром Антон. – Теперь уясняют ученые историки и находят, что миллион, если не больше, наших соотечественников воевало на стороне нацистов. По всяким причинам. Включая власовцев.
– Ладно. Я доскажу. Посадили пленных в лодки, наши бойцы сели, отплыли по Неве. А там… Отсюда немцы очередь по ней дадут, отсюда… И закружились лодки по течению… Столько погибло славных ребят. Тогда немец, меняя силы, хотел во что бы то ни стало стряхнуть нас с Невского пятачка; спихнул нас уже под самую Неву – подошел к нашим позициям на гранатный бросок. Однако по дну Невы у нас тянулась ниточка – кабель: действовала связь. И когда рассвело, наши лодки вышли в открытую поддерживать нас. Хотя радиостанцию мою уже разбило, меня прострелили. В этот раз я всего две недельки лечился в медсанбате.
Да, когда я шел со своей рацией по Синявинским болотам, я думал, что умру на ходу. Но этот самый долг чести, чувство его спасло меня от смерти. Теперь тот командир, Бессонов, когда встречались мы в очередной раз у нас в доме, сказал моей жене: «Катя, я чувствую себя виноватым перед тобой, что послал его тогда на Невский пятачок». Однажды, когда фрицы поймали нас в квадрат, я залез в какую-то дырку в земле, начальник – под меня. Как только раздается взрыв «уф!» – начальник подо мной: «Ах!» Спрашиваю я: «Товарищ старший лейтенант, Вы ранены?» Опять взрыв – он опять: «Ух!» Потом мы побежали вперед – к немецким окопам. Я указываю: «Вот сюда!» Перед нами бруствер – залегли мы. Рядом с нами снаряд ударился не головкой. Если бы головкой стукнулся, – нас бы не было в живых.
– Тогда все бойцы в нашей дивизии в приказном порядке отрастили усы – и приусатенные воевали.
– Занятно!
– Генерал дивизионный издал приказ, его разослали по частям: отпустить усы в поддержании традиций славной русской армии! Буквальная формулировка смысла. И все после этого заусатились. Ротный же наш командир позволил себе носить окладистую бороду, отчего посуровел, повзрослел на взгляд.
– А кто у вас тогда командовал? Персонально…
– Генерал Краснов.
– Краснов? У нас, в курсантском училище, возможно, сын его учился. Краснов.
– Что ты говоришь?! Я боюсь, однако, что это не тот.
– Ну не могу утверждать. Очень близко его не знал.
– И вот сам этот генерал Краснов носил огненно-рыжие усы. Усищи. Словом, был как таракан.
– Образный портрет.
– Раз в медсанбате, когда я лежал, все вокруг зашевелились:
это генерал Краснов делал обход. Лежал танкист с ранением и ожогами. «Что-то, я вижу, вы плохо воюете». – Сказал он танкисту. Он пытался выказать душевность в разговоре с ранеными. – «Да вот, товарищ генерал, берег двенадцатиметровый, как ров, – не выскочил». – «Да где ты горел?» – «Вот тут зажали… Я поторопился малость…» – «Ну, поправляйся. В следующий раз тебе повезет». – И не удержался от солдатского юмора: «Быстрота нужна, знаешь когда…» Подошел ко мне. Спросил у меня: откуда я попал сюда. Воскликнул после моего ответа: «О, да ты герой! Невский пятачок нам еще нужен!»
Вот как он мне сказал на твой вопрос, зачем нам был нужен этот пятачок.
– Ваня, и нас в госпитале обходил один важный генерал – но даже его фамилии не знаю, и он со всеми нами, лежачими, разговаривал. А я не знал, что это генерал: лежа не видишь погон, да и на плечах у него был накинут белый халат. Только потом, когда он отошел на большее расстояние, я заметил на брюках у него красные лампасы… И, разумеется, подосадовал на себя из-за того, что, конечно же, какую-то юморную глупость высказал ему. Он только улыбнулся мне.
– Не переживай! Все то прошло, слава богу! Живы! Можно осмотреться.
XXVII
– Костя, ты не обессудь меня… – извиняюще сказал Иван. – Валидол хотя бы есть?
– Есть, есть, Ванюшка. – И Костя вскочил с места, кинулся искать его на комоде. – Вот он! Возьми! – Протянул флакон другу.
– Но я подожду пока принимать… Спасибо…
– Что, с сердцем плохо? Приляг на диван. И будешь лежа рассказывать. Полегче будет тебе. – Костя вновь присел на стул.
– Да нет, нет! У меня, знаете, после операции, когда полжелудка урезали, что-то сосудистое появилось: сразу задыхаюсь.
– И я также задыхаюсь после ранения… Вот как мы с тобой, Ванюшка… – Костя наклонился к нему, обнял его за плечи.
– Ну, на чем мы остановились?
– На генералах и моей глупости.
Иван стал шарить по своим карманам, ища, очевидно, коробку папирос, которая, однако, лежала на столике. И Кашин подсказал ему об этом. Только явно неожиданно для самого себя Иван, удивляясь такому обстоятельству, вытащил из кармана пачечку давних треугольных писем на совсем пожелтелой бумаге и минуту помедлил, как бы рассуждая дальше с самим собой: «Как они попали сюда?!» – Потом вспомнил, сказал:
– А, это же моя бывшая однополчанка Ася С. попросила меня принести для музея.
– Даже письма твои фронтовые сохранились?!
– Дело материнских рук, ребятки. Это я ей, матери, писал. Она, например, до сих пор хранит мой первый выпавший зуб и мою детскую распашонку. Через всю блокаду и эвакуацию это пронесла и провезла.
– Вот стойкость матери!
– Да… – Адамов держал на раскрытой ладони письма, как бы взвешивая их. – Музей славы на Невской Дубровке помогала организовать и эта моя однополчанка Ася. У меня отобрала часть фотографий моих боевых друзей и, конечно, мое фронтовое письмо взяла для экспозиции: в нем я писал матери о том, что убит этот самый солдат, этот, этот… Какими героями они погибли в бою…
– Что, Ваня, тебе худо? Дать валидол?
– Нет, я пережду еще. Просто я излишне взволновался. Но я и не могу иначе.
– Понимаю, друг мой. Я все понимаю. – И Костя, отвернувшись, странно заморгал глазами.
– Родина забыла о своих героях. Ведь был период, когда наши люди совсем-совсем не носили ордена, затаив где-то в глубине души боль. Ленточку на рукаве за ранение – и ту забыли вовсе: никто не носит. Ох-хо-хо! Ишь, мне медаль-то юбилейную выдали в военкомате, а не вручили вместе со всеми фронтовиками в учреждении, где я работаю внештатным сотрудником и даже состою на учете в партийной организации.
– Ты, что, в партию успел вступить? – удивился Костя.
– Нужно стало. Не удивляйтесь, ребятки. Сознательные фронтовики и сейчас работают с полным осознанием того, что они делают, как и на фронте, на благо страны; говорят себе: «Сегодня я еще здесь, на земле, участвую в делах, нужных Отечеству, вместе со всеми, а завтра, может быть, нас уже и не будет… Так надо торопиться с добром. Нам так хочется донести до молодежи чувство дружбы, Родины». Вон на девятое мая ближняя школа-десятилетка, при которой школьники сами создали музей, прислала приглашение: придти всем нам, фронтовикам, при орденах и медалях.
– Ваня, а у меня нет одной медали – самой дорогой для меня: «За взятие Будапешта». Полюбил я какую-то девушку. Уж не помню, где, какую. Мне было нечего ей подарить – и я подарил ей эту медаль. А документ у меня остался, цел.
– Значит, чтобы не портить винтами орденов пиджак (вон какая дура этот винт – пиджак продырявит – будь здоров!), попросил знакомого приварить ордена на общую колодку. И вот когда мы все приглашенные участники боев прошли при своих боевых регалиях в школу, это было, скажу, исключительное зрелище. Для всех присутствующих, живущих на настрое доброты, на памяти святой, неугасимой.
– Ну, ты, Иван – еще поэт, хотя по природе, считаю, чистый скульптор, ваятель. Хотя и приходится тебе ретушерствовать ныне. Подлаживаться…
– Эти письма… Я думал, что писалось мной чуть сентиментально, как свойственно молодым. Но, прочтя на буднях, успокоился. Тогдашнее время было такое. Я хочу найти одно письмо, над которым посмеялся даже, перечитывая его. Потом расскажу об одном эпизоде. – Иван поспешно расправлял треугольники и, глазами пробегая по строчкам, искал что-то нужное. – Вот вымарали… Видите? Не прочесть… Тоже зелеными чернилами… Военная цензура… Сейчас хочу еще найти… Где же тут про кальсоны?.. Сорок второй год, двадцать третьего февраля. «Здравствуйте мои родители…» Так… Сейчас, сейчас, ребятки… Я задерживаю вас… Вот цензурное… Черными чернилами строчки зачернены…
Костя вставил:
– Тогда у цензоров тоже работка была не дай бог: их не снабжали жирными фломастерами, что производятся теперь. Оттого они и зрение теряли, следя за тем, чтобы мы, солдаты-обормоты, не написали чего-нибудь лишнего, секретного.
– Да такие же девчонки, каких я встречал в госпиталях, служили и тут, в цензуре. Недоедали, недосыпали… Нет, не прочту тут… Я уж плохо вижу одним глазом.
– Давай, Ванюша, я почитаю: «Немцы прут и прут, справа и слева». – И Костя прокомментировал: «Чего ж ты, негодник, так пугал родных?»
– Не совсем. Я кое-где еще смягчал события.
– «Завтра решается судьба нашего родного города Ленина и, может быть, блокады». Ты пишешь о том, когда будет наступление! И цензура – Странно! – Пропустила это!
– Ну, видите, какие патриотические письма.
– «В бой буду идти с Великими именами…»
– Что, я так и написал?
– Ты уж, наверное, забыл, Иван.
– «Что суждено, того не миновать». Ну, это ты совсем не по-комсомольски… Опять привет кому-то…
– Вероятно, соседям Николаевым…
– Нет, еще кому-то… «Ну, как обстоят дела с топливом, питанием и денежными ресурсами?»
– Чувствуете? Все – об еде, о тепле…
– «Как почетный человек полка, я был назначен дежурным по пищеблоку и при Красном знамени».
– Да это я подлец нескромный…
– Ничего подобного. Не забывай, что ты почти еще мальчишка.
– Это было в сорок третьем.
– Двадцать лет?
– Да. Мне было мало ста грамм водки.
– Вот засранец… Чем хвастался!
Посмеялись втроем.
– Вы не против? Я прервусь. Можно закурить?
– Давай, давай!
Иван засмеялся неожиданно, сказал:
– Какая-то фантасмагория. Отчетливо подсовывается мне видение картины недействительной, но каковую, кажется, видел въявь. А где? Когда? Не вспомню сразу. Вроде б уже в поздние времена. Лишь запомнилось мне следующее: летнее тепло, холодная ключевая вода, текучий золотистый мед, пахнущие и хрустящие огурцы, сорванные с грядки. Пяток изб на хуторке. Косматый дедуля. Один-одинешенек. Ставший запивать, похоронивши бабку. Был как бы потерянный, наверное, властями рай земной. Где-то именно у дедули, моем дальнем родственнике, это было.
– Ну-ну, расскажи.
– Я будто бы выделял ему грошовую заначку. На пропитье. Утром он заглянул ко мне в комнатку: «Ваня, ты спишь? Слышишь, в прошлое лето был урожай на мед. Качать мед надо». – Он держал шесть ульев. «Давай помогу», – предложил я ему. Он молчит, соображает. Наконец мне говорит: «Ваня, будем завтра качать мед».
А медом у него оплыли все ульи – он не выбирал – до того, что даже трудно было их открыть. Два улья мы благополучно открыли, а, наверное, при открывании четвертого началось невообразимое. Вижу: дедуля лицом уткнулся в плотный куст сирени. И слышу: «Ваня, дыми»! Следом: «Ваня, беги»! Я побежал. Порасторопней, чем от фрица в окопах бегал. Заскочил в баню. Дверь поплотней прихлопнул. Дедуля еще куда-то сиганул. Мы пчелку или двух, должно, рамками с сотами придавили; они протрубили о таком злодействе, и вмиг вся пчелиная рать наярилась, заатаковала нас. Пчелы жалили через маску, сетку. Ой, разлетались! Я, затаив дыхание, уже в дверную щепочку наблюдал. Сюда как раз направлялась почтальонша – хорошенькая молодайка.
Смотрю: она, задрав подол юбки себе на голову, задала стрекоча – вскачь по кочкам – в сторону соседнего хутора. А следом туда же хромой прохожий запрыгал, взбрыкнув и отмахиваясь картузом. И молодец мотоциклист, бросив мотоцикл свой и шлем и накинув тюбетейку на свою пышную шевелюру, попятился внутрь какого-то старого помещения. И бабка с девчонками легко сиганула в какие-то спасительные дали. Бегали, кудахтали куры. Взвывала овчарка под половицами сеней. Я трижды к дому подползал, пластаясь по земле, как в былое время на передовой под обстрелом, и трижды отступал, бессильный. С новыми укусами. Ну, будет дедуле на орехи!
Воображение мое раздваивается. И где такое было? Убей, ребятки, мне не припоминается. Покамест. А теперь, Костя, дай мне валидол.
– Да ты приляг.
– Нет, спокойно посижу. Маленько отдохну. И я хочу тебя послушать. О подвигах твоих в пехоте. Морской.
– Уволь, Ваня; я сегодня, наверное, не смогу. Видишь, скриплю.
– А что – зубы разболелись?
– Да, ужасно. Будет хуже – поеду в поликлинику. К Некрасовскому рынку. Вот, может, Антон, нам пока расскажет что-то о своих военных приключениях.
– Ой, братцы, пас, умоляю вас; я вообще-то не заслужил не только ничьего внимания к своей персоне, а вашего-то и тем более, – взмолился Кашин, держа ручку в руке. – Бедны мои поступки. Отмечен лишь одной боевой медалью, и все.
– Так ты, Антоша, и моложе нас, – сказал Костя, негласный его покровитель при друзьях и знакомых.
– На шесть лет. Родом шкет ржевский. В сорок первом, в дни боев в Подмосковье, мне было двенадцать лет. Я – мартовский.
– Ржев во скольких километрах западней Москвы?
– В двухстах с хвостиком.
– И когда немцы захватили его?
– Четырнадцатого октября. С ними и у нас, ребятки, постоянные стычки происходили. Раз в декабре, разъяренный сопливый ариец, патрульный, пытался и меня поставить под дуло карабина, чтобы пристрелить.
– За что?
– Чтобы я перестал говорить ему колкости, правду.
– Ну, ты даешь!
– А что? У нас серо-зеленый мерзлый зачумленный вояка топтался в карауле возле крытых серо-зеленых же повозок, утопших в метельном снегу. Я не выдержал. Я сказал ему попросту, по-приятельски: «Эй, камрад, холодно? Кальт? Зачем же ты, дуралей, приплелся сюда, в Россию, как Наполеон? Этак до смерти закачуришься. Не нужно будет и партизан…» «Was? Was?» – Немец зашипел, забледнел. Пошел на меня. Он, знать, понял весь смысл моих слов и моей язвительности. Это его задело. И он, ругаясь, шипя, стал снимать с плеча карабин.
– Ну и что ты? Дальше что?
– Конечно же, я струхнул. Очень. Но дальше больше разозлился. «Да отстань же, гад, от меня! Псих!» – говорил солдату, который уже направил дуло карабина на меня, и пятился от него вокруг обледенелого колодца. А псих все никак не мог пальцем ухватить курок в кольце карабина – пальцы у него в рукавицах не сгибались – верно, задубели. По счастью тут вовремя вышагнул к нам один неглупый, общавшийся со мной эсэсовец, которого я уже напрочь распропагандировал, думаю. Он немного говорил по-русски, упражнялся в русском языке. Он-то спас меня от неминуемой расправы.
– Повезло. И сколько дней продолжалась оккупация Ржева?
– Больше года. До третьего марта сорок третьего. И столько еще горя, таких опасностей и стычек было у нас с оголтелыми гитлеровцами. Не счесть. И случались везения. Так, зимой сорок третьего нашего старшего брата (в шестнадцать лет) в колонне гнали в концлагерь. У него вдруг отказали ноги – он не мог идти, отполз на обочину. Конвоир – немец подошел, спросил: «Warum?» Брат ответил: «Krank!» – показал на ноги. Тот деловито снял с плеча карабин. Я спросил у брата: «И что ж ты чувствовал в этот момент?» «Мне было уже как-то все равно», – ответил он мне. Как ужасно! Спасли его два австрийца. Те ходко объезжали как раз на розвальнях (на битюгах) гонимую колонну. Они что-то сказали немцу, вскинули брата на розвальни и повезли. И вскоре ноги перестали у него неметь. Вот такие случаи были. Обычные.
Да, нам, мальчишкам, в ту пору было легче: мы знали, за что воевали наши отцы, братья. Тяжелее – матерям. Сто крат. Немецкие солдаты, по нашим наблюдениям, были невежественны и мало образованны, оболванены нацистской чепухой. И куда начитанней, умней, сообразительней оказались мы, пацаны, убежденные и уверенные в несомненной победе Красной Армии над немецкой. И старались не только обойти в чем-нибудь немецких солдат, как препятствие, чтобы уцелеть и выжить, но и разубедить в чем-то важном, умерить их раж воинственный. Что-то и получалось. Тогда я, будучи мальчишкой, лишь удивлялся тому, как это иные взрослые люди, пожившие на веку, порой не видят очевидного. И ведут себя как бараны.
Мы с малышней и фронт переходили, убегая от немцев отступавших. И они по нам стреляли. Пули над нашими головами позвинькивали.
– А каким образом ты оказался в войсках?
– Мне было уже четырнадцать лет. Я подружился с бойцами военной части, которая весной передислоцировалась в нашу разоренную местность из-под Сталинграда, и попросился в нее. Уговорил мать. И чудесный командир-подполковник принял решение в мою пользу. Так что мне исполнилось шестнадцать лет, когда война закончилась. Ничего существенного в моей биографии. Северней Берлина наша часть остановилась. Второй Белорусский фронт.
– Позволь… Но ведь ты подпись оставил в Берлине, на стене рейхстага! Это очень дорогого стоит, друг!
– Там ожерелье росписей оставили бойцы… Это мы – за всех и за вас…
– И, кажется, ты говорил, что-что-то и зарисовал в Берлине. Рисунки сохранились?
– Сделал три рисунка улиц и рейхстага. И не очень удачно. В спешке… Но они не сохранились: вместе с другими и блокнотом записным лежали в хибарке на чердаке, под соломенной крышей, промокли и папку пустили на выброс без моего ведома и в мое отсутствие. Вот и все. Вопрос закрыт. – Иван, если сможете рассказывать дальше, – я продолжу запись. Как?
– Давай, дозаписывай, брат, коли есть у тебя интерес, – согласился, помедлив, Адамов. – Только небольшая вводная. Уже в январе сорок четвертого из Колпино, только что отвоевавши тут, попадаю в Пундово. И опять – на позицию. Куда? Да уже в Пулково. Собственно я и сам не знал в точности, где именно воевал. А теперь, когда вот поехал вместе с боевыми товарищами-ветеранами на места бывших боев, – теперь очень ясно представил себе, насколько же немцам легко, доступно было бить нас насмерть: они буквально охотились за каждым-каждым бойцом.
– Все видно как на ладони?
– Костя, ты меня понимаешь. Кстати, ты знаешь артиллерийскую разведку?
– Имею представление. Я тоже стреляный воробей.
– И ты знаешь, Антон?
– Это как игра в шахматы.
– С той лишь разницей, что это смертельная игра… – вставил Костя.
– Верно. Огонь засекаешь. Я этого не делал почти никогда. Некогда. Свои дела. Пропасть дел. Не успеваешь в бою поворачиваться. И в танках я ездил.
– Это ужасно!
– Да, не комфортно. А горит танк как свечка! Металл – и так горит!
– Что он, металл, горит – мы тогда этого еще не знали.
– Словом, весь Ленинградский фронт я на брюхе исползал: под Синявинскими высотками был, на Невском пятачке был, под Колпино был, под Пушкиным был, под Рыбацким был, под Пулково был. Перед наступлением на Пулковские высоты артподготовка длилась около двух часов пятнадцати минут. Земля в этот момент гудела и дрожала, ничего неслышно было кроме этого. Потом, когда пехота вышла из укрытий в атаку, вперед пошел и огневой вал, закрывая ее, нашу пехоту. Ну, были у немцев скрытые огневые точки. Их тоже поражали орудия. С артиллерией шел радист, с ним шел артиллерист, чтобы корректировать обстрел. Огневая система немцев в эти минуты была начисто подавлена. Впервые! Они ничего не могли сделать, чтобы противостоять. Наша пехота атаковала очень спешно, удачно. Наступала на пятки немцев, которые пытались уже уйти из этой опасной для них зоны поражения, на которую обрушилась вся мощь огня. Мы быстро продвинулись вперед. Взяли с ходу Пулковские высоты. Артиллерию моментально поставили на передки – нужно было изменить радиус действия. И дальше охватить территории. А вот под Ревколово немцы уже оказали нам серьезное сопротивление. Собрались-таки с силами. Тут у них имелись доты, дзоты, закрытые огневые точки и тому подобное. Тут мы… притормозили…
– Встали? И вас стали фрицы чесать?..
– Воистину сказано, Константин. Здесь идет перекресток Ревколово. Мы уже через Пулковские высоты перевалили. Воронья гора… Здесь моего командира убило, на его место встал малоопытный… После того, как убило еще несколько пехотных командиров, он (он с левого фланга шел, а я по центру) вызвал огонь на себя. Чтобы от наседавших немцев отбиться таким образом.
Я опять залез в свою стационарную автомашину: снова артиллерия встала на передки для того, чтобы опять отойти. Дальше события развивались так… Ой, дайте мне, братцы, выпить что-нибудь. Там, в бутылке, еще осталось что-нибудь? Я не могу…
Выпив рюмку водки, Иван продолжал:
– Развернул я радиостанцию. Только подключился, – а когда подключаешься, аккумуляторы ставятся, – взял аккумуляторы в руку, вдруг слышу звук: «Ж-ж-ж!» – пролетел один снаряд. Следом и другой недолетел. Это каждый (даже неискушенный) знал: «Вилка!» Шофер мигом – шмыг под капот стационарки, под металлические части: все-таки какое ни на есть укрытие от осколков. Две радистки выпрыгнули вон. А меня в следующую секунду вместе с аккумулятором, который я держал в руке, подняло в воздух и опустило быстро на землю. Только слышу чей-то запоздалый испуганный голос: «Ваня, ложись! Ваня, ложись!»
– Ты еще слышал?
– Прекрасно! И вот чувствую: задело глаз. И вижу, как его заволакивает темь. Боль дикая уже где-то внутри его. Я лег.
От автомашины нашей, конечно, один пшик. Шофер убит. Радистка ранена. Ползком перевалился я через бруствер. Только думаю: «Вот и ранить-то как следует не могут!»
И вновь попал в медсанбат. В палате один раненный в голову офицер лежит. Рука у него автоматически поднимается к черепу и опускается. И опять конвульсивно он поднимает руку – и опять она бессильно падает. Глаза у него уже остановились. Одним глазом я присмотрелся получше – даже вздрогнул: то был мой бывший сотоварищ, командир, с которым мы расскандалились. Вот где встретились снова… Помню его смерть, каковой я не желал для него. Он вытянулся, затих с каким-то всхрипом. Наряду с этим я вижу и другого: тот стрелял своему товарищу в затылок.
– Это – другой разговор, Иван, – сказал жестко Костя.
– За что? – спросил Антон.
– Бежал с поля боя. Неву переплыл. В обратную сторону.
– Тоже затмение. Подвиг – Неву переплыть.
– И его расстреляли. Перед строем.
– Ну, дальше, Ванюшка.
– И вот некому работать с радиостанциями: нет радистов. Командир полка был ранен, стал командовать командир батальона. Заехав в медсанбат, спросил у меня: «Ты можешь нам помочь?» – «Конечно, могу!» Из медсанбата быстро с шестой, или седьмой батареей (уж не помню в точности) опять пошел… Состояние подавленное… Немцы опять нас прижали… Поддерживать пехоту нечем. Тридцатый корпус откатывается в село Рыбацкое. Я раненый еще восемь дней работал с батареей. И вот за это мне дали орден Славы – только-только утвердили в Москве его статут. Я чуть ли не двухтысячный номер получил – в числе первых…
Махалов уточнил:
– Ну, Москва сильно обрубила: так, морякам орден Славы не давали, а давали, зато медаль Ушакова и орден Красного Знамени с порядковыми номерами: первый, второй, третий, четвертый… У нас, например, Горюновский, командир катера, вместе со своей командой проводили на катере разведку. На Днестре. Немцы их заметили. Разведчики попрыгали в воду. В камыши. Рассредоточились. Горюновский принял огонь на себя, отвлекал немцев. А его команда тем временем – в катер – и айда. Без него уехали. Он вооруженный, в одежде, поплыл на Днестре. Проплыл двенадцать километров. Но не туда, куда нужно, попал – выплыл на немецкий берег. В Аккерман. Походил, походил по Аккерману, разузнал, что надо, пошел обратно, поплыл снова… Снова двенадцать километров… Ночью… И его наградили лишь медалью Ушакова, от которой он отказался месяц назад, считая, что его незаслуженного тогда наградили. А парторг, не участвовавший в этой операции, получил орден Красного Знамени. Вот, ты говоришь, и цена той медали и этого ордена.