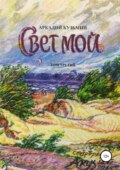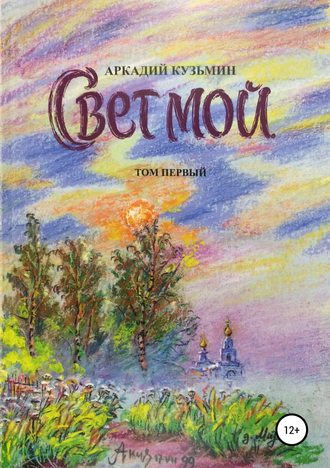
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 1
Но теперь и даже то немногое – посещение церквей и моления – порушилось. Людям обездоленным действительно, наверное, нынче нужны не эти поклонения. Врага в слезах не утопить. Слезами горю не поможешь. Это правда.
Анна позадумалась, ушла в себя, осмысливая хоженое-перехоженое. И, наверное, поэтому не разделила радостного возбуждения Антона от наблюденного им пролета нашего самолета.
IX
А вечером Наташа принесла (с расчистки большака, куда немцы выгнали группу жителей) будоражащую новость: наш самолет накидал свежую газету «Правда» с напечатанной речью Сталина – был парад на Красной площади 7 ноября.
– А-а! – всплеснула руками Анна. – Неужели такое может быть? – И порозовела даже.
– Отчего ж не может, мам? Смешная ты!..
– Отмечался, стало быть, праздник революции? В Москве?!
– Надо думать, что не зря.
– То-то, значит, как я в поднебесье этот самолетик углядел, – возбужденней сказал Антон, – я очень удивился тому, что будто выпрыснулись из него какие-то серебристые опилки. Кто ж разберет.
– Интересно, доченька: кто-нибудь уже читал газету?
– Матвей Буланков нашел ее, – сказала Наташа. – Да что: влип по уши в нее – не схавал тишком. И нюхастый Силин уж набросился – отобрал ее. Загрозил наганом. Да засадит в карцер каждого, у кого только увидит это.
– И сама ты не поискала? – спросил Антон у сестры.
– Поглядывала – не увидела. Говорят, газеты унесло за Сбоево.
– Вот хотя бы подержать ее в руках, – сказал расстроенная Анна.
– На лыжах бы махнуть – недалече… – предложил Саша.
– Если взять левей Турбаево, – сказал Антон.
– Да, да, – поддержала Наташа. – Туда, аж к Седникову – деревне.
– Саш, ты как настроен: прогульнемся туда утречком?
– Всегда готов! – обрадовался младший брат. – Заметано.
Но Анна уже заумоляла их:
– Ой, детушки, не рискуйте жизнью. Я боюсь за вас.
Итак, пораньше братья вдвоем отправились на лыжах на поиск газеты. Проскользили по снежным полям восточней километров шесть – к разъезду железнодорожному, до балки, куда, возможно, отнесло листовки, и там, немало исходив вокруг, отклоняясь от деревни и дорог (во избежание опасных встреч с немцами). И только нашли часть газеты «Правда» (уцепившуюся за бурый кустик полыни) с напечатанной речью Сталина и его портретом. И то было ладно. С такой находкой, очень важной для всех, возвращались с невообразимой веселостью и жуткостью. Потому как, слышалось, где-то постреливали и будто тонкосвистящие пульки пролетывали мимо, дразня.
А в предвечерье, – едва Кашины дома прочли найденную газетную полосу, – к ним зашла тетя Поля. Вся – с замысловатой предприимчивостью. Стала подлаживаться с уговором странным: нельзя ли, сынки, уважить просьбу поселившегося у нее немецкого офицера, еще совестливого, верно, – дать ему хотя бы посмотреть газетку. Правда всем нужна.
Неожиданная ее просьба всех обескуражила. Была веская причина для того, чтобы утаить находку.
– Он-то не узнал – я не сказала ничего и не обещала даже достать, – пояснила приневоленная так распахнутой любовью к людям, тетя. Он слыхом, знать, слыхивал. И видел, как вы возвращались из поля. В бинокль, что ли. И попросил…
– Ну, а если это провокатор? Проведет за нос? – сказал Антон.
– Никак непохоже, – заявила тетя. – Поручусь за него…
– Знаете: фашисты не будут чикаться ни с кем из нас…
– Поручусь я вам, Антон, Аннушка, что он – тот человек правдивый (вижу по глазам), кому можно доверять. Без риска. Правда сейчас для него нужней куска хлеба, восхваления. Поверьте…
Антона восхищало в ней, неграмотной женщине, то, как она наощупь продвигалась в обиходе навстречу сердечному движению. Что это для нее? Просто-напросто главная потребность? Но он еще сопротивлялся по инерции:
– Отдашь – и он ее присвоит, не вернет?
– Заопасается держать при себе! Не дурак, чай. – Тетя Поля убежденно верила, что нужно помогать и таким колеблющимся немцам, чтобы они разбойничали меньше. Спасу от них нет.
– Что ж, оттаскивать их за волосы? – сказала Анна со смешком. – Сами бучу затеяли – пусть и сами выкарабкиваются из нее.
– Не всегда так получается, – ответила Поля. – Хорошие люди и среди них, как видно, есть. Только они обложены со всех сторон мясниками. Слово не стрела – к сердцу льнет. Глядишь, все легче будет Красной Армии управиться, поможем ей хоть так.
Она убедила.
Антон самолично, зайдя в избу тети Поли, взглянул на ее нынешнего квартиранта – немецкого серебропогонника и, хотя ничего существенно хорошего, как и плохого для себя не нашел сразу, все-таки принес потом и отдал ему газетную полосу с помещенным портретом Сталина. И этот среднерослый серьезный офицер со смущинкой рассматривал ее (пока хозяйка караулила у окон, подстраховывая). А затем и прослушал с вниманием то, что Антон по его просьбе прочел ему вслух из речи Сталина. Тот удивлял своим сильным желанием, главное, узнать из разверзшейся бездны нечто такое, что оспаривало все, казалось бы, уже неоспоримое. Он искал доказательство тому – и проникался верой. Выходило, правда помогала укрепиться всем в честных убеждениях. Особенно на исходе 1941 года.
К середине ноября гитлеровцы уж вовсю торжествовали. Наперебой они сообщали местным жителям об окружении Москвы и руками изображали петлю, и делали ей, Москве, по несколько раз на дню «Капут»; и под большим, якобы, секретом передавали и о том, что все теперь закончится: советское правительство захвачено в Воронеже и что Молотов подписал акт о капитуляции России, и что теперь-то уж быстро распадется Красная Армия – не собрать ей косточки.
Они уж ликовали, сияя глупо, счастливо, победно, точно именинники, которые скорым-скоро – им чертовски повезло – на коне вернутся домой, к своим близким милым на радость их, они, отважные рыцари, укротившие наземных варваров – русских, неспособных даже мозговито, как умеют одни немцы, руководить собой и потому-де нуждающихся в несравненно лучшем – в мире лучшем – немецком руководстве с его отличной, ограничивающей дисциплиной и решительностью в проведении мероприятий с послушными массами. Причем им, солдатам-немцам, и не было, видимо, ни на йоту стыдно и тревожно за себя, за свой род и ни за что – стыд был упрятан где-то глубоко внутри. В особых тайниках глубинных. Потому как немецко-фашистские идеологи повсеместного разбоя, который они возвеличивали, в своих «памятках солдата» всерьез писали специально для него: «Нет нервов, сердца, жалости – ты сделан из немецкого железа… Завтра перед тобой на коленях будет стоять весь мир». Вон куда они нацелились: далеко!
Анна разумом своим, как всякий здравомыслящий человек, с самого начала войны ни за что не верила в невообразимый вал всечеловеческой погибели, постигшей и ее семью. И только верила – и когда обрушилась и на ее семейство дикая оккупация – неизбежно скорое освобождение, восстановление привычного уклада жизни. Под знаком этого она жила, переносила все мучения.
Никто-никто не думал – не гадал о том, что так станется, что приведется жить наощупь; но вот стали вынужденно жить и жили под нависшим вечным страхом – что-то дальше еще будет, чем все это кончится, если изначала что творится; а потом и об этом перестали уж, кажется, думать, попривыкнув к тому, что такое на долюшку каждому выпало, как в билете лотерейном, и надеясь только на неизмеримую доблесть своих мужиков, хотя их, мужиков, уже и пало и падало на землю, видать, видимо-невидимо.
X
– Аннушка, голубка, я к тебе зачем: вот возьми, прочти-ка что; – горячечно, набравши воздуха, обратилась к ней приспевшая ходоком в ноябрьский день абрамковская Глаша Веселуха от самого порога, едва вошла в избу, перекрестилась и поздоровалась, смятенная и отчего-то виноватая. Нет, она, набожная однолетка Анны, внешне никогда (а теперь подавно) не оправдывала своей веселой фамилии – картинное ее личико всегда пасмурнилось: разжав кулачок, она протянула Анне лежавшую на ладошке бумажку. – Наши бабы-то подняли на дороге после, как прогнали снова наших пленных мимо нас… Наказали отнести к тебе… Ты читай, что в ей написано… Ох, бежала на одном духу – так распарилась… Я расстегнусь…
Анна всколыхнулась вся, только взяв и развернув в руках расслоившийся бумажный лоскуток, предназначенный ей; оставленные карандашом серенькие буковки ударили волной в ее глаза, запрыгали, и она, пытаясь вникнуть в смысл записки, прочла написанное вслух:
– Ромашино. Кашин Василий Федотович. Тысяча восемьсот девяносто шесть?! Ну?..
– Это – данные твоего хозяина. Вникла?..
– Как же?.. – Вдруг уразумевши что-то нехорошее, что может быть, Анна на минуту и бессильно опустила руки: – Значит, Глашенька, мой Василий, что ли, находился среди-то этих пленных и так дал весть о себе?!
– Мы так подумали, голубка… Кто же тогда кинул? С небушка кто понарошке?..
– Да, а мы с ребятами вот проглядели все-таки… Как теперь исправить?.. Ой! – И уж заметалась Анна в угнетении по избе. Изба стала тесной сразу. Это послание отняло у ней даже способность действовать порассудительнее чуть, как надлежало бы.
Все дальнейшее, видно, было для нее словно в осадочном тумане: она уже не слышала пришелицу, ребят, почти не различала лиц, а засобиралась судорожно. Куда – она знала. Стала быстро-быстро одеваться.
Кстати забежала в избу (тут как тут) и Поля, словно почувствовавшая что неладное. Спросила, натянувшись, что струна:
– Куда, Анна? Чем встревожены все? – проникающие глаза выстремила.
– Полюшка, – поторопилась Анна, – схожу я к старосте Силину. – Словно у нее разрешение на то испрашивала. – Пускай мне справку, документ какой-нибудь дадут-выправят…
– Какой? Зачем? Да что у вас? – Поля заморгала – ничего еще не понимала.
– Срочно надо нам идти следом за колонной пленных. В ней – Василий наш.
– А откуда ты узнала?
– Кинул он записку о себе. Глаша – вот, спасибо, ее нам принесла…
– Где она? Дай сюда взглянуть.
– Ой, куда ж я ее сунула? Только что в руках держала… Куда-то подевала… Надо же! Пойду, попрошу: и чтобы старшеньких моих – Валеру и Наташу сразу отпустил с принудиловки. Пойдут они…
– Послать их одних нельзя.
– Так и я сама отправлюсь с ними, Полюшка.
– Нет уж, и не думай; дома у тебя остаются одни малые – с ними ты побудь, а я пойду. Обещаю тебе дойти куда-нибудь, куда только сможем, – чтоб узнать что-нибудь о Василии. Только не ужели, если это он действительно среди красноармейцев был, не мог крикнуть, сказать кому-нибудь в Абрамовке, что это он, Василий, чтоб о нем родным передали… Ведь там на проводах почти весь народ стоял, обступал дорогу…
– Стало быть, не мог. Может, верно так…
– Понимаете, я сама бы еще не поверила, – опять с горячностью заговорила Глаша, подойдя поближе к Анне, к Поле, им в глаза засматривая и помогая себе рассуждать всем движением и всплескиванием ладных ручек. – А Фокин Макар даже внушал…
– Какой Фокин Макар? – перебила Поля.
– Полинька, тот, кого призывали на фронт вместе с Василием нашим, да потом отставили: признали все-таки непригодным, кажись, к боевой службе.
– Он внушал нам, – уверяла Глаша, – что он собственными глазами увидал Василия. Тот, значит, по его словам, шел в ряду колонны с самого краю. С отпущенной, говорит, черной бородой. И так пристально и строго посмотрел на него (он стоял у своего крыльца) – прямо пронизал, говорит, черными глазами, но ничего при этом не сказал, что ему аж не по себе тут стало…
Побледнело-нервная Анна лишь ужасалась на ее слова: чрезвычайно все сходилось вроде бы на том, что было на Василия очень похоже. Однако Поля с основательным сомнением заметила:
– Знаешь, Глашенька, что я теперь скажу: народ тоже очумел…
– Я не знаю… право…
– … стал такие небылицы сочинять. Насказать-то можно всякое, ого! И поди-ка потом разберись, что к чему. Весь упрешься. Верно? А Макара Фокина, видать, просто совесть нынче гложет, мучает; гложет, мучает она его именно за то, что он, собой видный, молодой еще мужчина, в тяжкое-то время для страны дома отирается, а не мнет где-нибудь бока наглому антихристу и не курочит того из оружия…
– Ну, если его отставила от этого сама комиссия – непригодность в нем нашла…
– Э, Глафира, брось, пожалуйста! Да кто ж может отставить-то тебя от самого себя? Никто-никто. Не может даже бы щадящий, иль какой он есть там, наверху. Отставкой нынче не прикроешься, если ты по воле собственной попал в позор, пощады запросил. Грош цена тебе.
– Ты-то очень требовательна к людям, Поля.
– Уж как умею, бабоньки. Ну!.. Так ты, Анна, к старосте идешь?
– Да, готова, – дрожно-нервно отвечала Анна.
– Ну, тогда пошли дела делать и доделывать. И я буду собираться. Что ж…
XI
Заспешила Анна к Силину, махровому предателю. В серединочку деревни, всей заполонувшей, словно даже свои вздохи прячущей и приглушающей. По всей линии домов понатыканы, наставлены, что ни пройти, черные немецкие грузовики, фургоны крытые; немчура везде царит, гремит, звякает в самодовольстве сытом, что ретивые коняги. Ишь, в каких они радостях земных разблаженствовались оттого лишь, что война, ведущаяся ими, еще не коснулась их самих и их семей в той же степени, что коснулась русских. Пусть же тот комендант, загребший власть позорную, далеко не спрячется за эту орду дикую; пусть хоть чуточку с желанием людей считается – нахрапом, самосудом ничего он не возьмет!
Анна вымолила у Силина вроде пропуска на троих – на Полю, Наташу и Валеру. Да еще на всякий случай справку, удостоверяющую то, что Кашин Василий действительно является жителем Ромашино, ее мужем и отцом детей.
Но и Силин нисколько не поверил пущенной кем-то версии такой, что в колонне пленных был Василий, бросивший записку о себе; он с начала до конца и в этот раз присутствовал при их прогонке здесь, в Абрамкове, и, если бы так было точно, – неужели бы Василий не окликнул, не позвал его, не признался?
– Что же, может, с ненависти ко мне не признался, скажешь? – вдруг проговорился Силин, наливаясь кровью. – Но он, если бы и был, ведь не мог бы знать, что теперь я выполняю…
– Просто мог увидеть у тебя пистолет – и догадаться обо всем…
– Что мой пистолет?! В кармане я его ношу… Ладно, хватит рассусоливать! Забирай бумаги – уходи живее! Ну, ехидны!
– Только, пожалуйста, скомандуй, чтобы с работы отпустили моих – Валерку и Наталью. На сегодня-завтра.
– Отпустят. Ступай.
Так поговорили. Любо-дорого.
Крепко ж, знать, засела в Силине и кровная обида за науку (до сих пор торчала в нем): раз, когда еще Анна невестилась, сидела на гулянке (раньше под гулянки на зиму для девочек вскладчину снимали у кого-нибудь избу), Василий здорово тряхнул-таки его; он, выламываясь, к девкам приставал, а к ней – особенно, и взошедший в избу Василий взял его за шиворот и дернул так, что тот пробкой вылетел во двор, открыв собою дверь и даже сосчитав ступенечки сеней, и что уж после этого он остерегался приставать.
Только сила усмиряет силу.
Посыльные – Поля, Наташа и Валерий, одевшись потеплей, ушли на розыск, и настал беспокойный жуткий вечер. Только что керосиновую лампу зажгли, как внезапно при ее свете откуда ни возьмись, залетала по кухне, метаясь, летучая мышь. В передние две комнаты дверь была закрыта – там расположились немецкие солдаты и оба эти окна завешены одеялами – свет маскировали, и летучая мышь странно и проворно парила на крыльях взад-вперед под потолком. Она летала и громко пищала, будто загнанная.
Анна в умопомрачении каком, что ли, кричала:
– Ловите, ловите ее! – Как будто в этом было спасение всех от напасти какой-то.
Антон схватил полено, лежавшее под рукой у печки, размахнулся им раз-другой, но промазал: верткая птица, легко обходя все препятствия, вильнула за печную трубу и там, за печкой, как в какую щель упала и канула бесследно. Кашины излазили все-все и перерыли все кругом в кухне, однако уже ничего в ней не нашли. Мыши той – призрака – как ни бывало.
Тем удивительней показалась вся эта история. И уж Анна вовсе духом пала. Она заладила, что это точно несчастье приходило к ним в дом; это, наверное, отец посылал им какую-то нехорошую весть о себе. И усиливалось потому беспокойство за ушедших на ночь: каково-то им?
Но невероятная оказия опять произошла – продолжая причитать, Анна разжала кулак и в нем непонятным образом снова откуда-то нашлась та странная записка, всколыхнувшая всех, она машинально-недоверчиво развернула ее снова, всматриваясь в буквы, – и тихо ахнула. Румянец сошел на ее лицо, точно она уже выздоравливала. Она доподлинно разглядела теперь, что, как ни неправдоподобно, но записка была написана именно Наташей, ее кругловатым почерком, на листке ученической тетради в клетку, а не Василием, – его почерк отличала она тотчас… И даже сверила теперь для верности с его письмом, присланным им с Ленинградского фронта.
Ненужную бумажку эту, вероятно, просто вытряхнул или выкинул из кармана немец-конвоир, кому ее отдала Наташа, когда ходила к лагерю военнопленных…
Теперь-то уж и Анна усомнилась в правдивости услышанного о Василии. Право, неужели было б так, что он, проходя вблизи дома и увидев своего деревенского мужика, лишь посмотрел на него сурово и даже не крикнул ему ничего? Было что сомнительно. На Василия такое не было похоже что-то.
Он все-таки был в большой потребности общения с людьми и проявления любви и человечности, и его поэтому знали хорошо многие в округе.
А Поля с Наташей и Валерой, впопыхах расспрашивая в деревнях, какие проходили, встречаемых или выходивших к ним жителей, вызнавали, что никто из них, тоже живейше отзывавшихся на участь пленников-красноармейцев, не подбирал ничьей брошенной записки, не видел и не слышал также и того, чтобы среди перегоняемых этих бедняг был ромашинский мужик.
Ввечеру у Кульнево они настигли саму партию пленных. Обошли их. А затем и проводили безмолвием их до самой реки Осуги. Перед рекой остановились в напряженно-душевном, сжимавшем грудь, волнении.
Почти в темноте уже красноармейцев, несколько их сот, стали перегонять, торопя, через Осугу – по ненадежно-узкому, в два-три переброшенных скользких бревна, мосту. И некоторые серошинельники, из числа очень ослабших, сдавших, или сдавшихся, попадали, соскальзывая с бревен, в черную воду, уже затянувшуюся ледком и навеки так сомкнувшуюся над ними.
Страшно было смотреть на то. Поля все губы обкусала.
Тоской гложимые, ходоки заночевали в Кульневе, у одной тоже пригорюнившейся молодайки с малыми ребятишечками, и назавтра домой добрели.
Тетя Поля насчитала до тридцати убитых пленных на переходе от Абрамково до Осуги, т.е. на каждом километре большака – лежали они, сердешные, уткнувшись в сыру землюшку. Одна рука-владыка приласкала их… Вот так исправно душегубы отнимали у захваченных, заневоленных саму жизнь, – все равно как где: если не в дьявольских своих душегубках или в крематориях, то напрямую, заганивая прежде, на дороге, в чистом поле – на этом очистительном по их понятию, пути туда, в новый рай германский.
XII
– Weg! Weg! – скомандовали Кашиным двое начальственно-сердитых немцев, войдя к ним в избу уже засиневшим морозным вечером, и погнали их всех вон. Идите, мол, куда глаза глядят. Позволили взять с собой лишь кое-какую одежку и кое-что из постелей. Но Анну при этом не выпускали, только великодушно велели ей печь топить, да греть воду, кипятить чай.
Тетя Поля приняла на ночлег ребят. Однако они сочли, что негоже оставлять мать одну среди немцев и что Антоше в двенадцать лет будет проще хотя бы проведать ее… И он отправился обратно к себе…
В то время как Анна с усталым лицом, высвеченным красноватым печным огнем, возилась подле топившейся печи, несколько чинных немецких офицеров, или, скорей, генералов, сидели, переговариваясь, за кухонным столом, в красном углу, при свете карбидной лампы, сидели будто на поминках. Серебрились на их расправлено-гладких плечах, на мундирах, узкие перевитые погоны.
Антон, сняв по-тихому пальто, как и вошел тихонько-незамеченно, показался матери, которая обрадовалась ему, и взглянул на ряд ровных подстриженных затылков немцев, все сидевших бездвижно. И то настолько заинтриговало его, что он, не ведая того, что делал, но поступая как бы по-хозяйски в собственном доме, машинально шагнул поближе к ним и чуть заглянул через их покатые плечи. И увидел разостланную перед ними во весь стол карту!.. Те немцы, что сидели спиной и вполуоборот к Антону, еще не заметили его; зато сидевшие прямо сейчас же подняли на него льдистые глаза – и в них взметнулся явный ужас оттого, что он стал вблизи. Уж повернулись все к нему. Взбулгатились. Вскочили с табуреток двое офицеров, – видимо, меньше чином, и один вцепился в локоть Антона, только теперь попятившемуся от страха и непонимания происходящего:
– Партизана?! Партизана?!
Да, тут ему было не до смеха, хоть и, право, смешно то, что немцы подозревали в партизанстве любого жителя, даже малолетнего, и боялись этого.
Анна спасла Антона. Что божья страдающая мать обхватила его, прикрывая, руками прижала, как он пятился, спиной к себе, и только говорила:
– Мое! Мое! Мое! – Она лишь почувствовала неладное и, наверное, хотела сказать: мое дитя! Но не успевала договаривать из-за страха быть непонятой в эту напряженную минуту. Где-то-где-то убедила она нацистов: они поуспокоились, урча недовольно. Уселись вновь.
И все-таки Антон не покинул мать на ночь: лег спать – чтобы было незаметней для немцев, но поближе к ней, – под ее железную кровать, что приткнулась на кухне, у входа самого. И всю-то ноченьку проелозил-прокрутился там, на ватной подстилушке: ему мешало что-то грубое под боками, как он ни поворачивался. А наутро разглядел получше: здесь же, в изголовье, было положено несколько немецких автоматов и противогазов!.. Как же можно было жить среди оружия?
К счастью, днем эти начальственные нервные постояльцы убыли.
XIII
А в один еще не поздний зимний час послышалось тяжелое назойливо-переливчатое гудение самолета, закружившегося в небе над промерзлым Ржевом: «у-у-у! у-у!» Тотчас громыхнули взрывы бомб. По-настоящему. Что было чем-то неожиданно ожидаемым. Тут уж, запоздало, опомнившиеся немцы подняли легкий тарарам: судорожно застрочили из пулеметов по нарушителю их спокойствия.
– Вот и наши весть нам шлют! – Наташа, все ребята Кашины так обрадовались этому событию, хоть и боязно-таки было находиться под бомбежкой такой – теперь нашей…
Это означало главное – что наши войска сражались, не бездействовали, отнюдь; происшедший налет вселял в местных жителей надежду на неминуемое освобождение от ретивого супостата, его прихвостней.
Между тем, двое серозеленых солдат, второй день квартировавших в избе Кашиных, схватив свой длинноствольный пулемет с двуногой, ругаясь и топая сапожищами, выскочили вон. Они на улице, как увидели последовавшие за ними братья Саша и Антон, приставив пулемет стволом к карнизу крыши, тоже включились в общую пальбу: наугад прострачивали темно-синее небо, где невидимо перемещался советский бомбардировщик. Бомбы гулко взрывались, звенела оттого земля, барабанили зенитные и пулеметные выстрелы и таяли в темной вышине прерывистые пучки горячих трассирующих пуль. Чего-чего, а подобного добра у немцев хватало.
– До чего же лупят они, ироды! – встревожилась Анна. –Лютуют!
А сынки ее утешали тем, что вояки вслепую палят.
После перерыва постояльцы вновь выбежали вон из избы с пулеметом и постреляли из него сколько-то минут, а затем резко прервали это свое занятие, еще не кончилась бомбардировка, затащили пулемет обратно в избу. И тот солдат, что был потощее, с перекошенным лицом, мигом исчез опять в сенях.
Что он за дверью делал – заглушала пальба, еще неутихшая; но лишь он зашел после этого в избу, как и снова заспешил обратно же. Что повторилось и еще. Стало все предельно ясно тут. И только улетел, отбомбившись, самолет и все вокруг поуспокоилось, Анна, взяв коптящую керосиновую лампу, вышла с нею в сени.
– Ах, ты, окаянный! – ругнулась она, тотчас вернувшись. – Должно, с перепугу он…
И все ребята в доме, уже в точности поняв, что такое было с перепугавшимся солдатом, рассмеялись очень весело, смеяться ведь не разучились даже в самые тяжелые моменты оккупации.
Вот, схватившись за больной живот, стоная, немец вылетел вновь за дверь. А когда он уже возвращался, его неожиданно так и встретила и, считай, атаковала негодующая Анна:
– Эва, ты какой! У меня и маленькие так не делают. В сенях… Все убрать сейчас же! Вот я покажу тебе! – И поднесла она к самому его носу руку, сжатую в кулак.
Тот отпрянул даже взад, моргая веками, а после тихо оскорблено заворчал:
– Матка, русски бомба – у-у! – заговорил потом, оправдываясь. И показывал на свой живот круговыми движениями тощих рук, – бр-р-р!
Из передней выглянул в кухню, за порог, его старший напарник и, сразу догадавшись в чем дело, с минуту чихал, вертел плоской головой и тонко заливался (он, верно, юмор понимал и признавал) в нервном смехе:
– Матка, nicht gyt, nicht gyt; dort – у-у, у kamrada – фр-р-р!
Затем заикал, точно объелся чем-то.
Анна дала солдату, с которым грех случился, заступ и тряпку. И присмирено те вдвоем, зажегши стеориновые плошки, попыхтели на уборку в сени и в течение какого-то времени было слышно там выскабливание заступом обледенелых половиц.
Дети – ну! – покатывались со смеху:
– Ой, надо ж! Ну и мамка у нас – страсть бедовая!
– Да, номер такой отколола – ого-го!
– Прямо с кулачищем на немецкого солдатика затюканного – приласкала…
– О, комедия! Он, бедненький, аж присел, прижмурился: испугался больше, чем бомбежки, поди…
– Зато будет знать порядки наши. – Анна вскинулась – с правотой. – А то они расгеройствовались тут… Сперва-то я струсила шибко, только его приструнила…
– Нет, рассказать это кому – кто в невероятность поверит?
Для местных жителей, однако, ненадолго просиял просвет оттого, что было бомбление; обычно прошла еще одна ночь с уже ожидаемой, как должное, бомбежкой. А поздним утром у колодца тетя Поля безо всяких предисловий огорошила Антона:
– Хвастают они, счастливые, что все-таки ахнули наш самолетик.
– Какой?
– Да бомбивший нас полуночник. Не слыхали?
– Нет, не может быть!
– Говорят, что рухнул перед Сбоевым; навряд ли они врут, коль сейчас туда позалимонили зеваками. И мой Толя изготовил лыжи – тоже собирается. Не пойдете с ним?
– Пускай подождет – и мы сейчас…
Старший брат Валерий, Антон и двоюродный брат Толя, легко поскальзывая по снегу на лыжах и обгоняя заспешивших к Сбоеву оккупантов и своих сельчан, приблизились к месту в поле, куда в землю врезался грудой, перевернувшись и переломавшись, наш бомбовик защитной окраски, с красными звездами на крыльях. Было страшно ближе подойти к нему, к его останкам. Однако же подошли…
Он был самый что ни есть простенький, деревянный по конструкции, обтянутый коленкором, со спутанными проводками, с изрешетенными пробоинами плоскостями крыльев (Антон, для чего-то, став считать, насчитал двадцать восемь попаданий – пробоин), с расщепленными пропеллерами и лыжами, короткими до странности. Под ним, выпав из кабин, валялись трупы трех советских летчиков в комбинезонах и шлемах – с обезображенными (сплюснутыми от удара о землю) головами; около них были разбросаны какие-то бумаги, наши деньги, облигации; они или выпали из карманов погибших, или какой-то стервятник-добытчик уже пошарил, не гнушаясь осквернения памяти героев.
Сбоевские парень и девушка взволнованно рассказывали, что видели прошедшей ночью, как этот бомбардировщик, летевший совсем невысоко, внезапно перекувыркнулся над самым Сбоевым. Он тут подумали, что он на избы угодит; но он как-то справился – выровнялся. А потом уж опять перекувыркнулся, да и упал за деревней. Такой грохот был…
Толя, манерно поцокав языком, заметил братьям, что вся беда в качестве самолета – такой же он, видать, неосновательный, ломкий, что и «кукурузник», севший и брошенный в сентябре у колхозной шоры из-за недостатка горючего, не то, что немецкая авиация. И Антон не без горечи смолчал: он тоже видел клепаный металлический опустившийся на жнивье уже при немцах немецкий подбитый разведчик с двойным туловом – раму, Саша даже забрался в его кабину и откручивал еще там какие-то гайки. Но тот ведь тоже был подбит нашими зенитчиками, несмотря на прочность его металла, – а взлетел снова лишь после того, как его подремонтировали фашистские техники.
Фашисты, уже покрикивая отрывисто, отгоняли от разбившегося самолета либо перегоняли туда-сюда всех жителей вокруг бомбовоза и фотографировались сами на таком фоне. Ну, невообразимая дикость! Зачем?
Антон по-мальчишески не выдержал – спросил у одного солдата – туриста – фотографа:
– Warum? – показал ему на фотоаппарат.
И тот самодовольно ответил ему:
– O-o, gyt suwenir!
Как само собою разумеющееся.
И спрашивать было нечего. Антон тогда ясно видел: у немецких вояк был привит массовый победительский психоз, и фотография на фоне останков поверженных русских в снегах под Москвой служила бы наилучшим сувениром. Как, впрочем, и вполне материальная вещь – даже отрез полотенцевой бязи, посылаемой ими своим семьям в Германию после захвата в городе Калинин ткацкой фабрики. Тоже презент из-под Москвы.
По-скорому же немецкие солдаты зацюрюкали: «Zuruck! Zuruck!» – отогнали всех зевак прочь от упавшего самолета и подожгли его обломки. Сожгли вместе с телами погибших летчиков…
Уместно тут вспомнить, что в победном мае 1945 года шестнадцатилетний Антон, как юный художник, даже стыдился почему-то в душе срисовывать развалины на берлинских улицах, разбомбленных англо-американской авиацией: считал то негоже… Рейхстаг был исключением в его понятии.
Правда, как бы она ни была горька, есть прежде всего правда, – ее нужно знать и уважать такой, а не иной, не придуманной. И всегда она все расставляет по своим местам и воздает всем по заслугам должное: «Ну-ка, встань! Подвинься! Не мешай!»
XIV
В декабре и еще посуровели дни и ночи, с новыми тревогами и бомбежками ночными, хотя уж ворог стал сникать, захлебываться от собственной прыти злобной, напроломной, требовавшей невосполнимых сил физических (не до духовных тут), но уж что-то поднатужилось в большом организме хода всеобщей судьбы и сдвинулось в желанном направлении, пошло. Это уже не казалось, а чувствовалось в атмосфере. Только никто ничего еще не знал.
Дом Кашиных ходил ходуном от бесчисленного наплыва немецких гренадеров и их перемещения туда-сюда.
Сколько ж можно было все терпеть?
И опять в холодных сенях кто-то слышно зашарил рукой по стене – дверь, ведущую в избу, искал. Опять кто-то уже перся сюда – назад, в тепло. Кто-нибудь, наверное, из этой зачумленной прорвы – солдатни немецкой. А когда дверь с легким хрустом поддалась, стала открываться медленно и в кухню понизу вкатился, заклубившись по-шальному, белый морозный воздух, то в дверном проеме постепенно возникло какое-то бледно-зыбкое нереальное видение, с усилием преодолевавшее порог (высотой в ширину кирпича), истертый подошвами ног за сорок лет.