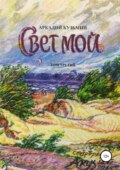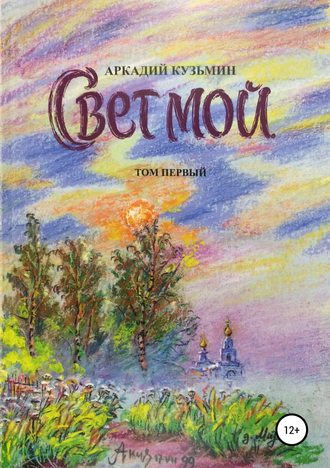
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 1
– Други мои, между ожидаемым и действительным – бездна, – рассуждал Лущин. – Все следует порознь: песни поем лирические, а в жизни – насилие; благозвучна музыка, а наяву диссонанс – трагедия или фарс. Не так ли?
– Жуткая пьеса, – сказал Костя. – Но у нас есть магическая формула: надо!
– Да, истина понятна всем, что ясный день; – подхватил Никита, – только злопыхает кругом людское, чертовское, – сколько не кричи, не прошибешь уже испорченных властью или норовом или ограниченных людей.
– Как мы живем!
– Да, пассионариев уж нет.
– И какой исход по-вашему: лапки кверху? – в упор спросила Инга. – Ведь еще древнегреческие философы жаловались на плохое воспитание молодежи. – И покосилась, как бы опоминаясь, на начальственного Игната Игнатьевича.
Среди приглашенных было – да – такое начальственное лицо (то ли начальство хозяина – сына, Михаила, то ли еще что неясное) со строгим лицом еще без складок, со строгой прической; а веки у него полуприкрывали сверху зрачки глаз, отчего вид его казался полусонным, неприятным. Про его крутость сведущие люди говаривали почти как о Сталине: «раз Лиходей нагрянул на строительный объект – полетят у кого-то головы». Однако Лиходеев сидел за столом достойно, точно в каком президиуме, и в словесных толках не участвовал; он покамест усердно трудился на животном фронте, будто насыщаясь впрок, потому как еще не все ходили перед ним в должниках. И вертлявая его жена, Вера Геннадьевна, в темноцветастеньком крестьянском платье, тоже полумолчаливо поддерживала трапезные мужнины усилия, не сбивала его с толку. Она-то давно убедилась в том, что голодный мужик страшнее зверя.
– Итак, нам известна боль, но каждый чувствует ее по-своему, – убежденно говорил Никита. – Мир людской страшно разделен. И эта разделенность – то неоспоримо – рождает зло насилия. Нынешняя жизнь целиком зависит от того, кто, что держит на уме и в руках своих, кто какую гайку, где вытачивает.
– Пахать – мал, бранить – велик, за водкой бегать – в самый раз, – посудил язвительно Звездин, уже находясь на взводе, и засмеялся пакостно, будто храбрейший пловец, заплывший уже далеко в море, тогда как остальные еще топтались на берегу.
– Леонид, прекрати! – осадила его тотчас Нина Павловна, хмуря брови.
Но стольничавшие обошли вниманием его каверзную фразу, как обходят какое-либо препятствие на тропке, чтобы идти дальше.
– Все ломается, и нужно все сознательно ломать, – имею я в виду понятия, – сказал с пафосом Лущин. – От привычного трудно отвыкать, но нужно и что-то новое избирать – для того, чтобы узнать себя еще лучше, еще лучше выразить свои взгляды, мысли, надежды. Особенно – в творчестве…
– Ну, это уж камешки в мой огород, – заметил Костя. – Прощаю тебя…
– «У нас свобода сновидений», – вклинился опять говорливый пропойца. – Так любил приговаривать мой командир, лейтенант, когда подчиненные ребята спрашивали у него: а можно ли сделать вот так, а не иначе, и тому подобные мелочи. А ведь они, орлы, в разведку хаживали… Извиняйте…
– По-моему, Вы, Николай Анатольевич, не туда поехали, – возроптала бдительная Инга. Она хотела бы спасти мужа от избранной им компании: сыгранность той не нравилась ей, была ей просто подозрительна. И несколько беспокоило ее теперь то, что он заглядывался на Аллу, сидящую наискоски от него и занятую, к спокойствию Инги, щебетаньем с соседом – симпатичным Володей.
– Считаешь, что самое совершенное не то, что сделано тобой, а то, что думаешь сделать, – говорил Костя. – Поэтому и такие претензии к себе, и такое недовольство собой, что все хочется переделать. Основательно.
– Да, надо торопиться делать добро, – определенно высказалась и Евгения Павловна. – Для чего ж сотворены все проповеди – христианские, мусульманские?.. Но живется-то все не легче.
– Ну, дайте, товарищи, мне минут сорок пять, – взмолился Николай.
– Ты, патрон, не на партсобрании с докладом, учти, – перебил его Костя.
– Дайте… Я на примере литературных героев Бальзака докажу, насколько справедливо мое предостережение – не зевать момент. – Николай воодушевился и процитировал уместно и Данте и назвал его предшественников и годы их жизни, причем морщил большой лоб, и пальцы его дрожали. – Я все знаю. Мне не нужно говорить, кто сзади меня идет; я по лицу встречного вижу, кто именно. Капиталист или социалист. И благо или позор он несет с собой.
– Так и можно проглядеть вакханалию, – заметила Евгения Павловна, – не обижайся, брат. – И остановила Звездина, пытавшегося опять включиться в спор. – Что, Васька – кот? Васька – кот. Ты чего закрутился? – шутливо-серьезно обращалась она к нему. – Н-на, хлябни, морсу! Христос с тобой. Хлябни! Еще, матушка.
– Ему пора отчаливать – довольно назюзюкался, – сказала Нина Павловна сухо.
– А-а, присудила свое судейское решение! Сейчас подчинюсь… – Он отпил еще из стакана – и совсем нос повесил. Никто им не интересовался. Он был неинтересен всем, хотя он и еще надеялся на что-то, ерзал на стуле и злился. Особенно раздражал его нафуфыренный градостроитель (от всяких начальников-чинуш он натерпелся несказанно сколько – будь его воля, всех бы вывел на чистую воду!).
Между тем Володя и Алла увлеченно судачили о чем-то другом.
– И я покраснел. Он меня понял. И я его понял.
– Ну, Вам, конечно, сделают исключение. Вам такому да не сделать…
– В Москве я больше хорошеньких видел.
– В Киеве их еще больше, я уверена.
– Там условия позволяют и располагают к этому.
– Киев мне жутко понравился.
– Вот куда поедем или полетим летом. – Сказав это, Вика оттопырила ладошку с лепестками пальчиков. И покрутила ею в воздухе.
– Я прочел книгу Аксиоти о Греции двадцатого века, – сказал Никита. – Вывод: на качелях вечных – норма жизни у людей; что ими создается, то и разрушается бессмысленно, с треском. И к тому же это обставляется законами. А народ практический обделен. Как бы не хороши были законы.
– Но в тридцать шестом король Греции Метаксас разогнал парламент, стал диктатором; он назвал это возвышенно – «третьим возрождением», – уточнил Николай. – И тогда же в Испании Франко, тоже генерал, замятежничал.
– Имущие не хотят терять власть, – сказал Костя. – Редко кто отказывается от нее.
– Маэстро, у нас, в России, Николай Второй отказался. И что получилось?
– Что, юноша? Нашлись другие деятели. Образованные и не очень.
Засмеялись.
– Костя, прошу, кончай антимонию, а! – взывала Инга. – От греха подальше.
Его вольнословие и поведение пугали ее могущим быть последствием. Так их друг, Генка Ивашев подзалетел на год в тюрьму. Раз они, приятели, шумно веселились в столовке, превращенной в питейное заведение, и какой-то хмурый полковник начал стыдить их, молодежь. Да еще поставил по стойке «смирно!» Генку – его-то, безрукого, потерявшего руку в бою, кавалера двух орденов славы! Наорал на него! Естественно, пальцы здоровой правой руки Кости сами собой сжались в увесистый кулак, и он двинул им по обидчику… Вот недавно Генка был освобожден.
Костя же пока не мог остановиться – распространялся дальше:
– «Наибольшие опасности возникают при исполнении стандартных положений» – аксиома. Так? Теория всегда стройнее практики. И бойтесь копий. Копия – не оригинал. Ценен подлинник. Тот или те, кто копирует модели жития и дела по принципу повтора, теряют самобытность, вхолостую, считай, буксуют на месте.
– Ну, ты молоток: даже популярно объясняешь, – похвалил Николай.
– Я так понимаю, – не отставал и Никита, – что свобода в обществе – не прихоть чья-то; она не должна привносить в жизнь хаос и неуправляемость, стать словесной демократией.
– Да, вы заметьте, обычная вещь, что нормальный человек в душе костит себя направо и налево, если в чем-то надурил.
– Как водится у нас. Скорее дурь уходит…
– Но никакое правительство не признает себя виноватым в данное время, а говорит об ошибках прошлых лет.
– Костя, кончай, или я уйду!
– Сейчас, сейчас. Что касается культа личности. Ведь как для возвеличивания Сталина в свое время все делалось и оправдывалось официально, так ныне с таким же рвением уничтожается миф о нем. Мифом о Сталине погоняли народ.
– Подождите, и я скажу, – заторопилась Нина Павловна. – Почти анекдот… В суде нашем разбиралось одно простенькое дело. Нужный договор подписал тот человек, кто юридически не имел права его подписывать. Начались, как обычно, отнекивания, ссылки на кого-то еще, высказывались недоумения. Прокурор слушал, слушал препиравшихся, да и сказал всердцах: «Ну, что конь о четырех копытах может спотыкаться – это известно мне; но чтоб спотыкалась вся конюшня – этого не бывало».
– Как можете Вы, Нина Павловна! Фу! Не люблю Вас…
– А что, Иннушка… У некоторых молодых бывает такая романтика (по собственной дочери сужу): не люблю, и все; не хочу, да и только. А знаете, было, что Звездин, писал мне письма с фронта с такой припиской-концовкой: «Смерть фашистам и соседу Василю!» Василий некогда ухаживал за мной, да Звездин перебил… Тот погиб, а этот, Звездин, звездит иногда по пьяни… Бултыхается неисправимо… Не помочь ему…
Произошла какая-то затишка в разговоре.
Зато под звон бокалов, вилок и тарелок светлоликая Вика встрепенулась и лукаво прищурила близорукие глаза:
– А кто-нибудь из вас пойдет опять добровольцем?
– Куда? И зачем? – Николай был удивлен ее вопросом.
–Конечно же, в Египет… Поскольку, сами знаете, Суэц национализирован, и страны Запада напали на Египет, и все заговорили о добровольцах, как дробровольничали когда-то в Испании – я слышала о знакомой методистке… Да и был там тоже Хэмингуей – любимый мой писатель…
– Ну, ему на поклонниц повезло, – проговорил Николай. – Испанские коммунисты уже пересмотрели свою позицию по отношению к диктатуре Франко и, предполагается, вскоре испанские беженцы вернутся домой… Близкий мне приятель собирает материал и пишет о тех событиях…
– Так кто же пойдет добровольно?.. – Не отстала Вика. – А Вы, Константин?
– Нет, увольте – я не пожарник, – сказал Костя. – Меня не меньше тревожит кавардак в Венгрии: я освобождал ее от гитлеровцев и хортистов. Мы – наше поколение – спокойны совестью; мы – павшие и живые – исполнили по совести первейший наш долг – защитили свое отечество, свой дом; пускай и все правдолюбцы также, не маясь, не злобствуя корысти ради, послужат народу своему, а не какой-то идеи фикс. Тогда мы и поговорим.
На него-то, говорившего, блеснул взглядом сосед Лиходеева (по столу) – уравновешенный мужчина-молчальник, но не сказал покамест ничего.
– А я, пожалуй, стал бы добровольцем, – признался Лущин, отчего Евгения Павловна аж охнула – от неожиданности его признания.
– Не пугайтесь: юноша блефует, – успокоил всех Махалов. – Он не сможет.
– Отчего же не смогу, маэстро? Ты не говори. Ведь я –бывший танкист!
– Тебя, Коля, авторы прежде сожрут. Есть у тебя пристанище – очаг, жена и двое детей. Или ты действительно избрал путь моралиста-обновленца?..
На это Лущин только улыбался широко, доверчиво, любя всех-всех.
IV
Нередко, когда хочешь что-то умалить разговором и забыть, случается совсем обратное: вот разговариваешь и чувствуешь, что в душе становится еще постыдней, беспокойней. Порой – из-за чего-нибудь пустяшного. Такое почувствовал и Махалов, только что все насытились и наговорились, и даже налюбезничались, и, соответственно, зауспокоились оттого, что вроде бы нужное дело сделано.
И опять он магнетически взглянул на молчаливого гостя, будто с пристыженным чувством за ребяческую в себе и прущуюся вон эйфорию перед наступающим новым духом времени – не ошибиться бы в том по наитию. Он потому пристальней взглянул на незнакомца, что от того исходили великое спокойствие и уверенность так же, как и от нового знакомого – высокорослого, плечистого Иконникова, морского капитана третьего ранга, военного проводчика английских кораблей в Мурманск. Иконников, как политический заключенный, отсидел (по навету недоброжелателя, которого знал) в колонии под Магаданом десять лет; он был ложно обвинен по трем смехотворным статьям – как то: связь с английской разведкой (при обыске у него нашли портсигар с гравировкой на английском языке – подарок от боевого английского капитана), попытка покушения на Сталина (кортик) и еще нечто подобное. О, слепая Фемида!
Недавно выпущенный из заключения, Иконников пришел за художественным заказом в издательство к Махалову, который боготворил таких стойких людей, более высоких, чем он сам, по духу.
Обстоятельный Залетов, номинальный глава дома, блаженствуя от малой радости и, не скрывая этого, со старенькой балалайкой в руках, как только столы сдвинули к стенке, начал натренькивать вальс и славно вспоминать былое, и под звуки бренчавших струн гости еще вальсировали и смеялись над собой. И пуще разошлись, когда Лиходеев, одержимый, видимо, манией вечно первенствовать во всем, стараясь прытью перещеголять и никчемную, по его понятию, молодежь, или показать всем пример, даже пустился в пляс. Великолепно. Подстать ему держалась и Вера Геннадьевна, шумливо-визгливая теперь, просто не знавшая: старая, замужняя она или нет, и стоит ли ей быть посдержанней, поприличней, когда так весело.
– О-о! Вспыхнула, как березовые веники! – Подначивал Игнат Игнатьевич ее во время пляски. – Ну, ты меня прибила сразу, что я сесть не могу теперь. Видишь, прибила к стенке…
Балалаечник, его шурин, уже не умевший так веселиться по старинке и берегший свое здоровье во всем, чтобы только подольше прожить на этом свете, лишь повторял со смехом:
– Ой, куда мы идем?! Куда только идем?! – И качал головой.
– Ах, мечта в полоску! – Сказала Инга вслух со вздохом, гладя на Аллу, жмущуюся к красавцу Володе.
– Я тебе объясняю: надо жить, а не досаждать другим! – выпалила вдруг Нина Павловна. – И захохотала звонко и красиво, но вполне дружелюбно, радуясь прежде всего своему нравственному здоровью и очередному избавлению от настырного мужа, а также от страха отставки после разгромной (очевидно, заказной) статьи, напечатанной в «Известиях» о том, что она оправдала якобы возможно преступного юношу.
И эти слова ее еще долго колебали воздух, звенели и отдавались в ушах Инги, как несправедливый ей приговор, именно ей, а никому другому.
Что, смирись, смирись, гордыня?!
И все расставилось по своим местам. Для Инги важней всего было узнать (и вздохнуть свободней), что ее несло куда-то слепое желание: по словам Лущина Стрелков – фик-фок на один бок – занят любимой женой и карьерой, он с Аллочкой даже не знаком; для Лущина главное было поговорить в кругу хороших собеседников, хотя и в этот раз он не успел высказать всего, что накопилось в его сейфе – голове: уймища идей; для Звездина – предстать перед всеми и собственной женой не конченным-таки дураком, а здравомыслящим супругом, готовым всегда к броску наверх из житейской траншеи; для Нины Павловны, как общественному, в первую очередь, лицу, – наконец покончить с таким его появлением, унижающим ее, но она пока не могла решить такое по-живому, хоть и могла судить в суде живых людей – других – на основании законов. Для Кости неудобством в компании представлялось присутствие жены: при ней он испытывал все же какую-то скованность и беззащитность. Как, наверное, та Настенька, вспомнил он, из корректорской, которой он, увидя ее давеча в милом сиреневом платьице, позволил себе сказать так нелепо:
– Невестишься ты, что ли?
И теперь, сожалея и жалея ее, ругал себя за это.
Да, Настя, несмотря на свои двадцать восемь лет и то, что она уже имела шестилетнего сына, была совершенно по-девичьи молода, мила, проста, доверчива. Костя и она накоротке разговаривали друг с другом о чем-то обычном, остановившись перед аудиторией. Однако это, видно, было ей скучно, ненужно; она ждала чего-то другого, не пустяшного. Она странно – жалко и грустно провела раз и обратно взглядом по его глазам, каким раньше не смотрела, и испуганно отвела взгляд в сторону. И этот взыскующий ее взгляд сказал ему все: что она мучается, живя без любимого мужчины, и как бы проверяла себя – примеряла к нему, Косте, – и как он этого не понимает! Только он тут все ясно понял, и она неожиданно увидала то и потому замолчала тотчас. После этого он старался больше не говорить фальшь достойным собеседникам, чтобы не сожалеть потом.
Наутро Костя столкнулся в вестибюле Университета с Владимиром, которого немного узнал по его отцу – маститому биологу. Они любезно поздоровались, раскланялись друг перед другом. Почти заговорщически.
– Знаете, – смущенно заговорил тот, – никак не могу вспомнить лица голубенькой мадонны, с кем мы вечером щебетали и кого я потом провожал. То ли чуть перебрал на радостях, то ли не на то обращал внимание.
– Ой, Владимир, и я не могу ее представить себе сейчас, – признался Костя. – Что-то очень женственное… Ускользает ее образ… И была ли она вообще?..
– Ну, Вам-то, физиономисту, негоже не лицезреть красоту…
– Но не я же завлекал ее… Я лишь подглядывал…
И оба они толкнули друг друга в плечи и расхохотались.
– Есть и другие личики на примете. – Черт дернул Костю за язык.
– Да-а? Интересно… – При этом Владимир покосился на девушку-шатенку, красовавшуюся в газетном киоске.
И они разошлись по своим делам. Как уже хорошо, замечательно знакомые.
V
А днем наскоро заехал к Махалову в издательство измаильский дальнобойщик Жорка Бабенко, его боевой друг из бывшей Дунайской флотилии – атлетически сложенный мужчина, чертовски сильный, загорелый, густо говорящий, принципиально не снимающий с себя флотскую тельняшку. Да, он по-черному шоферил и теперь довез груз в Ленинград; этим и воспользовался для того, чтобы встретиться. Друзья радостно обнялись. За них порадовались тоже повоевавшие и все понимавшие Лущин и Кашин, и они вчетвером, гомоня, направились прямо в столовую – «Академичку» (что находилась рядом – у Менделеевской линии): Жора, как признался, дико проголодался в поездке. Зато он и взял себе на обед килограмм сарделек, кроме солянки, салата и картошки.
И вот, сидя за столом и разбираясь с едой, Жора и Костя говорили о том, кто из их товарищей где нынче здравствует и чем занимается, вспоминали и какие-то эпизоды, связанные со штурмом нашими частями Будапешта в январе 1945 года, когда Костя был ранен и госпитализирован.
На фронт Махалов ушел в 1942 году второкурсником Ленинградской специальной морской школы, проявив отменную настойчивость, – подавал прошение о том не раз; многие курсанты просились туда, но отпускали отсюда крайне редко. Он рвался туда, где мог схватиться в открытую с напавшим врагом: его звал долг чести; в начальных боях погиб его отец, комиссар, еще сумевший – раненый, лежа в повозке – вывести по компасу окруженных бойцов. В блокадном Ленинграде осталась одна его мать, педагог, женщина тоже заслуженная, стоическая, несмотря на ее внешнюю неброскость – небольшой росточек, скромность, не шумливость.
А Жора начал фронтовой опыт с первого же дня немецкого нападения. Служил пехотинцем и матросом на судне и морским разведчиком. Исползал на животе, что говорится, все от Крыма до Новороссийска и обратно. И дальше. Оба его брата погибли. А что и отец пропал без вести, он узнал лишь в 1944 году, когда наши освободили изщербленный Измаил, и он нашел мать и сестру живыми.
Это Жора спасал Костю, коварно подстреленного власовцем в пролете здания Будапештского банка, – быстренько вытащил его из-под обстрела на улицу, за мраморную тумбу; здесь Костя лежал совершенно беспомощный – над ним цвикали пули, свистели осколки, куски щебня, пока Жора отстреливался и не подоспели товарищи – невообразимо долго.
– А ты, Жорка, помнишь, как вы ввалились в палату армейского госпиталя – ко мне? – Костя прожевал кусок сардельки. – Госпиталь помещался под Будапештом, в какой-то бездействующей тогда школе.
– То все при нашей памяти, друг, – сказал Жора, поглощая еду.
– Мне помнится еще: ты приворожил тем днем медсестру-толстушку. Фамилия ее была Индутная. Вы понавезли гостинец, угощений, вино…
– Надо же! И ты аж фамилию ее запомнил? Ну, мастак!
– Так она расписалась на моей груди.
– Что, доподлинно? – удивился уже Николай. – На гипсовой накладке на рану. И потому-то мне запомнилось ее имя.
Картина послеоперационных хлопот с ним в перевязочной Косте виделась зрительно сейчас даже отчетливей прежнего. Его гипсовали на деревянном помосте, возле горящей печи (у противоположной от окон стене). Рядом был столик с гипсовой массой, с бинтами, пропитанными ею, тут же – ведро с бинтами. Медсестра бинтует вокруг тела, захватывая грудь; последнее, что она делает, – выдавливает на сыром еще гипсе химическим карандашом: «ХППГ № 50. Гипс наложен 19 января. М/с Индутная». Эта штука была у него как раз на груди – он эту надпись читал, глядя в зеркало, когда был без тельняшки.
– А назавтра после гипсования, рано утром, – рассказывал Костя для всех, – я проснулся от близкого грохота. Глаза продрал и вижу – парень, мой сосед, стонавший непрестанно, сидит на нарах. Чумной. И только-только приходит в себя. И даже не стонет.
Оказалось, ему – он после признался – приснилось (и ему повиделось), что в палату вошел какой-то человек. Был тот в белом халате. И объявил о срочной эвакуации всех, так как ползут сюда фашистские танки. Причем и точно скомандовал: «Кто сам может идти, выходите вон живей!» И вот парень (он был ранен в левое бедро, и стянут гипсом по торсу как обручем) во сне нащупал правой рукой нож под матрацем, подцепил лезвием крепчайший гипс (режут-то его ножницами, когда снимают) и снизу вверх располосовал его. Разорвал его и выбросил на пол. И только тут он очнулся, когда обломки гипса грохнулись о пол; и он увидел, что сидит с кровоточащей раной на бедре, а тот человек-видение исчез. Вместо того возник перед ним настоящий дежурный врач – и был поражен. Врач осмотрел тело пациента – и на нем даже царапины от ножа не нашел! Какая же силища вышла наружу! Разом!..
И снова отправили бедолагу на гипсование.
Я еще расскажу, Жора, ты ешь, ешь… Был здесь достойнейший зрелый хирург. В минуты, если выдавалось полегче, он читал нам, раненым, поучительные лекции, чтобы подбодрить нас… Например, он говорил: «А сейчас я прочту вам лекцию о любви. Хотел поговорить с вами об остеомиелите… Но потом…» И он говорил нам, по сути, мальчишкам, без всякой похабщины, об отношениях между мужчиной и женщиной. «У вас, ребята, все будет! Нужно учиться любить друг друга…»
– Уважаю таких сподвижников душевных, – сказал, вздохнув, Николай. – И что дальше?
– Подожди, Коля, еще не все… Скажу: может быть, поэтому и атмосфера в палате держалась уважительная… Однажды какой-то обормот легкораненый, но скрипучий стал обругивать медперсонал – женщин, так все раненые сами дружно осадили его: «Да ты, гнида пузатая, что корчишь из себя? Ты видишь, как они здесь на коленях ползают перед тобой; все моют, вылизывают – покою не знают, а ты кочевряжишься… Выселим тебя!..»
Лежал тут еще один интересный еврей – матрос. Под Одессой его родные прятались от оккупантов, но тех выдал какой-то негодяй – их расстреляли немцы. Когда освободили Одессу, этот матрос выпросил у начальства три дня отпуска, приехал туда, на родину. Убедившись, что родных уже нет на свете, он застрелил негодяя и вернулся в свою часть на фронт. В бою он потерял обе ноги, но ночью в бреду забывал о том – и вскакивал. И был в ужасе от того, что на лице у него назрел пугающий чирей. Умолял всех: «Ой, не трогайте, только не выдавливайте! Я умру…» Лечащий врач подошел к нему. Со словами: «Ну разве можно это трогать? Никоим образом!» – И вдруг как нажал пальцем посильней – и сразу стержень нарыва выскочил.
– Тебя же оттуда увезла на лечение, как я помню, одна молоденькая докторица, – заметил Жора.
– Было, было, кстати, с вашей помощью. – Костя улыбнулся.
– А куда? – спросил Антон.
– В Морской стационар. На территорию Румынии.
– Расскажи-ка нам, маэстро, про это, – попросил Лущин, оживившись. – Все-таки романтика. Да и Жора, наверное, не все знает. Некогда было…
– У Жоры самого таких историй тьма, – сказал Костя. – Он скрытничает.
– Ничего похожего нет и в помине, – засмущался Жора. – Ты давай – рассказывай. Не мучай людей.
– Да мне жаль: видно, в сборе на отъезд тогда я и потерял редчайшие карманные часики. Спохватился, что их нет у меня, слишком поздно. Очень расстроился.
– Какие часики, Костя?
– Память. Мне их подарил в палате один пехотный лейтенант. Умирающий. Израненный шрапнелью. Лежавший почти рядом со мной. На нарах. К нему приезжали моряки с обожанием и преподнесли ему старинные часы – черные, с цепочкой и с чугунными крылышками. Так вот он, когда принесли нам завтрак, приподнялся чуть с усилием на локте, и спросил у меня, действительно ли я моряк. На мне же была натянута тельняшка. Я назвался чернофлотцем, рулевым. Что ему точно понравилось. Сунул он в руки лежачих ребят – для передачи мне – эти часики, подаренные ему: «возьми, друг, на память. Теперь пусть тебе они послужат… Хочу объяснить, служивые… Я преклоняюсь перед моряками, люблю их за верность. Со мной же, еще юнцом, в Одессе это приключилось: попал я в потасовку с уличной шпаной; та набросилась на боцмана, который защитил от них бабульку с трешкой. Я мимо проходил. Боцман только крикнул мне: «хлопчик, помоги! Спину мне прикрой!» Ну и заскочил я за него. Забронился кулачками по-боксерски малость, да куда хиленок был; прикрывал его, скажу по-честному, не спасительней бумаги папиросной. Истинно. Но за минуту-две боцман раскидал прочь бандюг. Я же по-геройски угодил в медпункт – потерял сознание: меня крепко огрели чем-то по голове. А назавтра в больницу ко мне явилась во всей красе полдюжина военных моряков! С цветами и конфетами… С этого-то, други мои, и заладилось их шефство коллективное надо мной, подопечным; они-то уж не забывали обо мне, если мы брели-ходили близ друг друга по одной широте…»
Костя, так рассказывая, привздохнул:
– И как я потом забыл тот подарок офицерский? Очень сожалею.
– Небось, загляделся на докторшу… – Сказал Жора.
– Ты, Костя, знаешь: твоя забывчивость иногда возникала в такой степени, что и собственное имя забывал, не то, что фамилию, – перебил его Николай.
– Представляю, Коля: у тебя, танкиста, такого не могло быть, – заторопился, чтобы успеть высказаться Малахов. – Мы, матросня и солдатня, всегда молились на вас, танкистов-героев, восхищались вами. Ты в открытую освобождал от гитлеровцев города. Танком управлял… Сидел в нем, как в самой наковальне – ведь по броне вражью снаряды долбили… Ты – сильный духом человек.
– Сильный… а бессилен на миру… в словопрениях…
– Бывает… Только что меня просила соседка урезонить другую – бабушку-татарку и ее внука Федора устыдить… Парню – двадцать восемь лет. Уже старше нас, отвоевавших тогда юнцов. И теперь мне-то нужно устыдить этого Федора. «Ой, – сознался я перед ней, – я и на своего фараона повлиять не могу».
– Ну и ну!
– Внук Федор рос у бабки без отца и без матери. И она очень жалела его. А он, пользуясь этим, выманивал у нее всю ее скромную пенсию. Он работал в театре осветителем, получал рублей сорок. Мечтал устроиться певцом. И бабке говорил, что не поступил пока в консерваторию только потому, что накануне не выпил трех сырых яичек – их ему не на что было купить. И она верила во все его бредни – и ссужала его рублями. Разумеется, без возврата.
– Аллах! Греха нет! Грех вам будет! – Слышались в квартире привычные бабушкины причитания.
Это она заклинала двух своих взрослых дочерей, пришедших к ней с проверкой, чтобы те замолчали, не хулили племянника. Они приходили к ней с видом просящих (чтобы так узнать, отдала ли она в тот месяц свою пенсию). А он нарочно выбирал время и выпрашивал у нее рубли до прихода тетей. Она говорила им:
– Нет денег. Человек занял. Человек отдаст.
– Когда же?
– Три дня уже. Три дня говорил. Через три дня будет.
– Мы знаем, что это за человек? Федор?
– Ай, Аллах! Греха нет! – Начинала она причитать.
– Ну, ладно уж! – Прервал его Жора, – ты лучше расскажи про молоденькую докторицу. Небось, был молод, шибко влюбчив – кровь в тебе играла…
– Постой! Зачем «был»? – возразил с горячностью Костя. – Не-е, мне тут не светило ничегошеньки… Я боготворил… Поверь…
– Ну-ну, молчу, мил-дружок. Молчу.
VI
И сказанное Махаловым было верно пожалуй. Тогда.
– А где же мой матросик? – живо воскликнула влетевшая в госпитальную палату, как увидал Махалов, белокурая капитан медицинской службы. С морозца она, ладная собой и, видно, уверенная в себе молодая женщина, придерживая пальцами шинель, лишь накинутую на плечи, в берете и щегольских хромовых сапожках с желтыми отворотами, стала в помещении и разом оглядела ряды нар с ранеными. Это несомненно заинтриговало беспомощных бойцов, оживило их; все зашевелились, нетерпеливо заскрипели на досках, зашумели-забормотали.
Должно быть, время настало такое, считал Махалов, что все девушки, которых он видел, казались ему наикрасивейшими, как на подбор, – глаза разбегались…
– Слышь, Костик, ведь тебя краса ищет, – сообразил его сосед. – Ну, завидую, ты глянь: тебе чудно повезло по женской части. Вот счастливчик!
Вошедшая дива уже взглянула прямо на лежащего Махалова, у которого поверх наложенного на грудь и руку гипса была натянута тельняшка – грех не заметить ее, и, подойдя к нему поближе, ласково осведомилась:
– Матрос Махалов? Капитан Никишина.
– Точно так: морской разведчик, – уточнил он будто с некоторой претензией к ее недогадливости, приподнимаясь на логте и непочтительно глядя в упор своими густыми зеленоватыми глазами на нежный светлый лик, возникший перед ним точно из небыли. В иных – лучших – обстоятельствах ему, фронтовику, полагалось бы вытянуться в струнку перед старшей по званию особой, и он бы с радостью это сделал по своей галантности и обожанию; только теперь он, и рыцарь в душе, был прикован к постели и мог лишь проявить свое остроумие.
– Я заберу тебя отсюда, ладно? – И Никишина слегка порозовела от смущения перед его упорным взглядом.
– С Вами хоть куда! – Он, осмелев, даже не спрашивал, куда.
– Капитан, помилуйте!.. – проворчал поспешивший сюда хирург – майор, в белом халате, выбритый, строгий и вместе с тем доброжелательный. – И здравствуйте… Чем обязаны Вам? – И естественно – просто подал ей руку.
– Здравствуйте! Никишина. – Улыбнулась капитан. – Двух наших моряков увожу в морской стационар. Вот распоряжение…
– Чье распоряжение, товарищ капитан? – несдержанно спросил Махалов.
– По приказу командующего мы приехали сюда.
– С тебя причитается приятель, – заявил опять сосед-говорун. – Вишь, не хотят, чтобы ты потерялся среди нас, пехотной братвы… Чуешь?..