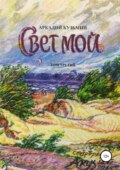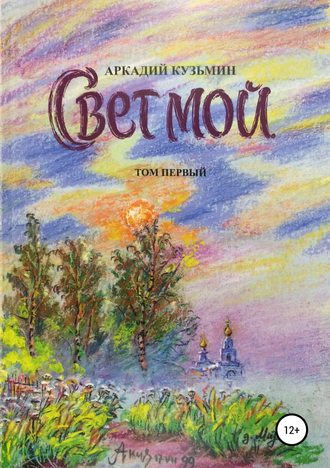
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 1
На миг Антону представилось: вот этот сраженный боец, атакуя, набегая из-под Волги, в секущем февральском полурассвете, мчал с колотящимся сердцем прямехонько на дьявольский редут, изрыгавший убийственный огонь и черноту, и уже опередил приостановившегося соседа, слабо простонавшего; он уже увидел, как дьявольски сверкнули из-под ребер нахлобученной на голову горбатой каски угольки глаз засевшей стальной немчуры, трясущиеся костлявые руки гада, наводящего именно на него ствол смертоносно брызгавшего автомата, и подумал только: «Врешь ты, гадина! Не возьмешь!» И он как бы поскользнулся некстати, в ненужный момент. Он-то все хорошо видел, понимал, но ему надлежало непременно успеть доделать начатое им; он попытался на бегу выдернуть гранатную чеку, да в горячке он вдруг стал почему-то наклоняться, не успел нащупать чеку, и земля стремительно сама наехала на него (родная земля), словно спасала его; он лишь почувствовал в последний миг у самого лица сырой огуречный снежно-землистый запах, улыбнулся тому, и дыхание у него уж прервалось… Граната-лимонка выкатилась наземь из его разжатой ладони. И он затих.
Среди других полегших молодцов. В слепой, неподготовленной атаке.
Рядышком голубь пролетел, рассек воздух со звуком. Будто зримый голубь, облетев круг от того дальнего дня и часа и того памятного места уже на абрамковском большаке, где упал гонимый в колонне пленных и подстреленный жидким гитлеровцем красноармеец – упал тогда в двух шагах от Антона. Этот голубь и вернулся сейчас к Антону и его коснулся своим крылом.
И кто-то прошептал вслед упорхнувшей опять птице, растворившейся в некой органной музыке, мазках красок:
– Помнишь, мальчик?
Антон медлил, и за него сказал голос:
– Помню. Спасибо тебе за напоминание.
Ну, а те неистовые мясорубщики и вандалы-арийцы, которых наствозыкнуло и благословило германское правительство на невиданный разбой в России – те из них, которые сами сбереглись удачно в пекле развязанной ими войны, – разве они покаялись в непростительно совершенном ими зле на чужой земле? Да никоим образом! Ничуть! У них есть один железный аргумент: был такой приказ; они ослушаться не могли, как солдаты. Это была их обычная работа. Бесполезно тут касаться совести.
Роботы, послушные исполнители сотворенного ими чудовищного зла, и поныне изображают из себя очень заслуженных и добропорядочных европейских граждан, живущих в согласии с законами и думающих всегда правильно и хорошо. И их благовоспитанные детки и внуки в парламенте, еще услышим мы, будут с пеной у рта разглагольствовать о том, что, дескать, у русских-то не все ладно с правами человека и что нужно требовать от них если не уступок в том-то и том-то, то хотя бы дележа кусочков природного пирога, которым они владеют, – Запад ведь это может оплатить. Но то, что агрессор нанес нашей стране величайшее разорение своим вторжением и выбил целые трудоспособные поколения, – об этом наследники его молчат благоразумно.
Едва ли не двадцатую часть репараций от причиненного ущерба получил Советский Союз лишь от одной Германии. От бездны же других европейских ее саттелитов, охотно воевавших на нашей территории, нисколько. А ведь только 24 дивизии Финляндии держали долгую блокаду Ленинграда – родного любимого города ее верховного правителя и героя, русского офицера Маннергейма. И Финляндия тоже содержала в невыносимых лагерных условиях военнопленных красноармейцев. И те гибли.
Таковы-то эти доблести. О них – негоже говорить?
Гостей отвели на ночлег в райски пустовавшую наверху светлицу, еще попахивавшую краской, но в окна вливался волжский воздух. Оленька была очень довольна собой, оживленной и счастливо усталой. Антон лишь поцеловал ее, прилег на мягкую постель; и они тут же успокоились, отдалились. Его потянуло в сон. Он не сопротивлялся. Правда, еще пустословил сам с собой: «Ну и что я высматриваю? Я, конечно же, отъявленный трус. Кому помог в беде? По большому счету. Никому. Даже и не мыслю оказаться у пропасти – выстоять, не спасовать… Пекусь о себе, своих пристрастиях, выгодах, ревную… Ладно, что никого не убил, хотя ненависти к пришельцам и хватило надолго; она не выветрится, видно, никогда…»
Как знающий посетитель Третьяковки, Антон одиноко поднимался по прямой парадной красноковровой лестнице, ведущей на второй этаж. Целеустремленно завернув влево, вошел в большущий темно-красный зал, как бы наглухо задрапированный сверху-донизу, без окон и без всяких экспонатов. И увидал небольшого, но значительно расхаживавшего и ушедшего в себя Сталина, в глухой серой шинели. «Значит, он переживает», – нашлось в памяти то слово, которое не любил употреблять Лев Толстой. И с толикой сочувствия и как более выдержанный и здраво рассудительный гражданин, способный кое-что понимать, стал успокаивать его: «Да Вы плюньте на весь шурум-бурум, Иосиф Виссарионович, еще рассветет…» Но Сталин не то, что не внимал его словам; он и слушал и не слушал его, прохаживаясь взад-вперед, или значительно не слышал его.
Затем Антон еще умиротворял почему-то и задиристого, каким был, Генку Племова, который, скандаля с ним за час до своей гибели от бабахнувшего снаряда, с такой силой запустил в Антона камень, что тот просвистел над самым ухом и содрогнул тес крыльца. А самому Антону мама говорила-наговаривала: «Ты смотри сам, сынок; как хочешь, мне жалко, я не знаю… И мальчики, вишь, гибнут напрасно…» – Говорила смиренно перед невозможностью что-то исправить, на что-то повлиять…
Было, было все такое.
IV
Мы предполагаем, но точно история судит о связи текущих событий.
В том же 1943 году, когда Сталин, быв в Хорошевской избе, назначил первый победный салют в честь освобождения Орла и Белгорода, когда в Пруссии Гитлер буйствовал от того, что его ассы-генералы провалили и эту летнюю операцию «Цитадель», когда британский премьер Черчилль, интриган и посол холодной войны, хотел бы ввести на Балканы турецкие войска, чтоб опередить таким образом приход сюда Советов, коим он привирал не спеша открыть второй фронт, когда, впрочем, и честно-мудрый американский президент Рузвельт желал бы прикончить все 200 с лишним немецких дивизий только руками русских, без помощи (и, значит, потерь) союзников, однако же был не прочь как бы половчей перехватить-таки победу и побыстрее русских войти в Берлин, когда семью Кашиных известили о том, что их отец пропал без вести на фронте под Ленинградом, а юного Валерия Кашина нацисты, отступая, гнали с лагерем в глубь Смоленщины, – именно тогда, августовским днем, четырнадцатилетний Антон Кашин стоял над телами трех мальцов, подорвавшихся на мине над Волгой. Восточней Ржева, под Таблино.
Этот край был донельзя искровлен, истерзан вражьей полуторагодовалой оккупацией. Такое и представить себе невозможно.
И столь невыносима была роль прощания с убиенными, неизменного испытания при сем какой-то своей вины в случившемся, поскольку ты сам-то еще все-таки жив и здравствуешь под солнцем, вопреки всему. Неважно, что ты еще не совсем и взросл, не можешь отвечать морально за чью-то безответственность, чье-то соучастие в очевидном зле – стойком помрачении и агрессивности миллионов германских мужчин, отравленных пропагандой и ядом насилия повсеместного.
Вышло так, что Антон уж почти с месяц служил в Управлении Полевых госпиталей, прибывших сюда из-под самого Сталинграда: он упросил военных взять его в часть, и командир – добрейший подполковник, толстяк Ратницкий, дал на то согласие под расписку его растерянной матери, Анны, прежде трижды перебеседовав с нею.
С нею же оставалось еще четверо детишек…
В рассыпавшемся березнячке разошлись военные палатки.
Омрачилась и пустилась в слезы вольнонаемная повар Анна Андреевна из далекой Ахтубы, когда она услышала от прибежавшей сельчанки о гибели мальчишек, в том числе и обоих братиков Лены, сверстницей Антона, с которой он раза два собирал в поле щавель для варки зеленых щей взамен наскучившей армейской еды. Она-то, Анна Андреевна, и умолила его пойти в село, чтобы отдать последний долг пацанам, и сержант Кулагин, новый шеф-повар, наводивший круто, по-солдафонски, свои порядки на кухне, теперь, хмурясь, не перечил ей.
Да только Антон надвинул на голову красноармейскую пилотку, как донеслись тоненький скулеж и всхлипывание; из-за кустов показались сама Лена с испуганной подружкой – обе в слезах. Они принесли пустые кастрюльки – те, в которых Кулагин накануне послал для ребят излишки еды. Анна Андреевна обняла девочек, прижала их к себе. И Лена, рыдая, лишь сообщила, что в этот раз они не набрали нисколько кислицы.
Русая Лена, в вылиняло-пятнистом платье, была взрослеющим подростком без какого-нибудь девчоночьего притворства, чего, естественно, и не могло быть в тяжелейших прифронтовых условиях, под бесконечными бомбежками и обстрелами вокруг, при выживании в примитивных землянках. Антон все же покровительствовал Лене, когда они, встречаясь, собирали по пригоркам щавель; они кружили с разговором вблизи ее более не существовавшей деревни, начисто сметенной, как и все окрест, металлом и огнем, – лишь бурьян выдавал ее местоположение. Никто здесь не косил сейчас высокие травы – было некому и незачем: никакой скотины не осталось. И опасна могла быть косьба: столько торчало повсюду в земле ржавеющих осколков железа…
Лена тогда спросила у Антона, почему же он пошел служить, коли мама жива? Не жалко расстаться?
– Стало быть, мне так очень нужно стало. – И он, не зная, как понятнее объяснить свое решение, вздохнул оттого, что еще не совсем освоился в военной части, а уже нарвался на конфликт с Кулагиным и тосковал по дому, которого тоже уже не было. Странно!
– Разве не страшно быть возле фронта? Мы-то натерпелись, ой!.. Такого никому не пожелаешь…
– Как же все случилось, Лена? – спросил Антон сейчас, направляясь с девочками в их деревню.
– Мы… – Она сглатывала слезы. – Ну, мы кислицу собирали… Я и братики…
– Что же, для себя?
– Почему? Не для себя. А он приходил – нас попросил.
– Кто приходил?
– Ой, забыла, как его зовут… Повар ваш…
– Но мне-то он не сказал ничего… Непонятно…
– Видимо, решил, что мы справимся… Одни… Да не справились вот…
– Пожалуйста, забудь про то, что навлекло беду…
– Это я одна виновата. Я не уследила за своими братиками: они захотели между делом мину раскрутить – нашли ее в траве; понимаешь, они с самого начала занимались не кислицей, только мешали мне; я, как могла, покрикивала на них, но бесполезно: не смогла их остановить, как ни умоляла…
– Верно, верно, Лена. Ты была бессильна тут… перед ребячьей страстью все потрогать, пощупать… Саша, мой брат, тоже такой ловкий…
– Были-то они ведь под приглядом у меня – у старшей…
– Да, примириться с этим нелегко. Понимаю…
V
– Сейчас я покажу, где взорвалась у них мина, – сказала Лена, свернув от Волги опять и всходя на невысокий склон.
– А какая ж из себя мина-то была? – спросил Антон. Ты видела сама?
– Да обыкновенная такая. Отчетливо видела.
– Круглая?
– Да, такая маленькая, остроносая бомбочка хвостатая.
– Ну, понятно: при стрельбе она вставляется в ствол миномета.
– Вот на этом самом месте, у окопа, – показала она Антону, – они ее подобрали. И решили разобрать. С братьями моими увязался и тети Матрены Колюшка. Патронных дел мастер. Ну, они и сговорились быстро. На ходу. Вон туда мы шли. Ну, когда они решили разобрать, мне стало страшно так за них, что аж ноги у меня в коленках подкосились и я с испугу ничего сказать не могла – отнялся даже язык; я не могла опомниться, их остановить, чтоб они не делали этого, – говорила Лена, то продвигаясь по склону, то приостанавливаясь, стискивая кулачки у груди. – Боязно мне за них всегда бывало. А тут я одна старшая была с ними тремя, и поэтому очень испугалась. С корзинкой, я вся задрожала, стала умолять их: ребятки золотые, бросьте вы ее! Что вы делаете? Ведь она взорваться может – и тогда поубивает всех вас! И смотрю на эту бомбочку в их руках – и все страшней мне делается; и хочется бежать куда-то прочь, и кричать что есть сил. А они смеялись надо мной: девчонка и есть девчонка! И одно мне ладили: «Ты, Ленка, не бойся шибко, не дрожи. Больно ты пужливая. Боишься какой-то малюсенькой мины… Мы же поглядим, чем начинено внутри ее и как головка у нее откручивается…»
Я за большего брата, Петю, уцепилась, – плачу, уговариваю его бросить мину, а они уже головку пробовали отвинтить – вот где, над овражком этим. Колька, тот не смог, передал Пете в руки. Все они над миною склонились. Им – не до меня. Я со страху закричала: «Миленькие, бросьте! Кончите так баловаться! Не могу я больше…» А сама под горку эту побежала. По привычке той, как обычно прятались мы от бомб и снарядов. Струсила я порядком. – Лена всхлипнула, затем продолжала снова: – Не успела я до низа еще добежать, как что-то лопнуло и брызнуло надо мной. Меня швырнуло в спину, и я торнулась в землю лицом. Только и подумала: «Ну, бахнул рядом с нами какой-то снаряд прилетевший. Как некогда бывало». Корзинка из рук моих выпала. Но опомнилась, повернулась я – стала опять наверх карабкаться. Сначала на четвереньках. Ну, забыла, что можно на ноги встать. Звала: «Петя! Павлик! Коля!» Никого и ничего. Только в ушах звенело. Ну, кое-как влезла я на горку – и глаза мои, знаешь, не видят привычного: нет никого из ребят, одна я стою. А передо мной – земля почернелая и это… что было они… разбросано… Я зажала уши и в деревню понеслась без памяти. Ведь говорила же я им, предупреждала их… – И Лена, замолчав, опасливо покосилась на Антона, когда он, увидав в траве сверкнувший осколок от той, вероятно, мины злосчастной, нагнулся и поднял его на ладони – кусочек металла.
Взрывом ощутимо покромсало, выщербило, опалило травяной покров вместе с дерном.
Бегущая приволжская тропочка, малоприметная и малохоженая, все выпрямлялась; впереди возникли культяпки яблонек, обрубленных минными и снарядными осколками, вишенник, малинник и густые крапивные, лопуховые и всевозможные травяные заросли, скрывавшие осунувшиеся землянки. Возле одной из фактически земляночных нор скорбно-неподвижно стояли, как некое одно изваяние, несколько сухих, показалось Антону, старух в полиняло-темных платках с замороженными лицами и с повислыми руками. Кто-то из них горестно, тоненько поскуливал, подвывал как бы про себя, точно жалуясь одному небу, больше некому было, о том, доколь же, мол, эти муки им, людям, принимать, выносить, терпеть? За что? Ведь никаких таких своих провинностей они ни перед кем не совершали… И тем более дети…
На словно ватных ногах Антон подходил сюда вслед за Леной, сняв с головы пилотку и держа в руках пучок ромашек, – подходил молча, будто на свою казнь – ответчиком, виноватым за все случившееся несчастье. Он приблизился-таки к вечным живым, но застывшим теперь бабьим изваяниям и вшагнул вровень к ним – лицом к лицу, над чем они выстаивали полукружьем и лишь покачивались чуть. И опустил цветы к грубо сколоченным из старых досок (поразивших его) ящиков, стоявших тут, на затравеневшей земле. В них лежали собранные и прикрытые кусками материй останки подорвавшихся ребят. Больно, страшно и взглянуть-то на это вживье – взгляд невольно отводишь, тупишь от такого зрелища. Это нечто бесчеловечно-оглушительное, не подвластное твоему понятию; чувствуешь ровно внезапный толчок в грудь – и уже не можешь опомниться никак. Тук-тук-тук! – начинает само собой стучать у тебя в груди.
Антон было принял за старух и обеих иссушенных горем матерей, которые в обесцвеченно-простеньких, помятых в окопной теснине, нарядах, склонились напоследок над неубереженными своими чадушками и что-то еще причитали.
После он один в раздумье, сокращая расстояние, возвращался в березняк, к палаткам, напрямую – полями. Но едва он зашел в знакомый овраг, как очнулся, сразу, немало удивленный. Все в овраге было изъязвлено свежими черными воронками, пятнавшими всюду зеленый травяной покров; впечатление было такое, будто здесь снова только что прокатился массированно настоящий фронт. И Антон застыл в недоумении: а может, он не туда забрел? Ведь этих же воронок прежде, когда он один собирал здесь щавель, точно не было, он не видел. Так откуда же они? Ах, да! Ему вспомнилось, что в эти самые дни саперы зачистку и подрывы проводили! Гремели взрывы.
«Вот как оно! – с изумлением подумал Антон. – Все-таки какое ж изрядное количество мин было понатыкано повсюду!..» Выходило (что невероятно): он, ничего такого не подозревая, многажды расхаживал в минувшие дни, когда собирал щавель, по таившейся под каждым кустом и кочкой смерти! По крайней мере, стало быть, от нее-то он не был же ничем застрахован. Однако то, что ничего не взорвалось под ногами у него, могло свидетельствовать лишь о том, что здесь были заложены по большей части не противопехотные, а противотанковые мины, которые – с особенным устройством – лишь под тяжестью большой срабатывали…
Вблизи его вспрыгнула, заставив его вздрогнуть, и плюхнулась в ржавую колдобину лягушка. И он, уж более не задерживаясь, но повнимательней обшагивал свежевырытые воронки, выбрался из овражка и заспешил отсюда на ромашковую опушку.
Те малые горемыки беззащитные, только что ходили, бегали, жили, радовались дню, как и все живущие, – очень любознательные, жадные до ребячьих открытий, до каких-то впечатлений; они, малые, абсолютно никакого зла не причинили никому, но так нелепо, дико погублены адской силой неразборчивой, слепой. И об этом напоминали Антону эти черные воронки, безжалостно разорвавшие зеленый мир.
Назавтра, встав с зарей, Антон заворожено писал прямо из окна волжский пейзаж с двумя лошадками, зашедшими по косе в реку. Было тихо, спокойно, волшебно. Уходили тревоги.
Через день бригадир – толстушка в фуфайке и резиновых сапогах пустилась впрыть, чтобы остановить вывернувшийся из-под Волги грузовик, который вывозил песок из карьера – разрытого, исковерканного крутого берега. Она успела, и шофер, усадив Антона и Олю в кабину, довез их до города.
VI
Антон, уже самоутверждавшийся в большом городе, еще неотложно хотел навестить во Ржеве и своего бывшего наставника – живописца Пчелкина, с которым он не видался уж больше года; ему-то, естественно, не терпелось узнать, увидев самому, как тот живет и что нынче пишет. Оля самоустранилась – не пошла с ним: она, во-первых, не знавала Пчелкина и была противницей (что похвально) всяких девичьих тусовок вокруг мужчин, а, во-вторых, радостно устала накануне ночью после дальней прогулки с Антоном на просмотр фильма и обратно. Она, понятно, хотела отдохнуть от всего.
Эта блаженная ночь объяла все вокруг, когда они, влюбленные, возвращались из кинотеатра пеше, минуя городской центр и пригородные постройки, и станционные пути, и речку, и совхозные поля, – к ее приютному дому деревенскому. Напоследок они шли по затравеневшей – с ромашками и васильками – дороге, среди извивов массива наливавшейся ржи. Колоски шелестели, качаясь, соприкасаясь один с другим. И кузнечики вели отлаженный стрекот. Были полусумрак, воздушная густота. И луна серебрилась, путалась в облаках. И зарницы слабо-слабо разряжались с розоватым отсветом над землей.
Оля и Антон ловили друг друга в объятья, обнимались, целовались; они резвились, очень счастливые – и от прикосновения к себе мягких рук, коленок, плеч, губ при их движении вперед, вперед, и от потоков душистого воздуха и качавшихся, дымящихся пыльцой ржаных колосков на тоненьких стебельках. И она, и он, словно опьяненные своим сближением, и не думали тут ни о чем плохом. О том думать не могли в такой момент. Их счастью пока ничто не мешало. Ему не было предела.
И какой же ангел, интересно, наворожил им двоим такое, что они вдруг оказались столь близки один к другому в пространстве, хотя не знали друг о друге ничего с самого начала. Антон ведь случайно приветил Олю в Мариинке, когда был на балетном спектакле и нашел ее по какой-то спущенной с яруса шаловливо вьющейся бумажной завитушке, привлекшей его внимание. О, необъяснимые и неповторимые моменты в нашей жизни, данные судьбой на радость нам!
Однако Антон и Оля, прогулявшись, зашли не в дом, а в воротца ограды и залезли на свежепахучий сеновал дворовой и, лежа на нем, еще разговаривали (она не отпускала его) – они все еще не могли наговориться досыта. Какое там!
Тем временем из дома неторопко вышел старик; он, войдя за воротца, молча постоял, постоял на улице, послушал их болтовню – и затем удалился обратно в избу.
Оля после, смеясь, рассказала Антону, что она этой ночью потеряла во ржи поясок от розового платья, наутро ходила туда – искала потерю – и удачно нашла его. А бабка струнила мужа:
– Полно тебе, Петр, безвредный! Не паси внучку! Пускай, если ей любится, и дружит с Антошей; я вижу: он – надежа, ничего худого с ней не станется при нем.
– Ну-ну, моя провидица домовая! – только и нашелся дед сказать так.
VII
Антон размашисто-несдержанно подходил к старому потемнелому дому Пчелкина, стоявшего в линию на боковой Ржевской улице с канавками для дождевых стоков. Неведомо сколько раз он, бывало, проходил здесь.
Как раз на открытое крыльцо, что было сбоку, вывалились из дверей острая сосредоточенная фигура Колокольцева, художника – бизнесмена, какое-то круглое красное с бородавкой божественное личико с красными бегающими глазками не то мужчины, не то женщины, округлая дама в панамке и провожавший главным образом ее сам Павел Васильевич Пчелкин, свободная личность, – поджарый и, как всегда, весь забронзовевший от пребывания под солнцем на любимой рыбалке. Пчелкин был с полусерьезно-уважительным выражением на аскетическом лице и расставил крепкие цепкие руки так, точно собирался протанцевать, что ему ничего не стоило. Хотя был он в клетчатой рубахе и повседневных брюках, испятнанных засохшей масляной краской, чему он не придавал абсолютно никакого значения. Никогда и нигде. Чего там! Привычное дело для художника! Психически надо понять: еще прежде иные столичные живописцы (а Павел Васильевич раньше много живал в Москве) видели над собой ореол богоизбранности своей профессии настолько, что могли прямо от палитры, не переоблачаясь, заглянуть по-свойски даже на концерт в Большой театр, как бы этим подчеркивая лишь свою неоспоримую значимость для общества, как открывателей чего-то нового и очень нужного всем. Причем не декаденствуя, не занимаясь мессианством, не подлаживаясь ни под кого. Искусство живописи обретало зримые жизненные формы.
Итак, остановившись на крыльце, Пчелкин машинально ощупал левой рукой (сохранны ли) удочки, заложенные им на гвоздиках под карнизом крыши, и договорил:
– Анастасия, я в долгу: Ваш обзор моих офортов бесподобен; жалко, что оттиски с ним замельчили: увы, первый штрих из-за этого пропал весь…
– А потому и не напечатали полосу газетную. Редактор-то хотел поместить на ней все – оттого накладка вышла. Бесконтрольная. Оттого. – Прокрутилась Анастасия, снимая со своего голубого платья, какие-то прилипшие пушинки. – Приезжайте сами в Москву, коли собрались; будем очень рады, и Вы лучше разберетесь на месте с цинкографами. А может, в журнал «Художник» постучитесь – попросите напечатать? Попробуйте…
– Исключено. Я уже не гож – не котируюсь никак. И там…
– Ну, на такую облигацию еще можно играть и играть – заметила Анастасия. Она перешла, словно спохватившись, на тот свободный, ровный тон, при котором можно сказать многое, чего не скажешь просто так.
– Вот видишь, как высоко ставят тебя женщины. – Заметил Колокольцев.
– Моя внешность, говорю вам, обманчива с виду для многих. И в Москве-то кордоны своих рукодельцев у кормушек выстроились в затылок. Не пробьешься наскоро.
– Все, откланиваюсь, мастера. До скорого!… К вам же еще посетитель спешит, – кивнула Анастасия через плечо на шлепавшего по дорожке короткой и мятой мужской фигуре. – И сошла по ступенькам с крыльца.
Около же придомной скамейки в томительном, но стойком ожидании терлись какие-то запьянцовские други, промышляющие попрошайки глазослезливые. Шумели сдержанно:
– Ну, хорошо тебе, тезка: ты-то в люди уже вышел сегодня. А я еще не вышел. Рубишь? Ни-ни! Ни росинки еще не было у меня во рту. Ужас!
– Вольно ж тебе пропадать. Худо, видать, старался, дятел.
– Да, просвистел. Хуже не бывает. Не к тому бережку пристал было, опростоволосился. Фигово! Здесь-то пожива светит нам?
– Вроде б промаячила. Но я все равно больше бухать не буду, клянусь вам; душой поприсутствую при компании, возрадуюсь так. Иду на просушку. Железно!
– Брось дурить, Евсей! Успеешь еще. Поживи-ка ты по-человечески, как все люди.
– А ты, дорогуша, где стучишь? – неуверенно спросил, где он работает, вглядываясь в подошедшего сюда Антона, вертлявый малый, принявший его за компанейского дружка.
– Далеко отсюда, дорогой. Не видать, где, – сказал Антон.
Что и обидело малого, так ошибившегося в признании некомпаньона.
– Какие новости мне принес, давай выкладывай, мой душеспаситель, – обратился Пчелкин к оказавшемуся у крыльца киномеханику Инякину. И они оба присели тут же на ступеньки, по-скорому пообсуждали очень сокровенные, видно, дела. И тотчас же киномеханик ушел.
А Павел Васильевич наконец завидел подоспевшего Антона и почти вскричал желанно, благословенно:
– О-о, Антоша-дружок, ты прикатил? Ну, покажись; давай, давай на казнь неминучую – наш обоюдный отчет без утайки.
И мужчины поздоровались, крепко пожав, как водится, руки друг друга.
– Ну-ну, заходи!
И они вошли в старый скрипучий дом.
В нем Антон был встречен всеми домашними по-всегдашнему радушно-приветливо и доверчиво; он всегда вел себя перед ними безупречно, с должным уважением, ни в чем никогда не осуждал их в чем-нибудь. В доме, на стенках, он с восторгом увидал свежие малоформатные работы Павла Васильевича, написанные им очень сочно, экспрессивно, как тот умел. На застеленной постели валялся оттиск газетной полосы «Правды» с текстом и ею же чересчур уменьшенными дальневосточными перьевыми рисунками, исполненными в год войны с Японией. Видно, это затевалось опубликовать к какому-то юбилею бывших военных художников студии им.Грекова. Одно время Пчелкин был одним из них.
Однако Антон вскоре почувствовал какое-то нервозное состояние, или обеспокоенность, прорывавшуюся наружу, у хозяина, и спросил у него с проникновением:
– Что-то вижу: Вы, Павел Васильевич, как будто не в своей тарелке… Что-нибудь произошло? Я могу помочь?
– Я вчера врезал сукину сыну – директору кинотеатра Жакову, признался Пчелкин с досадой. Изодрал в процессе схватки с ним его рубашку дорогую…
– За что ж?
– За кобелиное домогательство перед Анютой, уборщицей, милой девушкой беззащитной. Представь, замучил ее, прижал боров ее в углу помещения; грозился уволить ее, если она не отдастся ему. Я бы и башку дурью снес ему, да меня доброхоты за руки схватили (вот сейчас один из них приходил сюда), поскольку я подвыпивши был; закрыли меня на ключ на втором этаже, но я выполз из комнаты в окно и спустился по трубе водосточной. А тот обалдуй Жаков якобы в милицию пустился, грозился меня засадить в тюрягу… Жду теперь финала… Ну, как он напугал меня!… Прежде я лохмы причесал и Скачкову, директору кинотеатра «Победа». Это одна шайка-лейка директорская. Кровососы и крохоборы. Тебе, мальчишке, они не оплатили за красочную рекламу на новые фильмы, и проверка финансовая показала, что на эту рекламу была заложена оплата в смету, и за эти денежки они погуляли в Крыму, представляешь!..
– Ах, Павел Васильевич, оставьте, забудьте Вы такое!.. Кляп с ними!
– И напрасно вовсе!..
– Меня интересует, что со стариканом Кепиным?
– А ты разве не знаешь? Не слыхал?
– Что же?
– Он умер год назад. Мы тризну великую закатили по нему…
Вдовец Кепин, искусствовед и художник, обаятельный собеседник, многознающий поклонник и знаток индийской культуры (он семь лет прожил в Индии), в 1948 году, как якобы космополит, был выселен за пределы Москвы и жил на съемной квартире во Ржеве. К нему приезжали близкие москвички и увозили миниатюры и пейзажи, которые он тихо писал, для продажи через отделения художественного фонда. А питался он, судя по всему, скудно – тем, что собственноручно готовил для себя. Слишком скромно.
В дореволюционные годы Кепин сотрудничал с видными журналами, такими, как «Апполон», писал туда искусствоведческие статьи, обзоры, в том числе и о творчестве Сурикова.
Однажды он рассказал, что вел переговоры с известным богачом-промышленником Р-м о продаже за 50 тысяч рублей картины Сурикова «Стенька Разин». Прочитав записку-предложение Сурикова об условии продажи, тот сделал характерное движение руками, и Кепин невольно вскрикнул:
– Постойте! Что Вы делаете?
– А что?
– Да это же великий художник написал Вам! Не рвите, пожалуйста…
Р-й на это лишь самодовольно хмыкнул, небрежно порвал записку и бросил обрывки под ноги себе.
– Этими барскими замашками, что все за деньги можно позволить себе, – заметил Пчелкин, – отличались и властьпредержащие. А чем же, стоит спросить, руководствовались злодеи и мелкие нынешние пакостники, которые выпихнули безобиднейшего Кепина из столицы? За любовь к книгам Тагора? К фильму «Индийская гробница?» Кто они? Откроют ли когда свои святые личики? Жди!
Следует признать, что живописцу Пчелкину, разведчиком фронтовым повоевавшим с немцами, а потом и с японцами на Дальнем Востоке, по-граждански жилось и творилось немыслимо трудно, исходя еще из его бунтарско-ершистого характера. Он приноравливался в своем трудоустройстве, чтобы как-то просуществовать, и не более того. Околовластная московская суета, присущая многим прислужникам искусства, его не интересовала нисколько. Он писал работы для себя, когда ему писалось по душе. И для того, чтобы приобретенная крепость руки на этом поприще не забывалась в непостоянстве. И тому способствовала провинциальная тихая размеренная жизнь, диктовавшая свои условия. В материнском доме она занимал одноокошечную комнату за лежанкой, стоявшей в переду, а мать его, Татьяна Васильевна, ютилась на кухне – существовало два мира, равноценных, независимых, атеистично мыслящих людей.
И вот раз зимой Павел Васильевич и Тихон, его неизменный сподвижник, загадочно отбыли на пару недель в Белоруссию. А поскольку Тихон работал рекламистом в кинотеатре «Победа», то сюда покамест определили, как замену, Кашина, по его согласию и дирекции кинотеатра. Вследствие чего он и после уже продолжал здесь художничать: его не заменил никто.
Новостью стало то, что Пчелкин привез домой жену Киру, с которой он не жил давно и, видимо, не думал дальше жить, однако не выдержал – расчувствовался вдруг – и пошел на примирении с ней. И это-то воссоединение с ней усложнило существование и ему, и ей самой, и его непреклонной ни в чем матери. Сухожильная, несгибаемая Татьяна Васильевна не выносила ни на дух Киру, обзывала ее немецкой шлюхой; она не раз, выходя из себя, взрываясь, запускала в нее раскаленный, с углями, утюг или кочергу, или еще что попадавшее под руку. У самих примирившихся супругов отношения были разлажены, не обновлены; нужно было всякий раз лавировать, как-то утихомиривать возникавшие страсти. Поэтому Пчелкин все чаще и чаще пропадал по два-три дня на рыбалке на Волге, ночуя где-нибудь в копешках и принося домой какую-нибудь рыбью мелочь. Удачливостью в ужении он не мог похвастаться, да и не хвастался никогда, как иные заядлые рыболовы.