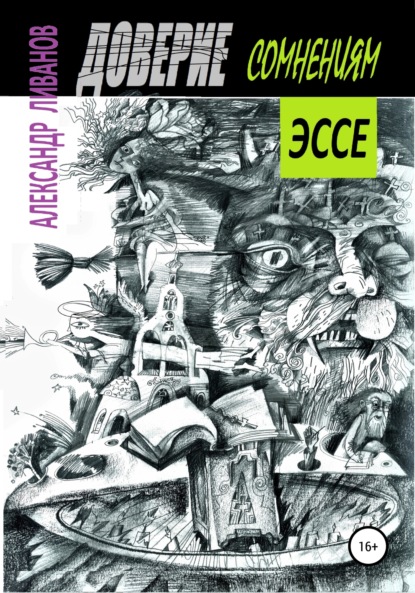Полная версия:
Александр Карпович Ливанов У быстро текущей реки
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Александр Ливанов
У быстро текущей реки
Чем душа жива

От Лаврушинского до Зацепа
Коренастый – почти квадратный, бодливо поддав вперед голову, он не спеша прогуливался всегда от Лаврушинского переулка до Зацепа. Порядком поношенное, тяжелое, точно кованое пальто, его, все в округлых пролежнях, потерявшее свои и повторившее от времени линии фигуры, казалось вечным! Края накладных карманов сильно истерлись, зияли ссадинами и ватными гнойничками. Кое-как торчавшая на седых вспушенных волосах шляпа, под стать пальто, была старая и измятая. Казалось, вещи пребывали на нем в неволе, отбывали длительный каторжный срок, и то, что хозяин и себя не больше щадил, для них было единственным утешением…
Людей он не рассматривал, а на миг лишь прицельно вскидывал на них прищуренный сильный взгляд точно делал снайперский выстрел. Этого взгляда-выстрела – единства из невидимого совершенного ружья, его беспромашного, тоже невидимого, прицела, и реально существующего, и все в себе объединившего стрелка – ему, видно, хватало, чтоб все узнать о человеке. И даже такое, о чем сам человек в себе не предполагал. Но больше он любил смотреть на облака. Точно мальчик-увалень, запрокинув голову (как только шляпа удерживалась на вспушенных волосах?), руки за спину, он останавливался возле зарешеченного дерева и подолгу, улыбаясь, задумчиво следил, как по небу плыли, роились, таяли, набухали серые и разнообразных форм облака, как они медленно перетягивались через крыши домов, и, наконец, уплывали за Москву-реку, где закрывали горизонт плотной и темной стеной…
Казалось, он испытывал зависть к этим несуетным, таким постоянным в своем течении, задумчиво плывущим облакам. Завидовал их самоотрешенной подчиненности этому течению. В этом была их цель, смысл их существования. Постоянство в вечной переменчивости, в вечном рождении и исчезновении…
«Что же в них меняется – форма или сущность?» – думал он, продолжая свой путь. Он походил на странника. То, что он видел вокруг, то, о чем он думал – образовали причудливые ландшафты мысли. Он их созерцал и зрительно, и умозрительно, чувством и умом – без посоха в руке, но подобно страннику, он шествовал по этим – своим – ландшафтам. Он шел на Зацеп, но по сути ему было безразлично куда идти. Ему никогда не было скучно с самим собой. Он был задумчивым человеком. Мысль была главной, если не единственной, радостью его… Хотя и отдавал щедрую дань общению с людьми…
На рынке он обычно ничего не покупал, приглядываясь ко всему с участливой, понимающей улыбкой. Возьмет за черенок большую, золотисто-ржавую грушу, подержит на весу, или крохотную и прекрасную – точно редкостный ювелирный шедевр – гроздь красной смородины, растроганно поудивляется, и бережно положит обратно на прилавок. Его занимало все – и маленькая девочка, и кукла ее, с которыми он сразу же установил дружеские отношения. Пока мама торговалась за пучок редиски – некий сочный натюрморт белого, красного, зеленого тонов, – он успел девочке и кукле состроить застенчиво-растроганную «рожу» и завоевать симпатию белокурого существа; занимали его и юркие воробушки с ржавыми крылышками, скачущие под ногами людей, всегда и всюду находившие себе прокорм; и одышливо-тучный китаец, продававший резиновые разноцветные шарики и веера из крашеной папиросной бумаги («китайцы сплошь толстые и тонкие»).
А то подойдет к ларю, где рябая, громкоголосая, в защитном военном бушлате молодайка, шумно и с мрачной азартностью торговала картошкой. Опростав один из кулей, она его прямо здесь, перед колыхнувшейся от густой пыли очередью, вытряхивала. Повернув при этом голову к плечу, она кривила губы, презирая оробело хоронящихся от пыли покупателей. Вытряхнув куль, она швырнула его под ларь, поправила на голове аспидно-черный с красными розами платок, и принялась, все так же презрительно взирая на очередь и шумно чертыхаясь, энергично стучать о деревянный настил своими белесыми от пыли кирзачами.
– Почва! Жизнь! Зачем отряхать ее прах с наших ног! – заговорил странный посетитель рынка с колхозницей. Та неожиданно просветлела лицом, кивнула ему головой как старому знакомому.
– А, это ты, – красюк!.. Картошки не надо, жених?.. Давай, насыплю? А то отощал весь. Высушили городские бабы?.. Или мысли грешные?.. Думаю, мысли они завсегда до греха доводят, а?..
Поскольку новый посетитель рынка в помятой шляпе не лез без очереди, стоял скромно в сторонке, а громкоголосая торговка картошкой из-за него не только не отвлекалась, а, подобрев, заворочалась еще проворней, очередь – большей частью женщины – приязненно улыбалась и кажется ждала, авось он поставит на место заносчивую колхозную торговку и защитит честь ни в чем не повинных «городских баб». Было ясно: продолжается давняя смутительная тема.
– Картошки не надо мне. Спасибо. А вообще-то она, картошка, вторая мать человеку. Особо, когда хлеба не хватает. Когда хлеб – не отец, а отчим. Как недавно в войну было… А мысли, Полина Игнатьевна, не грех. Нет!.. Мало думают люди. Даже на удивление мало!.. Пустяшно мыслят, суетно и мелко – и вправду грешно!
Он неожиданно ловко – при своей квадратной фигуре – наклонился, поднял упавшую с весом картофелину, вернул ее на весы.
– Что ж, картошка – овощ: варить надо!.. Проследую транзитно. К разносолам, как говорится. Без варки-стряпки готово к потреблению.
В те годы на рынке разрешалось «отведать», «спробовать», «откушать», и квадратный человек в помятой шляпе нет-нет вспоминал о священном праве покупателя. Хотя торговки знали, что никакой это не покупатель (бедолага из ночлежки? или прогоревший маклак? картежник-неудачник? или чокнутый из образования?), они не мешали ему воспользоваться своим правом. У людей догадливое сердце, и возможно тут играло свою роль и то, что в нем – ни в лице, ни в больших, по-мужски красивых руках, не угадывалось ни капли жадности. Огурчик соленый он высматривал так же прицельно, как и человека, затем двумя пальцами выуживал его из кадки с молочно-белым, крепко пахнущим укропом рассолом.
«Пуля «дум-дум» – покачивая головой, изумлялся он маленькому огурчику, как некоей невидали; затем, не спеша съев трофей, галантно приподнимал шляпу – благодарил хозяйку за «золотое сердце», за «щедрость, достойную королевы». Таким же образом он отведывал и парочку ягод клубники или горстку крыжовника, два-три стручка гороха или персик с поджаристой коричневой щечкой.
Однажды всё же спросила его какая-то колхозница, или просто торговка: мол, кто он? Очень уж озадачивала редкостная галантность.
– Кто я?.. Я бы сам это хотел знать. Думаю, гадаю, даже пишу об этом. Рождение, жизнь и смерть человека… Весь он в загадках!.. Должен ведь кто-то об этом думать? Да есть у меня имя, есть фамилия, даже паспорт. Но разве все это – я? Все могло быть и другим. А вот я, вы – душа в нас – единственны. Уникальны. И суверенны! Вот и скажи при этом – кто ты?.. Откуда ты? И, главное, какой смысл прихода и ухода из этого мира? И куда я ухожу – в небытие? В вечность? Оба понятия, опять же, малопонятны для разума… Душа – бессмертна? Если не в поповском смысле – тогда как? Уже от этих вопросов человек не может не стать художником. Хочется понять себя… Думаешь! Недумающий человек не оправдывает назначения…
– А чего тут думать?.. Рехнуться можно, – хмыкнула собеседница. Есть же, мол, люди! Или забот им мало? Из чего, спросить, мучаются?
– Нет, рехнется скорей тот, кто не думает. Мозг, что машина – в бездействии ржавеет, портится… А художнику – обязательно думать надо, и притом – бесстрашно думать! Весь мозг – только лишь о мелкожитейском? Сколько, почем, дешево, дорого? О деньгах, о вещах, о прыщах? Художник думает о том, что всем нужно, о том важном, что остальным кажется неважным, или вообще не подозревают о подобном: о душе… В художнике это сильнее общежитейского. Он по-своему живет. Поэтому люди, умные люди, конечно, всегда понимали, жалели художника, прощали ему то, что другим не прощали бы. Даже короли так поступали! Так поступали с шутами, с юродивыми. Люди говорили правду, не боясь пострадать за нее… Вот и скажите, – разве от этого не выигрывала жизнь?.. А вы спрашиваете – кто, мол, я такой?.. Не знаю, любезная. А вот кем был бы прежде – пожалуй, догадываюсь… Может, юродивым, может, бродягой, может, матросом… В паспорте у меня записано: «служащий». А я – писатель! Но разве писатель – служащий? Реникса, чепуха какая-то… Вообще, что такое человек? Человек – не что иное, как частица солнца, заряд солнца!.. Оно, солнце, держит меня на своем проводе, подзаряжает меня. И я хожу, живу – и всегда на кончике луча! Значит, творчество – самовыражение – есть некий обратный процесс возвращения всего того солнца, которое тебе было дано. Кому?.. Людям, жизни, природе. Человек – солнечная сущность. Так бы писать и в паспорте, и в анкете. Вмещаю в себе столько-то и столько-то солнца! Вот это был бы ответ на ваш вопрос, любезная!
…Когда не было покупателей, женщины охотно слушали этого чудака. Сперва с притворным интересом, улыбаясь, а потом и всерьез, о чем-то вздыхая. Хотя мало понимали из того, что он говорил; но – чтобы не обидеть – не перебивали. Он будил в них что-то забытое, затаившееся может из самого детства, заслоненное повседневностью и его однообразными повторами, когда-то так радостно и тревожно вопрошавшее о жизни, о мире, о людях и самом себе…
Однажды он сильно удивил на рынке одну старуху. Соленые огурцы ее засола он чаще других отведывал. И вдруг взял, да и выложил ей сотенный! Торговка даже отшатнулась в ужасе: этакую «бумагу» за один огурчик – на этот раз и вовсе сморщенный, с кривой пупырчатой шейкой!
«Берите коль дают! Деньги честно заработанные, не фальшивые. А то я еще приду за огурчиком, а денег тогда у меня не будет».
Может Зацеп ему напоминал одесский «Большой Привоз» и поэтому он чувствовал себя здесь, как дома. Завсегдатаи рынка, перекупщицы и торговки удивлялись, спрашивали друг у друга, если его подолгу не было на рынке. Все они привыкли давно к нему, но не могли привыкнуть к его речам и шуткам, всегда неожиданным. Все чувствовали в нем добрую душу, бескорыстное сердце – и этого было достаточно. А может и вправду большой учености человек, зря что неухоженный, помятый, и вправду, как юродивый. Блаженный. В наше время!
Долговязый, с южной смуглостью лица, молодой милиционер долго присматривался к странному завсегдатаю Зацепа. Наконец прицельный взгляд чудака и застенчивый взгляд блюстителя встретились. Казалось, они затеяли детскую игру в гляделки. Постовой все же первый сдался, заморгал и строго откашлялся в кулак. Чудак не удивился: еще гимназистом, в далеком детстве, он мог кого угодно «переглядеть». И все же он великодушно перевел свой сильный взгляд на красивую белую каску милицейского с двумя парами пистонов по бокам. Два ряда начищенных пуговиц освещали шинель, как фонарики.
– А как вы думаете, – доверительно заговорил, подойдя вплотную к постовому, квадратный человек в помятой шляпе, – если на других планетах есть люди – они тоже вот так живут? Ходят на базар, продают, покупают? А в общем, люди и жизнь мало отличаются?.. Если, скажем, роман написать о жизни марсиан – это интересно?
– А вы что же, писатель будете? – с настороженностью спросил милиционер, словно писательство как раз сегодня утром объявлено было делом крайней предосудительности.
– Представьте… Неким образом. Сам все время этому удивляюсь… Лев Толстой – писатель, Чехов – писатель. И я, Олеша, писатель… Неудачно назвали. Смысл – служение! – не взяли в расчет.
– Как-как ваша фамилия?
– Да это – все равно. Олеша. Юрий Карлович. Не читали мой роман «Зависть»? Плохо, молодой человек!.. Книги надо читать. Как можно жить без книг? Скажем, книги великих!.. Это же что услыхать мысли их! Они – вам поверяют их, как равному!.. Такой роскоши не знал, не ведал до книгопечатанья ни один владыка мира! Книга – праматерь прогресса, гуманизма, свободы. Благодаря ей, – вы это чувствуете? – обретаете друзьями умнейших людей человечества. Да и приходят они к вам, эти друзья, не в картишки перекинуться, не с пустяками: тем, чем велики! Можно ли пренебречь таким богатством, такой дружбой?.. Это же – взять и самого себя обездолить, сделать несчастным! Вам дано испытать все радости мысли, все опасности, все приключения – бесплатно, бескровно, безвыездно, на дому! А они, случалось, за свои мысли платили страданиями, костром, казематом… Высшая радость – мысль! Читать – удовольствие. Не то, что писать! Для меня это очень, очень трудное занятие. Люди гуляют, развлекаются, живут… А ты сиди, кусай карандаш, каждое слово, как кусок из себя выкраиваешь. Говорят тебе – не будь субъективным, не копайся в себе, оставь в покое свою душу – пиши из духа времени, чувствуй себя целым, а не частью; сливайся… Трудно это! Напишешь строку, она кажется мертвой. За бумагу совестно… Вот и мрачнеешь от этого, характер портится. Да, удовольствия маловато… Куда приятней быть читателем! А то – и днем, и ночью, во сне – нет тебе отдыха от писательства… Честное слово! Будто дьяволу душу продал… Но не подумайте, что я жалуюсь. Нет, жить трудно – еще не значит жить плохо. Чаще – наоборот! Знаете, был такой писатель Леонид Андреев. Друг Горького, между прочим. Истинный страдалец слова!.. Так знаете, что он сказал? «Горька бывает порой, очень горька участь русского писателя. Но великое счастье – им быть!» Ведь творчество – создание небывалого!.. А тут тебе еще говорят – не то, не так, не о том… Тебя – кри-ти-куют!.. Словно не ты – художник… Спутали, где достоинство, а где заносчивость.
Приподняв шляпу, сделав изящный кивок большой головой в вспушенных сединах, писатель направился к воротам. Постовой в замешательстве долго смотрел ему вслед – пока тот не затерялся в уличной толпе. Затем он вынул из милицейской планшетки казенные химический карандаш с жестяным наконечником, довоенную тетрадку в клетку с таблицей умножения и наркомом обороны Ворошиловым на обложке, и, подумавши, сделал в ней совершенно неслужебную, но очень целеустремленную запись: «Олэша Юрий Карлович. Спросить у клубной библиотекы чы есть такой пысатель. Но ежели правда, узять и прочитать усе его кныжки».
Уравнение
Вся неделя была дождливая. Трасса превратилась в сплошное месило, и Степанов сегодня позднее обычного возвратился с обхода. В больших резиновых сапогах выше колена, забрызганный и перепачканный глиной, он в передней сбросил мокрую плащ-палатку и поспешил в комнату. Там его ждала пятнадцатилетняя дочь Танюша.
Степанов уже несколько лет жил вдовцом и всю неистраченную ласку мужского сердца отдавал дочке. В эти дождливые дни она не ходила в школу, и отец был рад, что больше видится с дочерью.
Забившись в уголок дивана и поджав под себя ноги, Танюша делала уроки. Когда отец вошел в комнату, она лишь на мгновенье оторвалась от тетради, посмотрела на ходики, вздохнула, но ничего не сказала. После смерти матери отец и дочь мало говорили друг с другом, как-то стесняясь чувств своих. К тому же обоим была свойственна та спокойная серьезность, которая часто становится главной чертой характера.
Степанов поставил под топчан рыжеватый пластмассовый телефонный аппарат, который брал с собой в обход и подошел к селектору, висевшему у окна. Вызвав диспетчера, он сообщил ему, что на 172 километре от сильного ветра покосились столбы, а на речушке Соснянке дожди размыли насыпь, где проходит газопровод. Обход был сегодня трудный, и голос у Степанова звучал устало и озабоченно.
По-видимому, диспетчер спросил, нужна ли помощь, чтоб поправить телефонные столбы и укрепить насыпь; Танюша услышала, как отец ответил: «Нет, не нужно. Сам сделаю». Она неодобрительно покачала головой. Теперь отец всю неделю будет приходить поздно – уставший и угрюмый, еще больше обычного. А из города никто к ним не приедет. Танюша уже так соскучилась по людям! В прошлом году к ним приезжала ремонтная бригада, – молодые и загорелые парни. Одного из них она и сейчас помнит, до того был веселый! Он играл на гитаре и очень душевно пел украинские песни. Особенно хорошо получались у него «Карие очи, черные брови» и «Дивлюсь я на небо, тай думку гадаю»… Может, опять бы приехал, а теперь…
Отец закончил свой рапорт и уже было собрался положить трубку на селектор, как на лице его появилось выражение настороженности. Танюша тоже следила за лицом отца.
– Так он и ко мне заедет? – спросил Степанов, глядя на привернутый к стенке селектор, точно тот являлся собеседником и не от диспетчера, а от него ждал ответа.
По-видимому, диспетчер ответил неопределенно. Степанов понимающе протянул «так, так», сказал «всего хорошего» и положил трубку. Еще с минутку постоял в задумчивости.
– Кто? – спросила его Танюша.
– Начальник, – помедлив ответил отец. – Выехал от Лунцева в нашу сторону. – И посмотрел в окно, добавил, – погода чертова. Трудная дорога. Доберется ли…
Танюша тоже посмотрела в окно. Капли дождя, растекаясь проворно, словно маленькие ящерицы, бежали по стекам, на мгновенье останавливались в раздумье и снова спешили вниз. Небо было темным и сумрачным, как в вечернее время. Дождь уныло шумел, и комната была полна невнятными шорохами.
Танюша поежилась и опять принялась за решение задачи. В который раз уже перечитывает она условие, все как будто ясно, а ответ никак не получается. Зря только бумагу переводит… И все же она снова шепчет: «В треугольнике а-бэ-це угол при вершине равен шестидесяти градусам…» Опять она рисует этот непостижимый треугольник. Нужно во что бы то ни стало решить задачу!
Отец долго бряцает соском умывальника и это напоминает Танюше, что пора подавать обед. Она откладывает задачник, карандаш с тетрадью и строгая, озабоченная, как настоящая хозяйка, идет на кухню. Сегодня она накормит отца зеленым щавельным борщом со сметаной. Борщ очень вкусный, он, наверно, отцу тоже понравится. Щавель хороший, ни чуточки не прогорк. Когда утром дождь немного затих, Танюша в лесу нарвала много щавеля. Конечно, с молодой картошечкой борщ был бы еще вкуснее. Но отец ругается, – рано еще подрывать кусты.
Танюша зажигает керосинку, ставит кастрюлю, чтоб разогреть борщ, возвращается к столу и снимает с него скатерть с незабудками по краям. Эту скатерть нужно беречь, – ее мама вышивала. Большой букет полевых цветов в банке с поблекшей наклейкой «зеленый горошек» Танюша оставила на столе.
В комнате вкусно запахло борщом и Степанов, присев на табурет и положив на колени свои большие загорелые руки, молча любуется ловкими движениями дочери. Он привык угадывать ее настроение и замечает, что она чем-то расстроена.
– Что с тобой? – помедлив немного спрашивает он у дочери.
Девочка пожимает плечами, но отделаться этим ей не удается: – отец смотрит на нее у пор и ждет.
– Пустяки… Так… Задача никак не получается, – кивает она в сторону дивана.
Отец нерешительно протягивает руку к тетради. В кои веки учился он в школе. Пришлось бросить. Дочке в младших классах помогал. А теперь она от него далеко ушла!.. Вот до чего мудреный рисунок! Линия на линии, – черт ногу сломит… «Биссектрисы, медианы». Все перезабыл…
Степанов осторожно закрывает тетрадь, и, вздохнув, кладет ее обратно на место.
– Ладно… Не расстраивайся… Как-нибудь, – виновато бормочет он, и понимает, что все это пустые слова. В душе он страдает, что поблизости нет здесь ни одного человека, кто бы помог Танюше. А сам, – чем он ей поможет? Он смотрит на дочь и задумывается. Пора уехать из этого глухого места. Лес да поле. Что до ближайшего соседа, обходчика Лунцева, что до школы – одинаково далеко. В любой конец километров десять с гаком. В самом деле, – размышляет Степанов, приглаживая свои рыжеватые, как лежалое клочьё, волосы, – что его держит здесь? Оклад совсем мал. А Танюше к зиме и пальто, и всякое другое нужно. Растет, дочь, растет…
Танюша начала разливать по тарелкам густой зеленый борщ, когда с улицы донеслись гудки автомашины. «Приехал», – встрепенулся Степанов, отложил ложку, и оба – и отец, и дочь – бросились на крыльцо. Возле крыльца уже стояла блестящая, умытая дождем голубая автомашина начальника конторы Дубова.
Хлюпая по лужам, Степанов подбежал к машине. Начальник, однако, не торопился выходить. И запыхавшийся обходчик, заглянув раз, другой в мокрые стекла и ничего не увидев, не знал, что ему следует делать; в растерянности потоптался на месте, и лишь по-детски умильно проводил шершавой ладонью по мокрому блестящему капоту мотора. «Ч-черт его знает, как держаться, как вестись с начальством!»
Танюша босая стояла на крыльце, – ей не терпелось увидеть «начальника Дубова», о котором они так много говорили и отец, и приезжавшие в прошлом году ремонтники. Нередко сняв селекторную трубку, Танюша слышала, как люди из разных участков трассы с какой-то особой интонацией, холодно и, казалось, как-то отчужденно, точно скрывая неприязнь, произносили имя Дубова. Чаще, впрочем, говорилось – «хозяин». И это имя «хозяина» всегда навевало непонятный холод и на девочку…
Просунув сперва большую с проседью голову, а затем и массивное туловище в открытые дверцы кабины, побагровевшим от натуги лицом, Дубов с минуту неторопливым взглядом ощупывал обходчика, затем дочь, и, наконец, поздоровался.
– Осторожно, здесь лужа! – предупредил Степанов и сразу же стушевался. Чтоб подбодрить себя, он принужденно заулыбался начальнику, державшемуся за дверцы кабины. Шофер двинул рычаг скоростей, газанул, продернул вперед, и Дубов вышел из машины, облегченно екнувшей рессорой.
Танюшу неприятно удивило, что суетливо сновавший возле крупного и чисто одетого Дубова отец, которого она привыкла считать большим и сильным, сейчас рядом с начальником неожиданно оказался совсем неказистым. Пиджак отца, потертый и весь как бы жеванный, – тоже острой обидой отозвались в сердце девочки.
– Заходите, заходите в дом! – поднимаясь на крыльцо, приговаривал Степанов. При этом он забегал вперед, улыбался и все заглядывал в лицо Дубову, словно испытывал от этого большое удовольствие. Отвык человек от людей, а тут и вовсе – начальство…
Танюша вспомнила, что она убрала со стола скатерть, что стол остался накрытый лишь старой клеенкой, – и метнулась в комнату.
Высокий, прямой, Дубов с минуту еще постоял на крыльце, надменным вызовом всматриваясь вдаль, на завесу дождя, на темневший за полем зубчатый по верху лес. Думал, видать, о чем-то нездешнем…
Вдоль изгороди тянулась зеленая полоса картофеля и Дубов, наконец, опустил взор на нее.
– Богато живешь, Степанов! Прямо помещик! Вон одной картошки сколько. Небось, приторговуешь?
Своей картошки Степанову обычно хватало только до середины зимы, но властный голос Дубова, весь его непреклонный вид заставили обходчика поверить, что он и в самом деле богато живет, что картошки и впрямь может хватить на продажу.
Наклонившись, чтоб головой не задеть за дверной косяк, Дубов вошел в дом. Он взглядом обвел чистую, но не затейливо убранную комнату, стол, пару тяжелых табуретов, самодельный диван, тяжелую покрашенную в зеленый цвет и тоже самодельную этажерку. Степанов, как и большинство людей из деревенских был мастером на все руки. В свободное время любил он и побаловаться с рубанком – нашелся бы лишь материал хоть малость подходящий.
Единственная картина без рамки – бумажная литография «Герасимовской сирени» – была прибита над диваном двумя шиферными гвоздями с большими ржавыми шляпками. На один из гвоздей Дубов и повесил свою шляпу, и, зябко поежившись, поднял голову к потолку, словно там надеялся найти самое главное.
Его шофер, худощавый, со шрамом под щекой, в сапогах и выцветшей солдатской гимнастерке, тоже, но как бы без особого интереса, осматривал комнату. Он стоял позади Дубова и улыбался недоброй, едва приметной улыбкой. «Какой он злой!» – подумала Танюша.
– Не течет? – наконец спросил Дубов, вскинув палец к потолку.
– Нет, нет. Что вы?! – торопливо ответил Степанов.
– Ну что ж, очень хорошо. Очень хорошо! – сразу успокоился Дубов и подмигнул Танюше, хлопотавшей у стола. Он показал шоферу на тарелки с дымящимся борщом.
– Вот это хозяйка! Хоть и маленькая, а все умеет делать. В каком же ты классе? В пятом?
Танюша ответила, что в седьмом, и Дубов с деланным изумлением причмокнул губами: вот, мол, что!..
Степанов стоял позади дочери и с виду очень волновался, чтобы дочь не осрамилась своими ответами. Он уже сам был готов рассказать начальнику, что до школы далеко, что девочка слаба здоровьем и из-за плохой погоды вынуждена сидеть дома. Но Дубов опять похвалил дочь, и польщенному Степанову свои жалобы показались мелочными и недостойными внимания начальника.
– Петр Иванович, – прошу вас… тарелочку борща… домашнего, так сказать, – все так же несмело улыбаясь, сказал Степанов.