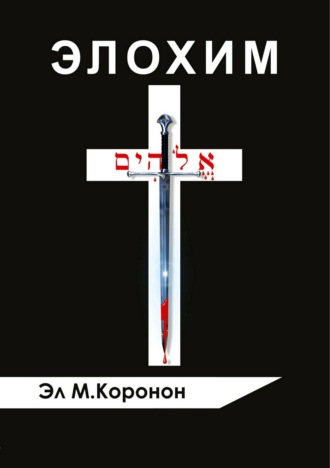
Эл М Коронон
Элохим
– Что имеешь ввиду?
– Элохим, Мариам – лучшая воспитанница Храма. Желанная невеста. Коген Гадол жаждет обручить ее с Иосифом, своим наследником. Того же хотят еще несколько высших священников для своих сыновей. Абиатар без конца осыпает меня и Коген Гадола подарками и умоляет выдать Мариам за его сына. Но это еще не все. Мне недавно донесли, что вроде бы Ирод также проявил к ней живой интерес.
Услышав имя Ирода, Элохим побледнел. Он никак не ожидал такого оборота. Йешуа бен Сий заметил, как Элохим изменился в лице.
– Понимаю тебя, Элохим. Положение очень серьезное. Нельзя недооценивать Ирода. Он силен и способен на все.
– Что предлагаешь, Йешуа?
– Выбирать из двух зол меньшее. Хотя Иосиф и не очень приятная личность, но вроде бы свой, из колена Левия. К тому же молод. Думаю, надо убедить Мариам согласиться выйти за него замуж. И, чем скорее она будет обручена, тем лучше. Ирод вряд ли посмеет идти против Храма. Кто знает, быть может, Иосиф останется Коген Гадолом и после Йом Кипура.
Иосиф бен Эл-Лемус был невзрачным, ничем не примечательным молодым священником. «Ни рыба, ни мясо» – обычно говорят о таких людях. Представить его мужем Мариам было Элохиму также больно, как и видеть ее одной из жен Ирода. Элохим был уверен, что Мариам ни за что на свете не согласится стать женой ни того, ни другого. Ему было ясно одно – его дочь оказалась перед миром взрослых мужчин и нуждается в его защите.
– Как ты считаешь, Элохим?
– Мне сначала надо поговорить с Мариам.
– Да, разумеется, – согласился Йешуа бен Сий. – Ну что, тогда увидимся после Йом Кипура?
– Наверно. Но прежде чем уйти, Йешуа, я бы хотел взять свой меч.
Йешуа бен Сий несколько удивился. Он никак не ожидал от Элохима такой просьбы. Тем не менее, он вызвал Никодима и повелел ему принести меч Голиафа. Через несколько минут Никодим вернулся и передал Второсвященнику меч, обернутый в ветхую одежду.
– Элохим, что бы ни случилось, можешь рассчитывать на мою поддержку, – сказал Йешуа бен Сий и почтительно протянул меч Элохиму.
Тот развернул одежду. Потом взял меч за рукоятку и наполовину вынул из ножен. Он ощутил меч всем своим существом как естественное продолжение собственной руки. Словно рука налилась новой силой.
– Через час, Элохим, главная наставница получит мое письмо.
– Йешуа, не знаю, доведется ли нам еще раз увидеться. Во всяком случае очень благодарен тебе.
Элохим поцеловал клинок, резким движением вложил меч в ножны и обернул его вновь в ту же одежду.
88
Элохиму было некуда торопиться. Еще не было и полудня. До дневной молитвы оставалось много времени. К тому же надо было дождаться, пока письмо Йешуа бен Сия дойдет до Храма.
Он вышел из дома Второсвященника на площадь Офел, но пошел в противоположную от Храма сторону. Затем прошел между Дворцом Хасмонеев и Газитом, излюбленным местом городской молодежи, которая все чаще стала называть его по-гречески Ксистусом. Тут с недавнего времени царем Иродом проводились гимнастические состязания. Ксистус был соединен с Храмом арочным мостиком. Это было еще одним архитектурным новшеством царя. Белокаменная лестница винтом поднималась на мостик и вела прямо к воротам в западной стене Храма.
Элохим поднялся по ступенькам на мост. На лестничной площадке перед воротами он остановился. Оттуда открывалась вся панорама города. Нижний город уходил от Храма вниз на юг, к долине Енном. Далеко на западе над крышами Верхнего города возвышались зубчатые стены и башни царской крепости. Невольно Элохим вспомнил Ольгу. Как бы ему хотелось увидеть ее!
Почти весь Верхний город после землетрясения был заново отстроен царем Иродом, за что горожане были ему признательны. Но Элохиму в эту минуту показалось, что все эти дома, стены, крыши, башни были воздвигнуты лишь только для того, чтобы встать непреодолимой преградой между ним и Ольгой. Все это скопление камней стояло на его пути к Ольге и служило враждебной им воле – воле Ирода. «Стены, – подумал он, – подпирают крыши домов, укрывают людей от холода и постороннего взгляда. Но эти же стены мешают одним встречаться и помогают другим навязывать свою волю домочадцам».
Он отвернулся от города, вошел в ворота Храма и направился к Царским колоннадам. Череда мощных коринфских колонн четырьмя рядами уходила вдаль, образуя три прохода под высокой деревянной крышей. Оказавшись между колоннами, возвышающимися над головой как исполины, человек ощущал себя незначительным, никчемным.
Эсрат Гойим уже был заполнен людьми. Хотя в проходах между колоннами прогуливалось лишь несколько человек. Судя по их внешности и одежде, это были иноземцы, скорее всего греки и римляне.
Элохим уже собрался перейти во двор, как за спиной знакомый голос окликнул его.
– Элохим!
Это был Дворцовый Шут. Рядом шел красивый белокурый юноша лет тринадцати-четырнадцати, одетый в сшитую золотом римскую тогу под пурпурной мантией. Сзади, в двух шагах от них, шли трое галлов в черном с красной повязкой на лбу.
– Сколько лет, сколько зим!? – воскликнул Дворцовый Шут, сердечно обняв Элохима.
– Да, давно не виделись, – ответил Элохим.
– Какое совпадение. Мы только что говорили о тебе. И вот встретили тебя тут.
Элохим с недоумением посмотрел на Дворцового Шута.
– Принц Давид по дороге сюда спросил, – объяснил Дворцовый Шут, – остался ли в живых какой-нибудь потомок царя Давида? Вот, Ваше Высочество, познакомьтесь – Элохим. Тот самый наследник царя Давида, о котором я говорил.
Юноша приветливо протянул руку Элохиму, глядя ему прямо в глаза. В его больших голубых глазах светилось что-то бесконечно родное. На миг Элохиму даже почудилось, что он смотрит в глаза Мариам.
– Для меня высокая честь пожать Вам руку, – сказал юный принц.
– Царь Давид – его кумир, – объяснил Дворцовый Шут.
– Да, это так отчасти, – подтвердил принц. – Хотя я бы не назвал его своим кумиром. У меня нет кумиров. Но я бы хотел быть похожим на него.
– А ты и похож, – сказал Дворцовый Шут, перейдя на ты с принцем. – Он также был белокурым и голубоглазым.
– Откуда? Разве его мать тоже была северянкой?
Элохим теперь убедился, что перед ним стоит сын Ольги.
– Нет, – ответил Дворцовый Шут. – Белокурые волосы и голубые глаза унаследованы от Авраама. Иудеи в основном смуглые, черноволосые. Но иногда в иудейских семьях у смуглых родителей неожиданно рождаются белокурые и голубоглазые дети с очень светлой кожей. Так внезапно пробиваются наследственные черты Авраама. Но только в роду Давида эти черты никогда не исчезали, передаваясь из поколения в поколение. Вот посмотри на Элохима. У него глаза голубые. Я помню его молодым, когда он был в твоем возрасте. Волосы, как у тебя, были такие же белокурые.
Элохиму стало несколько неловко от подобного сравнения. Юный принц заметил его неловкость и поспешил сменить тему.
– А как Вам нравятся новые строения в Храме? – спросил Давид Элохима.
– Впечатляющие, особенно эти колонны, – ответил Элохим.
– Мне говорили, что троим здоровенным мужчинам с трудом удалось бы обхватить руками одну из этих колонн.
– Все это туфта, – вмешался Дворцовый Шут. – Зачем, спрашивается, тут все эти греческие колонны и проходы. Греки привыкли мыслить стоя, на ходу. Оттого у них мысль как бы течет, вся в движении. Мы не греки, мы привыкли мыслить сидя, наедине с самим собой. И оттого у нас мысль уходит вглубь. Нам не нужно прогуливаться между колоннами, чтобы мыслить. Или же вот тот золотой римский орел. Спрашивается, зачем понадобилось вешать его над воротами Храма? Я понимаю. Царю надо угодить римлянам. Нет вопроса, но тогда повесь его над воротами своего Дворца. Зачем осквернять божий Храм? Сказано же: «не создавай себе идолов и кумиров».
– Я попрошу царя снять орла и повесить его над воротами Дворца, – сказал пылко юный принц.
– Лучше не надо, – предостерег Дворцовый Шут. – Царь неправильно поймет. Он не из тех, кто способен делать добро, не испоганив его чем-то. Люди приходят в Храм, видят, какой громадный труд вложен в его обновление. Чего стоит только обнесение Храма новыми стенами. И всем хотелось бы благословить царя. Но увидев этого орла, они отворачиваются с неприятным привкусом во рту.
Пока Дворцовый Шут так сетовал, Элохим неотрывно смотрел на юного принца. Тот ничем не напоминал Ирода. От Ольги он унаследовал белизну кожи и многое другое, не считая белокурости и голубых глаз. Чем больше Элохим вглядывался, тем сильнее в душу закрадывалась волнующая догадка.
Элохим оторвал взгляд от Давида и сказал:
– Мне пора.
Принц Давид вновь протянул ему руку.
– До свидания, Элохим. Очень рад был с вами познакомиться.
Элохим крепко пожал ему руку, кивнул головой Дворцовому Шуту и быстро удалился прочь.
89
Дворцовый Шут взял Давида под руку, отвел в сторону так, чтобы галлы не могли их услышать, и, указывая на удаляющегося Элохима, шепотом сказал:
– Удивительно, а у вас даже походка одинаковая. Посмотри сам!
Элохим шел ровным твердым шагом, но при этом двигал левой рукой сильнее, чем правой. Он был, как и Давид, левшой.
– Видишь, его правая рука почти покоится на боку, будто он что-то держит под одеждой.
– А мне показалось, что под его одеждой и в самом деле что-то было.
– Может быть. Но это неважно. Его походка всегда была такой. Я Элохима знаю много лет.
– И о чем это говорит? – недоуменно спросил принц.
– Видишь ли, походка передается по наследству. Она даже больше говорит о близком родстве, чем внешняя схожесть.
Слова Дворцового Шута поразительно сочетались с тем труднообъяснимым ощущением родства, которое у Давида возникло в тот момент, когда он в первый раз взглянул Элохиму в глаза. Дворцовому Шуту он мог доверять. Но все же принц предпочел промолчать.
По возвращению во Дворец Давид прежде всего захотел увидеть мать. Только с ней он мог поделиться своими догадками.
Давид сызмальства знал, что царь Ирод ему не родной отец. Ольга не хотела, чтобы сын вырос в полном неведении и лжи. Тем не менее она не открыла ему всей тайны его рождения, понимая, что знать правду раньше времени было бы для него очень опасно.
Она научила сына говорить на своем родном языке. На нем она пела ему колыбельные песни, на нем же рассказывала ему чудные сказки. Чарующие слова родного языка матери всегда погружали Давида в какой-то далекий сказочный мир.
Позже, общаясь между собой исключительно на этом, не понятном никому вокруг языке, они ощущали себя чужими во Дворце и принадлежащими другому миру. В том мире царь был для них чужим человеком.
До двенадцати лет Давид жил вместе с матерью в доме Мариамме. Но в прошлом году по указанию царя он перебрался в Агриппиев дом, где холостым царским сыновьям было отведено целое крыло на втором этаже. Каждый из них имел там свою комнату.
Раз покинув гарем, им больше не разрешалось вступать ногой на Женский двор, и они могли встречаться со своими матерями лишь в Ковровой комнате в башне над воротами Женского двора.
Багоас, новый главный евнух, жирный идумей, узнав о причине прихода Давида, немедленно послал Кароса, молодого евнуха, в дом Мариамме за Ольгой. Тем временем, Давид вошел в Ковровую комнату. Ему там не пришлось долго ждать. Ольга появилась через несколько минут. И, как всегда, поцеловала его в обе щеки, но, заметив его волнение, спросила:
– Что случилось, родненький?
– Мама, я встретил его.
– Кого «его»?
– Элохима.
Ольга тут же зарделась.
– Мама, скажи, это он?
Ольга опустила ресницы и тихо ответила:
– Да, родненький.
Давид отвернулся к окну. Ольга нежно обняла его. Прошло некоторое время, прежде чем Давид нарушил молчание.
– Он был почти в лохмотьях. Я смотрел на него и не мог понять, что со мной творится.
– Ты можешь им гордиться. Он лучше всех.
Ольга достала бриллиантовый камень, подаренный Элохимом, и вложила его в ладонь Давида.
– Это его камень. Я его хранила все эти годы под сердцем. Отныне он твой.
Давид сжал камень в кулаке, едва сдержав слезы, готовые литься ручьями.
90
Ворота Элохиму открыла в этот раз другая привратница. Она приветливо улыбнулась и тут же позвала Мариам. Прыгая от радости, Мариам прибежала и кинулась ему на шею.
– Дада, дада, можешь себе представить! Наставница отпустила меня до самого вечера!
В радости Мариам была необыкновенна. Все ее лицо сияло от счастья.
– Как здорово! До самого вечера! – повторила она.
Было невозможно не порадоваться ее непосредственности. Элохим улыбнулся, хотя все еще находился под впечатлением от встречи с Давидом. Мариам чутко уловила его настроение.
– Дада, ты думаешь о чем-то другом?
– Да, родная, – признался он, – но пойдем скорее. Времени у нас не так уж много. А поговорить надо о многом.
Всю дорогу до Царских садов Элохим не проронил ни единого слова. Улицы были слишком многолюдны и шумны. Он провел дочь по тем же улицам, по которым некогда в ночь Хануки шел к Царским садам, встретившись случайно на одной из них с Дура-Деллой. Теперь Дура-Деллы давно не было в живых. Она исчезла так же внезапно, как и появилась. Перед смертью – а это произошло в том же году, когда умерла Анна, – она ушла из города. Ее отсутствие сперва никто не заметил. Бывало и раньше, что она подолгу не выходила из дома. Ее тело было случайно обнаружено на обочине дороги недалеко от Масады. Люди вдруг осознали, что без Дура-Деллы город стал каким-то другим.
В Царских садах они сели под очень старым дубом, по преданию посаженным самим Давидом. Мариам хорошо знала это место. Почти в каждый приезд Элохим приводил ее сюда и рассказывал ей все, что он знал о здешних деревьях.
– Вот когда у меня будет сын, – сказала Мариам, – я приведу его сюда. Как только он немножко подрастет. И расскажу ему все, что ты мне поведал о Царских Садах. И еще мы вместе посадим тут дерево. Недалеко от твоего дуба.
– Посадить дерево – самое благородное дело на свете, – одобрительно сказал Элохим. – Деревья и вообще растения – начало начал. Без них нет жизни на земле. Они могут жить без нас. А мы без них – нет. Они доставляют нам пищу и даже воздух, которым мы дышим.
– Дада, я часто думаю о деревьях. Так же часто, как и о тебе, – призналась Мариам, смущенно улыбнувшись.
– Приятно слышать.
– Я их очень люблю. Но мне кажется, в них начало не только жизни, но и смерти. Ведь вместе с яблоком Ева передала Адаму смертность. Смертность вошла в их тела вместе со съеденным яблоком. Плоды того дерева были смертоносны.
Элохиму было известно много толкований истории Адама и Евы. Но такого объяснения он никогда раньше не слышал.
– В смерти нет ничего плохого и ничего хорошего, – ответил он, – как и в самой жизни. Жизнь – преступление, а смерть – наказание. Но не в том смысле, что в жизни ты совершаешь какие-то преступления, за которые должен нести потом наказание в виде смерти.
– А в каком тогда?
– В том смысле, что сама жизнь изначально преступна. В ее таинственных истоках многие рвутся к жизни, как морские рыбы рвутся к соленой воде, оказавшись в пресной реке. Но только одному удается пробиться и выжить, что оборачивается гибелью для остальных. Побеждает лучший среди равных.
– Лучший среди равных!? Странное словосочетание.
– Да, странное. Но за эту редчайшую удачу добиться права жить, надо расплатиться смертью.
– Но ведь иногда женщины рожают близнецов и даже тройняшек.
– Близнецы мне никогда не нравились. И знаешь, адда, только теперь я понял, почему. Когда рождается один ребенок, он как бы отвоевывает право на жизнь у других в равной, честной борьбе с ними. А близнецы сами по себе в одиночку слабы и не способны на честную равную борьбу. Они как бы в сговоре между собой одерживают верх над теми, кто сильнее их и более достоин жизни. Поэтому рождение близнецов не есть рождение лучшего, а наоборот, рождение худшего.
– Я обещаю тебе никогда не рожать близнецов, – хихикнула по-девичьи мило Мариам.
– Смотри, не забудь про свое обещание, – сказал Элохим, также улыбнувшись, а потом серьезно спросил: – Адда, а это правда, что ты не хочешь выходить замуж?
– Правда, дада, – ответила уже серьезно Мариам.
– Могу ли узнать причину?
– Мне не нравится ничей запах. Люди пахнут так ужасно, так противно, что я стараюсь всегда держаться от них как можно дальше.
Элохим не ожидал подобного объяснения. Он понял, что для нее мир запахов чрезвычайно важен.
– Адда, все люди пахнут. Даже святые пахнут. Человек без запаха был бы подозрителен. И растения, и деревья пахнут.
– Но деревья не навязывают тебе свой запах. Они к тебе не приближаются и не трогают тебя, пока ты сам к ним не подойдешь. А потом они в основном пахнут приятно. Но от людских запахов меня просто тошнит.
– А как сейчас, не тошнит тебя? От моего запаха.
– Ты мой дада. Я люблю твой запах. Он мне родной, – ответила Мариам и в подтверждение своих слов уткнулась ему в подмышки.
Элохим поцеловал ей волосы, вдохнул в себя ее родной запах.
– Дада, все сговорились против меня. И Коген Гадол, и наставница, и даже та горбоносая привратница без конца твердят мне, что пора выходить замуж. Но я не хочу.
– Адда, нет ничего плохого в замужестве. Вполне естественно для женщины – познать мужчину, зачать и рожать от него детей.
– А разве естественно дать себя трогать тому, чей запах тебе противен?
– Нет, неестественно.
– Вот видишь, мы думаем одинаково.
– Не совсем так, адда. Люди моются редко – одни по бедноте, другие по нечистоплотности, третьи по лени. Оттого многие пахнут неприятно…
– Не неприятно, – перебила его Мариам, – а противно. Даже отвратительно.
– Пусть будет отвратительно. Но я все же допускаю, что в мире существуют люди, чей запах не будет тебе противен.
– А я не допускаю. Коген Гадол моется часто. Но и его запах мне противен. Люди мне сами по себе не противны. Я их всех люблю, как люблю животных, как люблю деревья. Даже ту горбоносую мымру люблю. Мне любо и даже забавно смотреть на нее. Но только так, чтобы не нюхать ее. Ведь львы, тигры также воняют. Но это не мешает нам любоваться ими.
Элохиму стало очевидно, что отвращение Мариам не простая брезгливость или девичья прихоть, а что-то предельно важное в ее отношении к миру.
– Быть может, дада, я чрезмерно чувствительна к запахам. Но это не моя вина. Скорее, ты виноват в этом.
– Я!? – удивился Элохим.
– Да, ты! – рассмеялась Мариам. – Ведь я же тебя не просила производить меня на свет столь чувствительной к запахам. И вообще я не просила тебя родить меня. Так что во всем виноват ты и только ты.
– Хорошо, родная, пусть будет по-твоему. Во всем виноват я и только я.
– Но ты не расстраивайся, дада, я ведь только пошутила. Ты ни в чем не виноват. Ни ты, ни я ни в чем не виноваты. Согласен?
– Да, родная.
– А если всерьез, то я очень много думала над своей щепетильностью к запахам. И знаешь, к чему пришла?
– К чему?
– К тому, что Бог или ты – что для меня одно и тоже – нарочно меня так создали.
Элохим не обратил внимания на «одно и тоже» и удивленно спросил:
– Нарочно?
– Да, чтобы остаться непорочной, верной Ему. Ведь Илия тоже был непорочен. И потому вознесся к Богу живым. Бог любит непорочность. Ты ведь тоже любишь непорочность, не так ли?
– Так, – непроизвольно подтвердил Элохим.
Он все больше и больше удивлялся неожиданным поворотам ее мысли. Но еще более поразительно было другое. За три года Мариам из маленькой девочки превратилась в очень рассудительную особу. Умом она выглядела старше лет на двадцать, но внешне казалась даже младше своего возраста на год, на два[66]. Элохиму одновременно было и странно и смешно слышать взрослые рассуждения от такого юного создания. Но при этом было невозможно не любоваться ею.
– Поэтому, дада, я решила посвятить себя Богу и ни за кого не выходить. Ты ведь не позволишь им выдать меня замуж против моей воли.
Никто не мог пойти против решения Храма. Как только совет старейшин примет решение, Мариам должна будет ему подчиниться и выйти замуж. И Элохим не сможет тогда ей ничем помочь.
– Почему молчишь, дада. Дочь от природы принадлежит отцу. Это закон жизни. Львы своих дочерей не уступают никому, а дерутся за них насмерть. Нет никого ближе отцу, чем дочь. Его плоть и кровь. Даже мать и жена стоят дальше.
– Мы не львы, родная, мы не звери, а люди.
– Хорошо, мы не звери. Хотя по мне, невелика разница. Звери даже в чем-то лучше нас, по крайней мере, они честнее нас. Они честно не выдают своих дочерей замуж. А что такое замужество? Сказать тебе, как я думаю?
– Скажи.
– Замужество – это продажа собственной дочери чужому мужчине. Все мрази хотят избавиться от своих дочерей поскорее и выдать их повыгоднее. Будто дочь какое-то продажное мясо, которое нужно быстрее сплавить, пока не протухло.
– Адда, ты немножко сгущаешь краски. Любящему отцу всегда хочется выдать свою дочь удачно. Ради нее же.
– Нет, любящий отец, прежде всего, должен считаться с желанием дочери. За кого она хочет выйти, и хочет ли вообще. И лишь потом решать выдать, или не выдать. Если дочь отказывается выйти замуж, отец должен оставить ее у себя. А если не отказывается, и сама предоставляет решать отцу, то он может выдать ее только за того, кто лучше него. Иначе он не должен уступать ее никому.
– Адда, родная, я тоже так думаю. Отец может уступить свою дочь только тому, кто лучше, кто более достоин ее. Но у нас другой случай. Ты живешь в Храме. Не я, а Храм решает, за кого тебе выйти.
– Они хотят меня выдать за этого вонючего слизняка Иосифа. Разве он лучше тебя? Лучше тебя нет никого.
Мариам внезапно заплакала. У Элохима защемило сердце.
– Ты ведь им не позволишь?
– Нет, родная, не позволю, – твердо ответил Элохим.
– Значит, мы всегда будем вместе?
– Да, родная. Только не плачь.
– Обещай, что никогда не оставишь меня.
– Никогда не оставлю тебя, родная.
– Верю, дада.
Мариам успокоилась, перестала плакать, хотя время от времени все еще всхлипывала. Она закрыла глаза и положила голову ему на грудь. Вскоре она стихла и как будто уснула. Элохим также закрыл глаза, откинул голову назад и прислонился к дубу.
Незаметно начало темнеть. Птицы перестали петь. В Царских Садах наступила тишина. Был слышен лишь шелест деревьев.
Элохиму, как никогда, стало покойно и хорошо. Теперь ему есть ради чего жить, и кому посвятить свою жизнь. «Желание дочери превыше всего». Отныне это закон его жизни. Нет и не может быть ничего важнее желания Мариам. Он сделает все, чтобы исполнить любое ее желание, любую ее прихоть. Только ради этого и стоит жить.
Она хочет остаться с ним. Значит, так и будет. Он с ней больше не расстанется. Она уйдет из Храма, он уведет ее в безопасное место. Но куда? В Назарет!? Нет. Туда нельзя. Если она исчезнет из Храма, ее будут искать именно там. Надо в другое место, в другой город, в другую страну – туда, куда не могут дотянутся руки Ирода и Храма. В Египет!? Да в Египет! Там их никто не найдет. А на что они будут там жить? У него денег не хватит даже на дорогу. Надо продать дом в Назарете. Но на это уйдет много времени. Что делать?
Нет, все равно они не смогут сейчас уйти. Мариам ждут к вечерней молитве. Ей нельзя исчезнуть теперь. Это вызовет переполох в Храме. Им не дадут далеко уйти. Ей надо ускользнуть из Храма незаметно. Она сможет это сделать не сегодня и не завтра. А послезавтра, в Йом Кипур, когда Храм будет переполнен людьми и все будут заняты праздником. Решено! – они уйдут послезавтра.
Нельзя было дольше оставаться. Надо было уходить, пока не стемнело окончательно, чтобы Мариам могла успеть к вечерней молитве.
– Адда, пора уходить.
Мариам не ответила. Она в самом деле уснула.
– Адда, родная, проснись!
Мариам открыла глаза. Недоуменно посмотрела на отца.
– Тебе пора, родная.
– Боже мой, я опоздаю на молитву, – испуганно сказала она и быстро вскочила на ноги. – Пойдем скорее!
Она схватила его за руки, и они выбежали на тропинку.
– Не бойся, родная, ничего страшного не случится, если немножко опоздаешь, – сказал Элохим, несколько замедлив свои шаги.
– Дада, нельзя опаздывать. Ты даже не знаешь мою наставницу. Ни на секунду нельзя опаздывать на молитву, – ответила она, ускорив свои шаги.
– Родная, теперь это неважно. К тому же еще не вечер, успеешь, – сказал Элохим.
Она пошла вперед быстрой прямой походкой. Никогда Элохим не видел походку подобной красоты. Она шла, твердо и ровно ставя свои ступни на узкую тропинку.
Они прошли мимо молодого ветвистого дуба, когда-то посаженного Элохимом. И вдруг Мариам остановилась как вкопанная.
– Боже мой, вспомнила!
– Что?
– Я видела во сне вот этот самый дуб, – сказала она, пытаясь вспомнить дальше свой сон, – и парня, такого красивого. С родинкой.
– С родинкой!? – удивился Элохим.
– Да, с родинкой на щеке. Мы с ним стояли под твоим дубом. У него не было никакого запаха. Он мне сказал, что у меня родится сын.
– Сын!?
– Да, сын! Боже мой! Дада, ты же меня разбудил в самом важном месте. Надо же! Прервать сон в таком месте! Я спросила: «От кого?». И он сказал: «От Самого Эл Элйона! Оглянись, вот Он идет!». И я не успела оглянуться. Ты меня разбудил. Не дал мне увидеть Бога!
91
Мариам была сильно расстроена, отчего Элохим чувствовал себя виноватым. Он не знал, как утешить ее. Но понимал, что когда не знаешь, что сказать, лучше промолчать. К тому же Элохим сам был не меньше озадачен и взволнован ее сновидением. Вновь всколыхнулись старые, почти забытые переживания, вызванные когда-то его собственными сновидениями, в которых юноша с родинкой на щеке также предсказывал ему рождение сына, будущего Спасителя и Царя иудеев. Он тогда поверил ему. Потом рабби Иссаххар убедил его в том, что сновидения его вещие и предусмотрены Великим Тайным Предсказанием. Но теперь, много лет спустя, после крушения всех надежд и чаяний, после всех превратностей судьбы, Великое Тайное Предсказание воспринималось им не иначе, как злой дьявольской шуткой. И эта дьявольская шутка теперь разыгрывалась повторно, но на этот раз с его дочерью.
Они шли не спеша. И к тому времени, когда добрались до Храма, окончательно стемнело. Было очевидно, что Мариам уже не успела на молитву.
– Адда, ты уже опоздала.
– Теперь это неважно.
Храм опустел. В Эсрат Гойиме было темно и безлюдно. У ворот Эсрат Насхима Мариам на прощание нежно обняла отца.
– Так не хочется идти туда.
– Адда, послушай меня внимательно. Мы уйдем отсюда послезавтра. Вечером. Как стемнеет, уходи. Незаметно. Будет много народу. Ты сумеешь смешаться с толпой. Я буду ждать тебя с той стороны Храма, перед Шушанскими воротами, на мосту. Тебе все понятно?
В ответ она подпрыгнула и повисла на его шее. И вновь обвила одной ногой его ногу, закрыла глаза и как утром, приоткрыв ротик, прильнула к губам Элохима. Теперь не было никаких сомнений: она целовала его крепко, долго и не только как дочь.
От ее родного запаха у Элохима закружилась голова. Храм, город, весь мир словно куда-то провалились. Он ощутил себя в каком-то чудном мире, между явью и сном. Элохим крепко привлек ее к себе. Дрожь прошла по всему телу. Никогда в жизни он не испытывал подобного всепоглощающего ощущения.
Элохим опомнился и медленно опустил ее на землю. Ее глаза были все еще закрыты. Она открыла их и посмотрела прямо ему в глаза. Никогда ни одна дочь, ни один отец в мире так не смотрели друг другу в глаза. Им словно открывалась величайшая тайна.
– Я есть Ты, и Ты есть Я, – шепотом сказала Мариам.
У Элохима невольно вырвалось:
– Жизнь моя!
Она вновь радостно бросилась ему на шею, теперь как маленькая девочка.
– Дада, давай уйдем отсюда сейчас, – по-девичьи бойко предложила она.
– Сейчас нельзя, родная. Нам не дадут далеко уйти. Мы уйдем послезавтра, когда все будут заняты Йом Кипуром.
– Ужас, дада, – капризно пожаловалась Мариам, – ждать целых два дня!
– Другого выхода нет, родная.
– Два дня – целая вечность.
– Не думай о времени. Тогда оно пройдет незаметно.
– Как не думать о времени?
– Адда, дольше нельзя стоять тут перед воротами. Тебе надо уходить.
– Ох, дада!
– Не переживай, родная. Мы расстаемся ненадолго. Теперь в последний раз в жизни.
92
Как только Мариам скрылась за воротами Эсрат Насхима, Элохиму стало ясно, что ему самому будет не менее тяжело дожидаться послезавтра. Он теперь ни на одну минуту не мог представить себе жизнь без дочки. Никто, ни Анна, ни Ольга, как бы он их сильно не любил, не вызывали в нем столь жгучую жажду жизни. Ему хотелось только одного – видеть и слышать Мариам, дышать с ней одним воздухом, вдыхать ее родной запах, ощущать ее рядом. Больше ничто на свете его не волновало и не интересовало.
С ним случилось то, чего он в своем самом диком воображении не предполагал: он влюбился в собственную дочь. Влюбился всем своим существом, влюбился безумно и без памяти.
Еще утром она была ему только дочкой. Он любил ее, как отцы обычно любят своих дочерей. Но теперь в нем возникло какое-то странное чувство, даже не чувство, а какое-то новое состояние духа. Простое слово «влюбился» мало о чем говорило. Он больше чем влюбился. Она стала для него больше, чем дочь, больше, чем женщина, больше, чем Бог. Она была всем для него. Она была самой Жизнью.
Он был всецело во власти этого нового состояния. Все мысли были заняты только ею. Вновь и вновь ему вспоминалось, как она говорит, как она красиво смеется, как она умеет внимательно слушать и, если что-то переспрашивает то, как грациозно наклоняет голову в сторонку, чтобы лучше расслышать. Каждое ее движение, любое выражение лица были естественными, прекрасными и неповторимыми.
Как ни странно, ему даже в голову не приходила мысль о кровосмешении. И лишь когда он вернулся в свой шатер и лег на землю, чтобы уснуть, вдруг его одолел весь ужас происшедшего.
«Боже, она же мне дочь!», – с ужасом сказал он сам себе и тут же вспомнил, как Ирод признался ему в своей страсти к собственной дочери.
Нет, он не Ирод! У него нет плотского влечения к дочери, успокаивал он себя. Но как тогда объяснить, что ему было так хорошо, когда Мариам целовала его в губы, прижавшись к нему всем своим телом? Разве он не испытывал при этом плотского наслаждения? Нет, не надо обманывать себя. Надо быть честным с самим собой. Надо быть достойным Мариам.
Стало быть, он ничем не отличается от Ирода. Также горит страстью к собственной дочери. Также как Ирод жаждет ********* **** дочь, ******** в нее. Нет, неправда. Ирод точно жаждал ******** **** дочь, именно ********, не считаясь с ее желанием. Но он – нет. Против желания Мариам он никогда не пойдет. Ирод изнасиловал Соломпсио. Изнасиловать Мариам!? Нет, даже немыслимо это представить. Вот в чем его отличие от Ирода.
Нет и опять нет! Нет никакой разницы между ним и Иродом. Оба одинаково похотливы, одинаково греховны в кровосмешении. Оба одинаково испытывают его сладость. Запретный плод всегда сладок. Но что плохого в кровосмешении?


