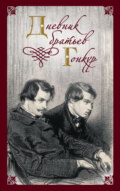Эдмон Гонкур
Шарль Демайи
XXIX
«Книга моя идет, мой милый Шаванн. Издатель не скрывает от меня своего удовольствия. Так, что дела идут хорошо. Меня продают и читают. Я думаю, раз дело начато и успех будет увеличиваться, и я готов почти поверить, что книги продаются.
Я говорил вам о мире, в котором живу. Говорил о Франшемоне. Снаружи – аффектация дендизма, который теряется в разнузданности; между его утонченностями вдруг прорывается самая странная раздвоенность, какая-то зацепка вроде трещины на его часах, заклеенной хлебным мякишем. Вот он каков.
К тому же жизнь этого малого прокатилась всюду: и в высших слоях, и в низших; он изведал счастье, женщин, море, землю, мир и все миры, все новое и все дурное! Это малый, видевший все: оттомаков, поедающих глину, актрис из Бобино, делающих себе румяны из тертого кирпича, Байрона, умирающего в Греции за иллюзию! Малый, прошедший сквозь огонь и воду, сквозь страсти и бури, бывший на пустынных островах и в Вавилоне, в отелях Лондона, на зеленых лугах Германии, за парижскими табл д'отами, в катакомбах и на обоих полюсах! Вышедши целым и невредимым из рук женщин, мошенников, ростовщиков, чумы, смерти, он изведал нищету, дуэли, войну, словом все! Какой волшебный фонарь – жизнь! Но Лалиган удерживается показывать его публике; он пишет только о путешествиях, которых не совершал. Он рассказывает Дюмон д'Юрвиля, описывает Африку холодным стилем в серьезном журнале. Человека в них нет; весь человек – на наших обедах в «Красной Мельнице». Маленький человечек с седыми усами, наружность совершенно ничего не значащая; но за то глаза, голос, вспышки, показывают страшную энергию и закаленный характер, привыкший к суровой жизни; отец его был командиром фрегата, отправленного во время Террора в Ирландию для высадки волков и злодеев. Говоря и оживляясь, он владеет собою, своими чувствами и волнениями. Он меняет тон, наружность, он весь преображается, обновляется. Его лицо меняется. Тоном, взглядом, игрою физиономии он изображает лица и вещи, теснящиеся в его воспоминаниях. Все его существо стремится и задыхается в его разнообразной, многословной неограниченной болтовне. Его оживленное красноречие, украшенное постоянными метафорами, своеобразным жаргоном, или каким-нибудь великим изречением немецких мыслителей, увлекает и сосредоточивает ваше внимание. Иногда он выражается языком, заимствованным у техника искусства и оттеняет мысль, как греческий медальон. Тогда речь его льется рекою как речь Дидро. Тысячи образов проходят перед вами: картины, наброски, пейзажи, уголки Илиады, виды стен, домов, городов, имеющих тайны и драматизм декорации, которую Шекспир называет одним словом «улица»; мрачные поля, подобные общественной могиле, куда раб уносил раба, красное солнце на другой день битвы, города, изрытые ядрами, кровавые, разоренные амбулатории, вкруг которых бродят крысы… Одни только рисунки испанских войн Гойя могут сравниться с описанием всех этих ужасов. И вдруг, посреди всей этой вспышки юмора, наблюдательности, общественные силуэты, наблюдения над расами, философия, уподобленная национальному гению народов… Один момент он обратил наши души и глаза на взятую Янину; мы видели, мы касались этого ручья, бегущего за добычей, за еще теплыми мертвецами; он меняет тон и колорит и перед нами английский замок, высокие дубравы, охота, широкая жизнь, три туалета в день, балы каждый вечер, королевский образ жизни, который ведется каким-нибудь Симпсоном или Тонсоном! «Это богатства Вестминстера, десять миллионов ренты, тридцать пять сантимов в секунду; или эти богатства Сити, эти купеческие сыновья, совсем еще мальчики, управляющие на Средиземном море двадцатью отцовскими кораблями, из которых ни один не имеет менее двух тысяч тонн, флот, – говорит Ладиган, – которого никогда не имел Египет!» Вы знаете эти великолепные французские каррикатуры, этот вечный водевиль, путешествующий англичанин. Лалиган неисчерпаем, заставляя нас краснеть по этому поводу: «Мы, мы! – восклицает он с сожалением, – да видали ли вы в Лондоне француза, который ничего не делает, и тратит там деньги, совершенно спокойно сидя в своей карете? Француз путешествует, чтобы рассеяться от любовного горя, или устроить свои дела. Но француза в коляске, француза не актера, не посланника и не повара, француза с женщиной, как наша мать или сестра, с женщиной, которая не была бы кокоткой или актрисой, вы здесь не увидите никогда, никогда!»
Лалиган идет далее, говорит об эстетике, критикует художников, пейзажи! это наводнение портретов природы без движения, он задевает пейзажистов, изображающих крестьян, которых точно окунули в кадку с красками, этих фермеров Пуссена или Сальватора Розы, солидных и сияющих как быки за плутом, злобных как деревенские жители, которых можно встретить всюду, в салонах, у итальянцев, на шелку, в музыке; солнце, деревня и жаркое, жаркое, деревня и солнце, вот все чем они держатся, и ничего более! говорит Лалиган. И всегда после таких разговоров, описаний нравов, он начинает невозможные истории, действительные происшествия, поразительные как исторические воспоминания, отрывки из быта разбойничьих вертепов, и подонков общества, где копошатся как в море все погибшие существования, все эти люди без имени и без сапог, которые никогда не описываются в романах. Он встает, садится, продолжая говорить. Стучит по столу, схватывает руку своего соседа, снова встает, прогуливается, каждую минуту нервно поправляя манжеты своего сюртука. Его вибрирующий голос заставляет молчать всех нас; вот, послушайте его:
«Все ночи, все проводил он в игорном доме «Розы Марилана», с самой гордой канальей земного шара. Не знаю, была ли у него родина, прошедшее… Я думаю, он родился в одной из тех пустынных стран, которые составляют предрассудок географии… Там, где-нибудь на равнинах, между мраком и светом, между Германией и Россией, в настоящем гнезде авантюристов, на могиле Казановы: в Богемии, Хорватии, право, не знаю… Да кажется он и называл себя чем-то в роде выходца из Хорватии. Короче сказать, каждый вечер он вытаскивал из кармана, а его карман вытаскивал не знаю откуда несколько шиллингов, которые он проигрывал с таким же благородством, как и всякий честный человек. Проиграв свои шиллинги, он глядел на шиллинги других до самого утра… Понимаете вы? Ни разу не присев, не заснув; это запрещено в таких домах; их надо было сделать великими как Англия: нищета спала бы там. И все ж таки он спал. Он облокачивался плечом об стену, и сохраняя стоячее положение, спал: он спал как муха; кончили тем, что ему и дали это название. Однажды ночью, игра была особенно оживлена, что-то скатилось под стол. Он слышит, как оно катится, прямо катится к нему… Он выставляет ногу, свою голую ногу!.. У него были видны ботинки, но их не было! Точно также как в Крыму не было настоящих деревень во время путешествия там Екатерины Великой! Ботинки его были только сверху, без подошв! Он захватил большим пальцем соверен, это был соверен! Кругом наклоняются, ищут, двигают стулья, поворачиваются, глядят на него… Наконец снова принимаются за игру. Прижав соверен ногой, он стоит не двигаясь до утра, боясь взгляда, жеста, не смея наклониться, ни поднять. Наконец, он уходит в шесть часов утра, первый раз в жизни с золотом в кармане. Он идет, думая о чем-то невозможном, безумном, о мечте: он ляжет спать! ляжет настоящим образом, ляжет в кровать, в кровать! Он громко звонит у меблированного дома, как джентльмен, привыкший иногда спать. У него есть постель, есть простыни! Он ложится во всю длину, на спину! В десять часов его будят, это горничная пришла спросит его, будет ли он завтракать с её хозяйками, двумя старыми «governesses». Он завтракает с обеими старушками, нравится им, особенно одной, как мужчина, вовлекает их в игру, обыгрывает обеих; после чего обращает их в католицизм, получает за обращение плату от католиков-лордов (за обращение в католицизм там платят премии); берет деньги, едет в Гамбург, выигрывает там двести тысяч франков, проигрывает их снова и… Теперь, знаете ли вы, чем он занимается? Он в Париже, ходит из кабака в кабак, организуя компанию игроков между обществом масонов, из которых десять, одетые в черные одежды, весною будут сопровождать его в Баден, чтобы наблюдать за его игрой и контролировать прибыль их сотоварищей!
Обычный сосед Лалигана по столу составляет с ним и почти со всеми нами совершенный контраст. В этом соседе, его зовут Ламперьер, какая-то особенная нежность, почти женская, которая встречается только у мужчин, воспитанных женщиной, выросших под крылышком матери, детство и юность которых прошли в ласках. Также видна в нем и нежность северной расы, которая не уничтожает энергии, но только укрощает ее, как говорят русские. Высокий лоб, редкие волосы, белокурые усы цвета конопли, такие светлые, что едва выделяются на его щеках; изрытое длинное лицо, синие глубокие глаза, низкий и проникающий голос, медленный, сосредоточенный разговор, вот наружные качества этой прекрасной и юной, влюбленной в природу души, которую деревня опьяняет как хорошее вино; этого мужского сердца, переполненного материнской снисходительностью; этого великодушного ума, готового на самопожертвование, открытого для всех человечных надежд, и мечтающего о будущем. В глубине души, это темперамент мистический, доходящий до веры в чудесное, и приносящий апостольскую веру человеческой религии, которая открывает ему уроки истории также, как и ложь жизни. Не имея состояния, он живет статьями, которые начинаются в таком роде: «Береговая торговля страдает, это неопровержимо»… и над которыми он сам первый смеется. Но он утешается, создавая в своей голове большую книгу, которую он никогда не напишет… Ламперьер зарылся в науках; он исчерпал веру, вместо того, чтобы найти сомнения; характерная черта в его разговоре – извлекать из знания и из примеров богатейшие сравнения, поэзию и величие парабол и нечто библейское из языка Бернардена де-Сен-Пьера. А что может быть поразительнее сцены, которую он рассказал нам третьего дня?.. Я до сих пор точно слышу ее, эту историю, переданную нам, где, казалось, мысль Кювье билась в сердце аббата Фоше. Однажды он был в Елисейских полях; встречает он одного друга: это был Мицкевич, который должен был через час вступить на кафедру «Collège de France», и который, смущенный этой великой задачей быть голосом народа, дрожал, изнемогал, искал, тер себе тщетно лоб, и не знал до сих пор что он скажет: Да, – сказал ему Ламперьер, – вы не знаете, вы не находите темы»… И он начал играть своей тросточкой по земле; почва была мягкая, он опустил тросточку в лужу: «Это грязь, да, грязь… дождь, капля воды… и пыль»… Мицкевич смотрел на него, Ламперьер продолжал мутить воду в лужице: «Немного грязи сверху, немного снизу, она уже более не сухая… земля тонкая как лист бумаги… затем приставшие камушки, тина, раковинки, прилепленные одна к другой, вместо минерального слоя пресной воды, который был в древнем составе земли, нечто в роде больших озер в средней Америке… Затем скелеты, остатки неизвестных четвероногих, кости птиц, крокодилов, черепах; стволы пальмового дерева, обратившиеся в камень… Вы следите за моей тросточкой, не правда ли? Идем далее… После того, сокровища удалившегося моря, оставившие коричневые отпечатки листьев, растительных стеблей, и сотни родов раковин; кроме того еще море проходило здесь, но, конечно, с пресною водою… Теперь надо дать место углю земного шара, большим слоям окаменевших смолистых деревьев, сохранивших до сих пор следы стеблей, веток и листьев, или древесную ткань и даже форму закопанных деревьев… это сгоревшие леса первой земли, этой первой почвы из мелу и раковин, отставленной на открытом воздухе допотопным морем. А, вы меня слушаете… Как я заинтересовал вас каплей грязи!.. А вы боитесь и не знаете, как взяться за дело, чтобы заинтересовать Францию трауром родины!»
* * *
«Мне необходимо все это, милый Шаванн; во мне гнездится какая-то жилка, что-то широкое. Мне необходимы, как жирным людям, воздух свежий, сухой ветерок. Для бодрости моего духа, для подстегивания моей работы, мне необходимо возбуждение и поощрение общества, общества интеллигентов, двигателей мысли, конечно. Да, прежде может быть были люди достаточно сильные, чтобы извлекать из себя жар для своих произведений; люди мировые, носящие в себе божественный огонь, которого ничто снаружи не поддерживало и не оживляло. Может быть, и в наше время найдутся некоторые столь же сильные, чтобы довольствоваться самими собою, поддерживать себя, создавать и жить в уединении со своим великим произведением. Но я не из тех, и они не принадлежат нашему веку. Прежде была какая-то жизненность, которую мы потеряли. Тысячи вещей в наш век леденят наш ум и мысли. Мозг охлаждается, как земля. Ум может работать только в тепле, в соприкосновении с другими умами. Вы знаете, самое лучшее удобрение для почвы, это – листва; это то, что нам надо: битва слов и мыслей, битва умов, горячая борьба в спорах… Эти проблески света, освежающие голову, игра, опьяняющая нас, лекарство, укрепляющее нас, нечто в роде восточного напитка, заставляющего кипеть мозг. Наша жизнь может быть плоска, может быть стоячей водою; но воображению необходимы потоки, его расшевеливающие, постоянное движение мнений, столкновение нравственных личностей.
Моя первая книга – это разговор с самим собою. Когда человек, устроенный как я и как многие другие, углубится в свое собственное я, он привязывается к нему и засыпает с ним. Является расслабленность, нечто, похожее на квиетизм, оцепенение людей, сосредоточившихся, в созерцании собственного пальца. Но голова не может жить одна. Я допускаю исключения, некоторые головоломные работы памяти: восстановление пунктуации у древнего автора, например, но вне этого, для выражения, для движения, для проявления творческих способностей, для возобновления исключений, я считаю необходимым для гигиены ума возбуждающий и волнующий режим; словом, некоторое опьянение головы в доброй компании умных людей, которые дают нравственному существу литератора толчок и пришпоривания, какие физической системе дают излишества…
А как поживают дорогие малютки?
Весь ваш Шарль Демальи».
XXX
«Это опять я, мой милый Шаванн, я счастлив и пишу вам…
Наши обеды по четвергам продолжаются. Теперь мы, я думаю, в полном составе. Мы составляем маленькое общество – довольно полный образчик мира интеллигенции.
Если наступит потом и гибель человечества, и если Ноев ковчег примет нас, у нас со всем нашим столом будет чем заменить на Арраратской горе всю витрину Мишеля Леви, выставку Бенье и афишу Оперы!
Наш романист, это новое светило, высокий малый, разорившийся, но могущественный; железный темперамент его может вынести двадцать семь часов верховой езды, или семь месяцев каторжной работы в своей комнате; синие глубокие проницательные глаза, усы как у Манчу, собирающегося на войну; сильный громкий голос, как у военного. В этом человеке что-то убито в жизни, иллюзии, мечты, не знаю, право. Внутри его клокочет гнев и досада за неудачное стремление к небесам. Его холодная наблюдательность без стыда топчет человека в грязь, это как ланцет хирурга, вонзающийся сталью вглубь раны… Старые раны, друг мой! Самое странное то, что, несмотря на все, его ум склонен к пурпуру, к солнцу, к золоту. Он поэт прежде всего, восхитительный и неподражаемый мечтатель. Его книга, его прекрасная книга, вы не поверите, это – покаяние: он хотел посадить свой слог на сухой хлеб, и обуздать свою фантазию, в роде тех полнокровных женщин, которые, боясь искушений, выпускают себе пинту крови. У нас есть также художник, который не читает нам лекций о грунтовке холста, ни о гуманитарной роли жженой тердесьенны. Это лицо в роде Ламперьера, тихий, сдержанный, симпатичный, печальный, но такой печалью, которая у некоторых людей точно музыка. Голос его ласкающий, глаза выражают доброту и дружелюбную лень большой отдыхающей собаки. Грансей – наш художник, – человек тридцатых годов. Он участвовал в великой армии в то время, когда артисты, художники и поэты шли под одним знаменем, жили одними победами, одними страстями, часто под одной крышей в храброй и дружной армии.
Это время запечатлелось в его сердце как солнце Аустерлица в глазах инвалидов. Он рассказывает о нем тысячу легенд, исторические басни самого чудесного свойства… Вы знаете прекрасную страницу генерала Фойя, этот рассказ о победах республики, где слышится марсельеза, где все летит! рассказы Грансея о великих днях романтизма имеют тот же полет, тот же огонь. Иногда Грансей исповедуется и улыбается. Одну из его историй о братстве, о детских безумиях, о странном и великом направлении, о горячке того времени рассказал он вчера вечером. Это было перед представлением «Марион Делорм». Грансей пишет одному из своих приятелей, студенту медицины в провинцию. Друг находит тон письма печальным, думает, что его приятель нуждается в деньгах, собирает сколько может, берет дилижанс и привозит несколько сот франков Грансею. Грансей в это время случайно был почти богат. Он благодарит своего друга и ведет его вечером обедать в своей любовнице. В то время любовницей Грансея была женщина, которую он любил. И вот друг завтракает и обедает каждый день между Грансеем и его любовницей. Однажды Грансей приходит за ним. Отворяет дверь, подходит в его кровати и видит… чудовище! Друг его сбрил бороду, волосы, брови и усы. Грансей думает, что тот сошел с ума, осыпает его вопросами; друг кончает признанием, что он влюбился в его любовницу и хотел поставить себя в невозможность видеть ее. Грансей приводит его к ней. Затем, после обеда – это было первое представление «Марион Делорм», – он его ведет в театр. Друг чуть не содействовал провалу «Марион Делорм». Каждый раз, как он повертывался, чтобы заставить замолчать оппозицию, вся зала покатывалась со смеху при виде этого восторженного и гладкого чудовища. Не правда ли, как рисует это то время, о котором так сожалеет Грансей? Политические идеи 1848 г. возвратили ему немного увлечения и молодости. Когда-то и другое было убито, он опять впал в скуку, равнодушие, в бездействие мысли и стремлений. Это очаровательный, тонкий женский ум, полный оттенков и настолько изящный, что женщина заметила бы ум Грансея только обманывая его с кем-нибудь из его приятелей. Печаль его спокойна и светла, без раздражения и мстительности. Она не ожесточила его. При своей холодной наружности, он дружески и горячо пожимает руку, он скромен; он мало производит шума, смеется в полголоса; он милосерден не будучи жертвой, и он довольствуется смехом над смешным и иронией над глупостью, чтобы простить их. Но как ни спокойна меланхолия Грансея, видно, что если она и не преследует его, то всегда сопутствует ему. Будущее беспокоит его. Грансей думает о своей старости; он может заболеть, потерять работу… Недавно Грансей говорил по поводу одного из наших, очень талантливого, честного человека, умершего одиноким, в меблированном отеле, смертью своих друзей, которым XIX век дал приют в больнице или в морге, Жерара де-Нерваль повесившегося, Тона Жоанно, для похорон которого должны были сложиться те, для которых в свою очередь складывались другие. Он говорил: «да, я знаю, я получал от пяти до двенадцати тысяч франков в год… Если бы я был благоразумен, я бы занимал маленькую комнатку… тратил бы пятнадцать су в день… и сберег бы себе что-нибудь на черный день. Это моя вина… Это «mea culpa» есть припев к его терпению. – «Это моя вина», – говорил он опять, когда мы рассуждали о желании и тщеславии наших душ и умов, – почему бы не задаться посильной целью? Иметь какое-нибудь достижимое желание? Сесть на конька, которого можно было бы оседлать?.. Например, быть коллекционером, это чудесный конек для счастья… Но надо иметь призвание к счастью… Ах как я завидую буржуа, которые едут на дачу по воскресеньям и так громко смеются!.. Или, например, конек Боро: это прекрасный человек, ищущий тонкие оттенки и переливы и находящий их. Он счастлив. Ему этого довольно!.. И правду говоря, чего только мы ни требуем от жизни и от женщины! Мы хотим, чтобы наши любовницы были честны и хитры, чтобы они имели все пороки и все добродетели, чтобы они имели крылья и чувственность… Мы все безумцы! Розы, которая пахнет розой, удовольствия как оно есть, женщины как женщины, нам недостаточно. У нас болезнь в мозгу. Буржуа правы». «Человек с годами побледнел в живописце. Его безумная, торжествующая, гремящая и поющая палитра, его мифология, улыбающаяся в изумрудном и янтарном небе, праздник богинь, восхождения на Олимп, его боги с дивными членами цвета розоватой слоновой кости, эта блестящая и обманчивая жизненность мяса и голого тела, понемногу побледнели в его руке. Облако, потом креп протянулись по этой палитре, которая была прежде потоком золота и амброзии, отдыхавшей в блеске плафона Лемуана, бросая на полотно солнце и смех Дон-Кихота, эту веселую Одиссею Франции и Испании. Как подернутый мглою час, который бесшумно наступает в конце дня в мастерской, медленно погружая во мрак стены и краски, и проливает сперва легкую тень, убаюкивающую взгляд и мысль, а затем выдвигает ночь со всех сторон, так и сознание старости шаг за шагом тушит всю эту возню и эти апофеозы, Грансей покинул свет и юг для багровых небес, для тусклых дней, пустынных морей, для стоячих вод, для угрюмых скал, для пустынь, где солнце садится как сфинкс. Больной каприз и мрачные мечты Грансея перенесли его в этот таинственный уединенный и угрюмый мир природы. То он изображает свинцовое небо, старую деревню, а под витыми как медные колонны деревьями, обвитыми диким виноградом, бледную молодую девушку, прозрачную как тень, освещенную сзади солнцем и с головы до ног окруженную бледным сияньем. То – дикий кошмар сверхъестественного мира, танцы, блуждающие огни, леса, шумящие от летающих на метлах ведьм или же страшные образины, упавшие после искушения св. Антония на крышу, скрестившие ноги на зубцах стен, точно честные портные на своих верстаках, и глядящие круглыми пристальными глазами на какую-нибудь Тальони с ноготок, которая выделывает антраша в серебристом тумане луны. «Да простит мне Бог! Я ничего еще не сказал вам о нашем самом постоянном амфитрионе. Я чуть было не забыл Фаржасса. Вы знаете про старый спор Денег с Умом, дуэль Плутуса и Аристофана; в настоящее время это дело улажено. Свидетели пустили деревянные сабли, противники произнесли взаимные извинения и все вместе отправились завтракать. За десертом Деньги и Ум обнялись, как люди, которые сожалеют, что до сих пор друг друга не знали; так, что по выходе из-за стола видели богатых людей, которые набирались ума и умных людей, которые составляли себе богатство!
Наш амфитрион – человек биржи. Это красивый мужчина лет тридцати пяти, свежий, чистый, светлый, вычищенный всевозможными щеточками и стальными принадлежностями, всеми туалетными водами англичан, у которых он перенял манеру носить бакенбарды и темные цвета шотландских материй. Наш друг, надо признаться, существует для нас только с трех часов. До этого времени у него в руках карандаш и записная книжка; до тех пор он – оцепеневшая цифра. В три часа он узнает своих друзей; мысль его начинает циркулировать, сердце возвращается к нему. Он живет, улыбается, он глядит, как счастливый человек на счастье других, на Бога, на людей, на проходящих женщин. И вот предоставленный самому себе до следующего дня, снова вошедший в оболочку светского человека, веселый, умный, он вносит в наши обеды свою долю мыслей, острот, наблюдений и веселости, веселости отпущенного школьника, или только что женившегося юноши, которая охватывает все его тело, движет его руками и ногами, наполняет его уста радостными восклицаниями удовлетворения и неограниченного довольства; все хорошо, все прекрасно, и он толкает вас локтем, говоря:
– Ага? – чтобы заставить вас признаться, что жаркое отлично приготовлено и надо возблагодарить Провидение.
Это умный человек, который выигрывает на бирже потихоньку и наверняка от двадцати до тридцати тысяч франков в год посредством комбинаций, которые мне очень хорошо объясняли и в которых я равно ничего не понял. Он тратил их на дом, содержимый на широкую ногу, и на библиотеку, его главнейшую страсть, которая, я думаю, составляет самую полную коллекцию наших современных книг, не простых экземпляров на тонкой непрочной бумаге, но на голландской бумаге в сафьянном переплете, украшенном позолотой Капе. Это единственная роскошь, бьющая в глаза в его обстановке; все остальное только удобно и устроено для обыденного ежедневного комфорта. Позолот нет, но есть прекрасные кресла, которые укачивают вас как в колыбели; нет вычурных блюд, но обеды очень хорошие, с мясом, которое вас подкрепляет; отличное красное вино, теплое и не фальсифицированное; везде и во всем у него проглядывает наука практической жизни, разумное и широкое хозяйство, комфорт, перенесенный биржевиками из «home» Лондона в парижское жилище.
В нашем обществе есть и композитор, и хороший композитор, как мне говорили. По крайней мере, он никогда не играет на рояле. Бресоре написал две или три оперы, из которых я слышал… одно заглавие. Но если б я прослушал и дальше, я бы не подвинулся вперед: вы знаете, что у меня нет слуха в полном смысле этого слова. Вообразите себе человека серьезного, как латинская речь, бесстрастного, как совесть мудреца; из уст его выходят иногда шутки, от которых можно помереть со смеху, причем его мраморное лицо совершенно не меняется; это один из тех людей, которые в шарже растрачивают огромный комический гений и в шутовских выходках – замечательную фантазию и иронию; это жестокий, яростный ум, который придумал избавить Фаржасса от одного скучного гостя, постоянно навязывавшегося к нему, поместив следующее объявление в «Маленьких афишах» с именем несчастного и его адресом:
«Желают уступить поношенного паразита».
Относительно буржуа, – старое слово, столько же употребительное как слово «варвар» у греков или слово «штафирка» у военных, – он неумолимый и безжалостный насмешник. Этот демон-человек, поддев кого-нибудь, имеет вид китайца, который медленно сдирает кожу с одного из себе подобных. Он холодно, методично, систематично мстит буржуа за их дурные мнения об артистах, за их тайные нападки, за их глухое недовольство. Это реванш за все удовольствия, за все радости, которые доставляют нам наши междоусобия, разоблачение наших бедствий и публичность нашей брани……
Да, мы не дисциплинированный народ. Мы фразёры, мы хвастуны. У нас свои пороки, дурные инстинкты, свои предрассудки, свое тщеславие – наша живая рана. У нас нет веры, уважения, жалости в наших играх, и мы делаем игру изо всего… Да, но в конце концов мы все же великая и благородная раса, раса свободная, дикая, которая презирает владычество, не признает божественного права денег, и которую не закрепостила еще монета в сто су. Мы не верим ни во что, правда, но у нас есть своя религия, религия голов, за которую мы боремся, страдаем, умираем: совесть разума. Ирония, оскорбления, неудачи судьбы, нетерпимость успеха, работа, работа днем и ночью, лихорадочная работа, которая истощает, старит, убивает; жизнь без отдыха, борьба, постоянная борьба; телесные страдания и душевная усталость, долгое испытание, и долгие мучения мысли, которая исповедует до конца свои умственные верования; уменье, самое последнее в свете уменье наживать деньги – ничто на нас не действует, и мы идем, идем, состарившиеся раньше времени, с поседевшими висками в тридцать лет, желчные и бледные от света ламп, измученные бодрствованием, изнеженные ночным разгулом и работой… Ах! воюя с бумагой, мы проживем не более тех, кто воюет с железом. Мы идем, обративши глаза на другую звезду волхвов. Одни падают, другие устают, мы сеем по дороге мертвых и отстающих, и смыкая теснее наши ряды, сбирая наше знамя, мы не оборачиваемся… Мне стыдно сказать вам, милый, друг мой, чего мы ищем: это золотое руно, имеющее смешное название; это просто на-просто – идеал, «картину, как сказал Гоффман, которую мы пишем нашей кровью»; химеру, которая все же так прекрасна, что все покинувшие нашу дорогу для более легких путей, вошедшие в сделку с своей совестью и злоупотребляющие своим умом, чувствуют угрызения совести ренегатов. Они говорят себе и другим: «у меня пять человек детей»!.. Они извиняют себя и все же не могут себе простить отступничества. Да, у нас нет порядка. Мы не умеем откладывать на черный день, выигрывать на бирже. Но, я знаю, между нами есть беднейшие, которые с голодными желудками отказались от больших денег, чтоб не запятнать своей совести, не искажать своих мыслей и не выбрасывать некоторых фраз… Да, в нашем мире есть люди, которые более не краснеют, и есть вещи, которые заставляют краснеть; бывают скандалы, постыдные слабости; но, мой друг, то, что мир скрывает, наш мир выводит на чистую воду. Мы подымаем занавес, показывая все наши язвы, мы роемся один у другого в нашей жизни, в наших письмах, как роются при обыске в изголовье постели вора. Все наши подлости на глазах всего света. Посчитайте же подлости других людей, другого мира, подлости тайные, скрытые!.. Да, мы составляем враждебную семью, республику зависти, мы терзаем, грызем друг друга; но в глубине всего, в этом споре из-за славы, из-за популярности, на этом узком поприще, где часто местечко, занятое одним, есть хлеб, отнятый у другого, у нас все же есть восторги, выходящие прямо из груди: мы чтим успехи, которые нас подавляют, и мы поклоняемся великим людям между нашими сотоварищами… Я видел одного помещика, который завидовал другому из-за кусочка земли. Вся наша зависть была ничто в сравнении с этой.
Да, мы клевещем сами на себя; но под всеми нашими позами, под нашим самохвальством, нашими старческими улыбками, нашим циничным хвастовством, скрывается конфузливость, наивность и застенчивость влюбленной куртизанки; если мы уж любим, то любим, как школьники. За ложным стыдом иллюзий, преданности и всех социальных добродетелей, за нашим показным скептицизмом, нашими грубыми парадоксами, нашими бессодержательными темами, стоит то, о чем мы никогда не говорим, старушки матери, сестры, которым мы помогаем своими работами, семьи, куда таинственно идет наша сыновняя помощь… Но я кончаю свой монолог. Простите и прощайте. Шарль Демальи».