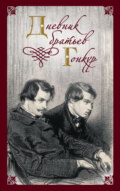Эдмон Гонкур
Шарль Демайи
LV
Наблюдение над расстройствами, причиняемыми человеку привычкой к условной среде, к искусственным страстям и воображаемому существованию, могло бы послужить материалом для прекрасного психологического этюда. Какое мозговое явление может быть любопытнее явления, образующегося у людей театра? Их роль оставляет в них след, таким образом, что их жизнь на подмостках смешивается с реальной повседневной жизнью, часто заглушает ее и руководит ею. Но где эти нравственные изменения всего виднее и значительнее, это у женщины театра. Нередко случается, что роман, который совершается перед рампой, преследует ее и вне сцены, и предаваясь чужому воображению она создает из него свое собственное. Это продолжение театрального вымысла на практике может привести женщину к самым странным извращениям, самым странным изменениям ума и сердца, перемене суждений и является второй натурой мысли и характера. Так, встречаются между драматическими актрисами, женщины, принимающие жизнь за драму. В их повседневных отношениях у них являются сомнения, недоверие, боязнь, страх женщин, преследуемых, заключенных, отравляемых регулярно с восьми часов вечера до полуночи. Скрип двери их беспокоит. Самое простое письмо заставляет работать их мозг, пока они не находят в нем какую-нибудь западню или махинацию. Все незнакомое кажется им подозрительным. Полиция для них – это Совет Десяти. они верят в предателей и прислушиваются к их шагам, лежа на постели.
Актриса, играющая комедии, избегает этой опасности и род таланта Марты придал ей до сих пор только некоторую манерность с приправой наивности, которую Шарль в первые дни своего брака находил грациозной. Одна пьеса, маленькая пьеса в одном действии имела на Марту другое влияние. В это время давали в «Gymnase» «Демон домашнего очага». Марта нашла прелестной свою роль. Это была роль молодой женщины, смеющейся над любовью, и не любящей своего мужа, который умирал за нее.
Эта роль, эта пьеса разбудила кокетство, дремавшее в сердце Марты и поторопило её тщеславие сделаться маленьким демоном и поразнообразить семейную жизнь насмешками и комедией. Она вообразила себя интеллигентной женщиной, стоящей выше любви человека, который ее любит. У нее появился задорный дух, которого Шарль не замечал раньше. Она настроила себя на борьбу. её кошачьи ласки выпустили когти. Роль разнуздала женщину.
С этого времени начались различные хитрости, изобретение маленьких пыток, жеманство, словом, все мелкие терзания, которые можно было причинить мужу и любовнику, и секретом которых обладают некоторые блондинки с светлыми глазами и холодным темпераментом. Целая буря капризов разразилась вдруг над удивленным Шарлем, который не понимал, откуда шла эта перемена. Марта играла роль вполне: все тут было – и раздражительные слова, и уколы ревности, и кокетство с посторонними, постоянная перемена желаний, воли, мнений, припадки веселости, когда Шарль бесился, и дурное расположение духа, которое только ухудшалось от его ласк и беспокойных вопросов.
В этой игре уходило счастье. Не было более этого веселья по утрам, полного безумств, поцелуев и шутливой борьбы. Марта не имела уже на это времени. Она была совершенно погружена, с самого начала этого кризиса, в заботы о своей особе и своей красоте. Вставши в шесть часов, она оставалась сидя у открытого окна до восьми часов. Освеженная этой ванной утреннего воздуха, она брала ванну из воды, которая продолжалась до завтрака, а после завтрака она сидела на диване до своих репетиций, закинув голову, боясь малейшего прикосновения и раздражаясь, когда ласка Шарля угрожала потревожить её позу и восстановляющий покой её лица; неподвижная, немая, она время от времени подымала свои руки и расправляя пальцы трясла ими в воздухе, чтобы заставить отлить от них кровь и сделать их белее.
Шарль хворал с некоторых пор, сам не зная, что с ним. Его раздражение начало обнаруживать некоторую слабохарактерность. Он не чувствовал более в себе храбрости объясниться, и пробовал утешать себя, что это настроение Марты пройдет как оно пришло, когда вдруг почувствовал себя серьезно больным.
LVI
Наступила осень. Марта продолжала свою маленькую глухую войну, ловко ведя ее и стараясь не доводить до крайности терпения Шарля, которое она испытывала с легкомыслием женщины; и оба, как бы согласившись, жена по расчету, муж по слабости, чтобы избежать объяснения и взрыва, они жили по виду их прежней жизнью. Шарль не хотел видеть в поведении Марты ничего, кроме некоторой холодности, дурного расположения духа, капризов её пола и её лет. Марта с своей стороны находила, что друзья Шарля недостаточно «светские люди», поэтому их уединение первых дней продолжалось. Чтобы немного рассеять ее, Шарль пользовался днями, когда она не играла, чтобы увлечь ее на прогулки в окрестности Парижа, в эти хорошенькие деревушки, вдоль прелестных берегов Сены, неизвестные, спрятанные, никем не признанные, которые так презирает парижанин, имея их всегда под рукою. Он старался развлечь ее, забывая временами все свои разочарования и надеясь возвратить понемногу прошедшее, и несмотря ни на что, волнуясь, беспокоясь и ничего не работая. Все же он чувствовал себя расстроенным нездоровьем, в котором он не отдавал себе отчета; эти страдания появлялись и исчезали в нем, выражаясь тяжелым и настойчивым чувством, которое он приписывал сильным жарам этого исключительного лета. Каждую минуту ему бросался жар в голову и появлялись тупые боли. У него происходило сжатие в висках, судороги в легких, мучительное раздражение слуха и обоняния, дрожь, от которой он избавлялся только сильными движениями. Он или совсем не спал или спал очень плохо; сон его был полон кошмарами, сражениями, дуэлями и прерывался внезапными пробуждениями. К этому еще прибавилась какая-то угнетенность, которая шла все прогрессивно; в один прекрасный день Марта, наконец, заметила его манию пить воду, которая явилась у Шарля вследствие постоянной сухости в горле, его обрывистый и нервный звук голоса; Марта в этот день, вздумавши взглянуть на Шарля, нашла его настолько изменившимся, что посоветовала ему обратиться к её доктору.
Доктор Марты, бывший вместе с тем театральным доктором, осмотрел Шарля, расспросил его и тотчас же решил:
– Очень хорошо… очень хорошо!.. Прекратите всякую работу, побольше движения… Вам недостает немного железа в крови… гвозди в графин – вот ваше лечение. О, Боже мой, да… лечение хорошенькой женщины, как видите… А ваша пьеса?.. Отложена на открытие?.. Ремонвиль говорит, она очень хороша… Ах, у нас есть жилка с некоторых пор… Вчера мы сделали сбора на четыре тысячи… французский сбор!.. Мы вас возвысим, вы увидите… Только мы и умеем возвысить что-либо. Для Лафона есть роль?.. Мы с ним переговорим.
«Мы» было манией доктора. Можно было подумать, что он считал себя за-раз директором, режиссером и театральной публикой, которой он был обязан щупать пульс.
Это «мы» имело все значение его «я», направляющего и ответственного; казалось, он нес на себе «Gymnase» и её благосостояние. Исключая это, исключая еще его любовь в маленьким литературным и театральным сплетням, этот доктор, оптимист для развлечения, был отличным человеком, практиковавшим прекрасно ту медицину, которую англичанин Силенгэм называет «искусством пустомелить».
У него была прекрасная осанка, безукоризненное белье, благоухание, разлитое по всему телу, платок из тончайшего батиста, с вышитой меткой; а его руки, совершенно женские руки, постоянно играли новомодной тросточкой.
– А, вы смотрите на мою трость?.. Да, это японский бамбук, четырехугольный тростник… это совсем ново… любопытная вещь…
– Так вы думаете, – сказал Шарль, – что это лечение…
– Как же!.. Да что у вас такое?.. Ровно ничего… Вы больны, как все писатели… Талантливые люди умирают только тогда, когда они хотят этого… Ваша болезнь? Но, вы знаете, что сказал Вольтер: «я родился убитым»… Как видите, довольно медленный яд!
И, переложив ногу на ногу, с элегантностью движений Моле или Фирмена, продолжал:
– В самом деле, вместо того, чтобы принимать ваше железо здесь, у себя в комнате, вы бы его пили на месте, из источника, в Форж, например, или в Бюссан? Путешествие оживило бы вас… потом воздух, прогулки… Вы поправитесь, несмотря ни на что… У нас идет шестидесятое представление… Нечего и думать, что оно будет даваться гораздо большее число раз… Я не думаю, чтобы что-нибудь помешало дать нам отпуск вашей жене…
Марта поддержала предложение доктора и вошла в роль супруги с жаром и увлечением, которое доставило удовольствие Шарлю. Шарль противился немного; его несколько смущало ехать на воды; он боялся любопытства, которое возбудит его полуизвестность и имя его жены.
– Прекрасно, – сказал доктор, – прекрасно… Воды открываются в Сен-Совёре, около Труа… Старинный, впродолжение многих веков покинутый источник… Там есть свидетельства на пергаментах… граф из Шампаньи, какой-то Тибо, вылечился там по возвращении из крестовых походов. Серьезно, очень целебные воды… я видел анализ… я дам вам рекомендательное письмо к одному прекрасному доктору… по части анемии… очень дельный господин. Вам будет очень хорошо. Я хотел послать туда маленькую Ноэми, но… вы знаете, она разошлась с Робертом… Эмар сочинил жалобные стихи на это событие… Там есть один куплет… Постойте!.. Это на мотив… Ах, забыл… Этот Эмар!.. Вы его знаете?.. Он очень забавен… Что я вам говорил?.. Ах, да! Поджаренное мясо… Самого, самого поджаренного, нет надобности повторять вам это.
Марта, провожая доктора, спросила:
– Это ничего, доктор, неправда ли?
– Ровно ничего, дитя мое… Боже мой, у него немного крови… он нервен, очень нервен, к тому же несколько изнежен, ипохондричен, это само собой вытекает… Крови! Крови! Разве есть в Париже кровь у кого-нибудь при нашей жизни! Все обходятся без неё… и живут… Я еще не сделал вам комплимента по поводу вашего нового жеста во втором явлении… Ах, это восхитительно!
– Есть хоть небольшое общество на этих водах?
– Право, я сам не знаю… Дирекция делает массу объявлений. Публикуют, что бальная зала окончена… что есть библиотека, все журналы… одним словом, воды… Вас это огорчает? Хотите, я посоветую вашему мужу отправиться на…
– Совсем нет… я хотела знать, как там насчет туалетов.
LVII
На другой день Марта получила отпуск, Шарль укладывал свои книги в большой чемодан.
– А приказание доктора? – спросила Марта.
– Ба, – отвечал Шарль, – это я только, чтобы помешать себе работать. Я с собой везу одну лень, уверяю тебя.
К концу недели они устроились около Сен-Совёра. Шарль радовался. Он нашел в четверти часах от деревни маленький замок, кирпичи которого, окруженные рамами из белого камня, весело глядели сквозь деревья. Это был единственный флигель, уцелевший от огромного замка Людовива XIII. В XVIII столетии первый этаж покрыли крышей à la Мансарт, с тремя круглыми окошечками Людовика XV и колоколом, прикрытым китайской шляпой; с двух сторон еще остались две башни из четырех; обвитые и скрытые плющом и фруктовыми деревьями выходя из оврага, они поднимали в небу свои остроконечные крыши.
В замке, перестроенном и переделанном для буржуазного жилища, где три века оставили тут и там свои следы и как бы воспоминания, привитые одни к другим; столовая была обшита деревом, над дверями и окнами, в раковинах, высеченных из изящного камня, были написаны веселыми легкими и живыми красками, где плесень местами заменяла изображение тумана, сцены из басен Лафонтена. Над тяжелым, богатым камином Людовика XIV, выложенном прекрасной медью, где сплетался двойной герб прежнего владельца, висела большая картина в деревянной раме: она изображала трофеи охоты на дичь, которые стерегли гончие собаки песочного цвета, так хорошо изображаемые кистью Удри. На каминной подставке две большие из белого фарфора вазы портили бы впечатление без Марты. Но Марта, набрав охапку тростника в заброшенном пруду парка, тотчас же их украсила, придав всей комнате тот праздничный вид, который придают жилищу только женщины и букеты цветов. Затем шел большой зал, обставленный старыми креслами, с подушками из перьев, с белым деревом, на котором золото совершенно исчезло под белилами и не блестело более, виднеясь только еще на рамах четырех пано, где скульптор изобразил четыре времени года: весна рассыпала ленты, грабли, серп, посох, лейку и корзины с цветами; лето бросало гирлянды роз, шиповника, соломенную шляпу, корзинку с фруктами и флейту; осень сыпала чаши, охотничьи рога, гирлянды персиков, груш и корзины с виноградом; зима роняла факелы, шутовской колпак, мандолину, тамбурин, маску, треугольник и лавровый венок.
В кухне был один из тех огромнейших каминов, к которому в осенние вечера приносят свой стул и садятся, грея свои руки и вытягивая ноги к пылающему хворосту. Восходящее солнце освещало комнаты первого этажа и наполняло их веселием на целый день. Но ни одна комната во всем замке не нравилась так его двум гостям, как круглое зало одной из башен. Это была старинная часовня, которую еще можно было узнать по свинцовой оправе и маленьким окошечкам. Южное окно было заколочено. В два другие падал свет сверху. Отличная двойная дверь, крытая коричневой парчой с золотыми гвоздиками, оберегала вход; видно было, что часовня сделалась мастерскою живописи.
При выходе из стеклянной двери залы и других комнат в этом же этаже, был перекинут через ров каменный мост, железные перила которого скрывались за диким виноградом. В конце моста открывалась аллея из каштанов, старых каштанов с обстриженными верхушками, с новыми отпрысками, подымающимися прямо в небо; несколько ниже взор находил вдали полосу лугов, а далее – Сену. Направо и налево от каштановой аллеи шел парк, маленький парк, в котором Шарль и Марта тщетно старались в первый день заблудиться. Это были остатки французского парка, вырубленного в 1793 году, но потом быстро подросшего. С каждой стороны аллей свешивалась целой завесой старая сирень, сквозь которую свет играл на дорожке меняясь смотря по времени, то перебегая с веток в листву, скользя по гладким темным и светлым листьям, то образуя между двумя стенами зелени – полосы, одну из тени, другую из солнца, по которой временами проносились тени от летающих в небе птиц. При малейшем ветерке эта занавесь колебалась и при легком дуновении листья склонялись с обеих сторон аллеи и в волнующейся чаще проносилась легкая дрожь и уносилась замирая. Тут и там над сиренью дикая яблоня протягивала свои ветви. По бокам аллей ползучие растения, сплетенные и перемешавшиеся между собою, образовывали маленькую беседку для упавших пожелтевших листьев. На перекрестке был маленький уголок, где Марта и Шарль любили сидеть. Трава была помята. Со всех сторон рос вереск. Маленькие елочки подымали свои пирамидальные верхушки, посеребренные светом. Земля была горячая, целый день залитая солнцем, целый день оживляемая трескотней кузнечиков. В открытом небе виднелась ель с лиловым стволом, с изумрудной верхушкой, придающей небу лазурный цвет Италии.
С этого уголка начинались развалины. Аллеи, поросшие травой и кустами, сделались уже тропинками, посреди которых на паутинах начались сухие листья. Остатки лабиринта обратились в простую рощицу с заросшими тропинками. Фонтан из обожженной глины, с тремя тритонами, несущими двух обнявшихся амуров, печально струился в тени засохших ветвей, изломанных, забытых, уединенных. Время немного пощадило в конце парка восхитительное безумие XVIII века, ребячество самого забавного рококо: игру в гусек, настоящая игру в натуральную величину, устроенную между деревьями. Все станции, где рупор посылал далее игроков, были сделаны из окрашенного камня и гипса. Шарль и Марта нашли их одну за другой в маленькой рощице: это была тюрьма, затем гостиница, затем колодцы, и все остальное. Однажды возвращаясь со своих открытий, они заметили у края аллей выцветшую ракету, ручка которой сохранила остаток красной кожи, скелет мертвой игрушки, единственное воспоминание прошлого.
LVIII
В гамаке, повешенном между двумя каштанами посреди аллеи, ведущей от крыльца к Сене, полулежала Марта, одной ногой касаясь земли, другою покачивая в воздухе. Она слушала с рассеянным и скучающим видом господина, говорившего с Шарлем на зеленой скамейке. Это был молодой человек с четырехугольным лбом, спутанными волосами, широким лицом, львиными глазами, толстыми руками, которые упирались в коленки самым неуклюжим и буржуазным образом.
Последние лучи солнца играли на тысяче новых отпрысков, выросших на подрезанных каштанах и на ветвях нежно-зеленого цвета, на этих воздушных клетках, которые солнце покидало как бы с сожалением, опускаясь к горизонту, и окрашивая их всеми своими переливами; во всех концах слышалось веселое чириканье птиц, поющих на прощанье.
– Это совершенно верно, сударыня, – тут нет ни одной кошки, совершенно верно… Дирекция вод все сделала, чтобы привлечь публику, даже объявила, что публика уже есть; и несмотря ни на что, никто сюда не едет, исключая этой голландской семьи, да четырех или пяти женщин из Труа, приезжающих сюда в хорошую погоду… Но ведь собственно говоря ваш муж приехал сюда, чтобы лечиться и самый несчастный здесь – это я, доктор.
– Да, я понимаю, сказала Марта, – вы рассчитывали…
– Я рассчитывал, сударыня, на большое число больных… Я рассчитывал на обширное поле наблюдения и исследования. Я надеялся найти здесь орудий для борьбы с болезнью века.
– В самом деле, доктор, – сказал Шарль, – с болезнью века.
– О, я отлично знаю, что медицина, взятая в совокупности своих доктрин, рассматривает ее как индивидуальные случаи, которые надо лечить только тогда, когда организм глубоко поражен… Я, напротив, смотрю на нее, как на болезнь органическую, принадлежащую по своему характеру общности и чрезмерного развития, племени девятнадцатого века. Я считаю ее болезнью всех жителей столиц, в различных степенях развития, но поражающей более или менее здоровье нарождающихся поколений, потому что только сильные порождают сильных… Посмотрите, все стремится к централизации, к образованию маленьких и больших столиц. Современная жизнь стремится от чистого воздуха, от земледельческой жизни к сосредоточенной, сидячей жизни, к жизни газа древесного угля, к жизни газа ламп, к жизни, вскормленной на фальсифицированной, обманчивой, подделанной пище, к полному извращению нормальных условий физического бытия… Да вот, вы курите… еще одно видоизменение, противоречащее общей экономии жизненности, благодаря излишеству опиума… И все же, что касается табака, я наверно не знаю; я вижу ослабление мозга попусту; но мне трудно поверить, чтобы злоупотребление, сделавшееся привычкой, не было законом, ниспосланным провиденьем, каким-нибудь предохранительным средством, причин и действия которого мы не знаем… Наконец, ведь мы должны найти какое-нибудь лекарство, какое-нибудь противоядие от тысячи изменений нормы современной жизни, от тысячи её отправлений. Наука должна быть готова к борьбе с этой новой болезнью. Надо найти, должно существовать что-нибудь, что уравновешивало бы это извращение природных законов гигиены и состояния человеческого здоровья.
– И вы ищите это противоядие, доктор, вы верите в целебность этих вод?
– И да, и лет. Совершенно нет. Но, кроме введения железа в кровь, они ведут к двум великим лекарствам, которые я очень чту, как единственно помогающие в малокровии: к пище и движению, т. е. к отдыху и движению крови… Все заключается в этом по-моему мнению…
– А гидротерапия, доктор?
– Это только толчок… удар хлыста… и ничего более… Теперь, в моей системе, какую действительную и обязательную трату сил нужно предписать? Какая самая большая деятельность циркуляции крови переносима этим усталым телом? Какая верная доза питательных элементов подойдет к этому ослабевшему темпераменту? Сколько времени нужно для усвоения этого лечения? Одним словом, сколько месяцев понадобится для изменения, для того, чтобы лечение произвело действие, чтобы я сделал из вас человека, которого с головы до ног охватывает приятная теплота, человека, аппетит которого заявляет о часе обеда, наконец, человека, ум и сердце которого охватывает детская веселость? Потому что каждый здоровый человек – весел, знайте это… Сколько времени нужно, чтобы заставит преобладать в вас обращение артериальное над венозным?.. Ах, сколько тут материала для шарлатана и за неимением шарлатана – для человека добросовестного… А время спешит, милостивый государь, в этом нельзя сомневаться. Нервная система доведена в настоящее время до последней крайности. Стремление к комфорту, требования карьеры, положения, денег, роскоши, конкуренция, не имеющая границ ни в чем, породили расточительность сил, воли, развития, одним словом, полную растрату человеческих способностей и страстей. Деятельность каждого с верхних до нижних ступеней была удвоена, утроена, учетверена. Все мы возбуждены… даже наши дети, лепечущий ум которых мы взращиваем, как взращивают растение в горячей почве. Это лихорадочное движение жизни, раздражение, почти кризис всего, что составляет нежную и как бы нематериальную сторону нашего существа… Однако, я оседлал моего конька; тем хуже для вас.
– Совсем нет, доктор, – отвечал Шарль, – вы видите, как я вас слушаю; продолжайте же, прошу вас… Я никогда не слыхал, чтобы медицина говорила так.
– Пусть я преувеличиваю! Но возьмите всех тех, мозг которых постоянно работает, постоянно стремится к богатству или славе; возьмите банкиров, деловых, государственных людей; возьмите артистов, писателей, класс, на который старый Цельзий в свое время обращал внимание патологии; эту толпу людей, живущих почти единственно впечатлениями, наслаждениями, обольщениями, разочарованиями нравственными поражениями; этот мир людей, для которых тело есть лоскут, что-то прицепившееся к их уму, которое они тащат за собой; эта огромная семья, все те, внутри которых чередуются счастливые события и благоденствие то возвышается, то падает, династии, продолжающиеся десять лет, успехи и забвение этого века, века пожизненных знаменитостей, века, поедающего людей, вещи, богатства, правительства, славы, надежды… Знаете ли вы, что свирепствует в этом веке, как дизентерия в лагере? Анемия, а в конце анемии – легочная чахотка, раз в желудке, сумасшествие… И тут вы найдете против меня много моих собратьев, которые только с большим трудом называют подобные причины действительными. Они изучат, с терпением, со страстью проанализируют в достохвальных монографиях все видоизменения влияния злоупотребления алкоголем, наследственности, нищеты, вредных для здоровья профессий; они не пропустят ни одного химического и физического действия материальных причин. Но в нравственных причинах они потеряют почву: ни до чего более не касаясь, их скальпель будет отрицать. А какая пропасть между нервными приступами, на границе тела и души, в её изгибах, в её движениях, которые происходят от причин, не имеющих ни веса, ни специфической величины, или от нравственного влияния на чувство! А сколько материала для изучения!.. И потом, нельзя быть только доктором: надо быть священником и доктором, быть исповедником вполне, иметь искреннее призвание без оговорок, без умолчания… И тогда только можно сделать что-нибудь из этой великой идеи: «О влиянии нравственных фактов на физические факты человеческого организма»… Что я вам говорил? Я говорил вам о работе, о напряжении умственных способностей… Что такое усиленная, ускоренная мысль? Перегорание крови, огонь, сжигающий тело и оставляющий одни уголья… Животное масло, идущее на мозг, есть самое существенное в питании, в крови. Человеческий тип вырождается. Это распространено в родовитых семьях, в падающих королевских династиях… Видели вы в Лувре этих испанских королей?.. Какая усталость старой крови! Может быть, это было болезнью римской империи, некоторые императоры которой обладают какими-то оплывшими чертами лица, даже в бронзе. Но тогда было хорошее средство. Когда общество истощалось с психологической точки зрения, происходило нашествие варваров, которые вливали в него свою молодую кровь Геркулесов. Кто же спасет мир от анемии в XIX веке? Может, через несколько лет произойдет вторжение рабочих в общество?..
– О, доктор! – сказала Мария, – какая мысль!
– Извините, сударыня, я крестьянин, сын крестьянина. С десятью су в день, которые я имел в Париже на еду, мне трудно было выучиться говорить фразы, которые не шокировали бы женщин. Я предпочитал, признаюсь вам, давать из них два моему водовозу, чтобы тот будил меня в три часа утра.
Доктор встал.
– Останьтесь же, доктор, – сказал Шарль, – и садитесь… Каким образом вы не имели удач при такой сильной воле?
– Каким образом? Посмотрите на меня… Находите ли вы меня похожим на салонного доктора? Нет. Ну, вот и причина… Однако, я еще должен ехать сегодня вечером в Виллантро. Вы знаете, кстати, моя лодка к вашим услугам. Утомляйте себя. Двигайте как можно более руками и ногами… Только избегайте на Сене слишком свежих вечеров и утренников… Организм ваш здоров, обещаю вам еще раз крови совершенно новой, если вы захотите быть крестьянином в продолжение нескольких месяцев. Особенно – никакой работы…