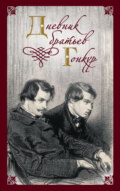Эдмон Гонкур
Шарль Демайи
LXIX
Шарль, придя домой, сказал своей жене, что в воскресенье он поедет с друзьями навестить одного журналиста, который ранен, и что он не будет обедать с ней. Марта очень мило произнесла: «Правда?» и поцеловала его в глаза, чтобы лучше заглянуть в них, – хорошо, я буду обедать у матеря, сказала она без всякой досады.
В воскресенье Шарль встретил на железной дороге Ремонвиля, Брессоре, Ламперьера, Буароже, Франшемона и Грансэ, который привел Жиру. Поехали, побывали у Галлана, ему было лучше и завтра должны были перевезти его в Париж, затем принялись за поиски обеда.
– Однако, где мы обедаем?
– Пойдемте прямо.
– Это всего дальше.
– Пойдемте в Севр.
– В ресторан, где цветные стаканы! Мерси.
– Тогда в Сен-Клу.
– Да, где мы будем отражены в «Черной Голве»… Там поваром тень Кастинга.
– А в Отейль?
– Это у черта на куличках!
– Там напечатаны на тарелках стихи Буало.
– Пообедаем в первом заброшенном замке.
– Таких нет более.
– Господа, – сказал Шарль – во время моих прогулок на лодке я знал здесь один кабачок, в котором была настоящая говядина, свежие продукты, как в Неаполе, и особенная рыба в масле…. гордость хозяина! Подходит вам это? Хотите идти за мной? Это недалеко отсюда: в Ба-Медоне…
Все последовали за Шарлем. Дорога шла вдоль берега Сены, усеянного кирпичами, почерневшими от угля.
– Дай мне руку, – сказал вдруг Жиру Шарлю, пройдя несколько шагов. – Это камни, неправда ли. Я совсем делаюсь слепым, мой милый.
– Ты?
– Я теряю глаза… я вижу плохо… на железной дороге я едва узнал тебя… Плох я стал… У меня какая-то глазная болезнь… не знаю названия!.. у них есть названия!.. Кончить этим, а? Это жестоко!.. Это со мной сделалось за рисунком… за моим последним рисунком… Вдруг, как удар из пистолета… Демарес лечит меня; но, увы! Это кончено….. я готов!.. Ты видел мой рисунок?
– Бал Мабиль, неправда ли? Да, я видел его, это очень сильно, мой милый…. Блондинка, стоящая посреди….. и другие… это типы…. настоящая бытовая живопись.
– Да, я не кое-как работал… я начинал что-то делать…. И ничего не оставить после себя… ничего, кроме глупостей! Иллюстрации пожрали меня… я ничего не сделал… ничего… Вот уже три года я мечтаю о парижских сценах; я собирал этюды…. Мазать двенадцать часов в день, в продолжение десяти лет!.. И когда я начинал принадлежать самому себе, показывать себя… Я ничего не сделал, я знаю отлично…. Но ты бы увидел…. Я проводил ночи для этих негодяев издателей, губил свои глаза вместо того, чтобы…. Я добывал деньги, вот все, что я сделал!.. В тридцать два года, черт возьми, быть подкошенным!.. Мой Мабиль еще что; ты бы увидел!.. Ну что же, неудача! что ты хочешь?… Кажется шесть или семь месяцев я буду видеть так, как теперь… В этом нет роскоши, как видишь… а после этого… после этого, покойной ночи! Я буду видеть руками…
Дошли до ресторана. Двери и окна были открыты, но дом казался мертвым: ни звука, ни души. На ставнях дверей, на которых с одной стороны были изображены карпы, а с другой – жаркое, был приклеен кусочек бумаги, где было написано: Заведение закрыто по случаю болезни. Требуется преемник.
– Вот хорошо! Закрыто! Черт возьми, Шарль! Да благословит тебя Бог!
– Погодите, раньше чем кричать.
И Шарль вошел в большую залу, где стояла маленькая дрянная печка. Он узнал эстраду в глубине, где когда-то в одно из воскресений под шумный и веселый оркестр прыгали танцующие пары. Толкнув дверь, он спустился в кухню, другие следовали за ним, – и увидел около огня бедного человека съеженного, изнуренного, с сморщенным лицом, между нитяным колпаком и кашне из коричневой шерсти; на нем был фланелевый жилет, поверх панталон. Обе его руки, вытянутые и окоченелые, опирались дрожа на палку.
– Ах, это вы господин Шарль, – произнес человек приподымаясь. – Я вас хорошо помню. Вы приходили прежде с этими господами из Лонгшана… Видите, я болен теперь… вот уже два месяца моя болезнь не покидает меня… Моя жена умерла вот уже год, тринадцатого числа этого месяца… Доктора все испробовали… Теперь они хотят послать меня на морские купанья… Это ничего, сколько вас человек? Я постараюсь приготовить вам что-нибудь… Я не могу сделать хорошо, все же умею кое-что, господин Шарль!.. И у нас есть барвена… Жанна!
Этот мертвый дом, этот больной человек, нагнали грусть на компанию. Голодный желудок, ожидание обеда, затем плохое вино привели гостей в нервное расположение духа. Умы были зло настроены, разговоры сердитые, Шарль сердился и сердил других. Да и все были раздражены и мрачны. Брессоре заметил, что тенор, который пел в его опере на репетиции, совершенно не имел голоса. Франшемсона продернул утром на четырех столбцах в республиканской газете один очень умный человек. Ламперьер думал о чем-то, что заставляло его хмурить лоб. У Ремонвиля были новые сапоги, которые ему жали. Буароже поссорился накануне с своей любовницей. Жиру думал о том, что ему скажет завтра окулист. А Шарль, видя все так изменившимся, думал, что было почти так же глупо желать возвращаться в красивые местности своей молодости, как и в красивые места своего счастья.
– Ну что же, дело идет на лад? – сказал Шарль за столом после первого куска.
– Гм!
– Хлеб черствый!
– Это обещает.
– Наконец!
– Ты возьмешь?
– Нет.
– Это что такое?
– Говядина… поддельная!
– Господа, – сказал Шарль наскучив слушать, – есть очень простой выход: заплатим и вернемся обедать в Париж.
– Чтобы сесть за стол в половине второго, не так ли?
– Мы теперь здесь…
– Из чего это сделано?
– Что?
– Бифштекс? – сказал Брессоре, – они делают его из филе Сен-Клу.
Острота не заставила смеяться.
– Брр!.. Тут сквозняк…
– Печка чадит, как человек.
Разговоры замолкли. Никто более не говорил. Все озабоченно ели.
– Знаешь ли ты, что ты нас покинул? – сказал Брессоре Шарлю.
– Как покинул! – сказал Шарль, который не хотел говорит о своей жене и отвечал, что его счастье заняло его.
– Если это так… Ты понимаешь…
Вилки в тишине стукали о тарелки. Ламперьер глядел на Шарля. Через несколько минут он сказал:
– Однако, Шарль, надо это высказать… Тем хуже! Это мутит у меня на сердце… К тому же я старше тебя… и твой друг… Ты не хорошо обращаешься с своей женой…
– Я?
– Мы между своими, и что я говорю не выйдет отсюда… как же ты оставляешь ее без гроша… она должна была занять двадцать франков у жены Вудене…
– Чья это шутка?
– Она не моя… и я не шучу.
– И ты поверил?..
– Какой интерес твоей жене говорить это?
– А! Это она… – Шарль постучал ножом по стакану.
– Девушка! Пошлите в Севр… нам нужна карета в шесть мест… Вот за дорогу… сейчас же, мы спешим… Будем продолжать обед… я отвечу тебе в Париже, Ламперьер… и всем вам.
Тогда на пороге двери показался бедный человек, принявший их.
– Довольны ли, господа? – сказал он, скромно поворачивая свой колпак в своих парализованных руках.
Никто не отвечал.
Человек подождал немного; потом он мрачно вышел.
Приехала карета.
– Куда ты нас везешь?
– В Париж, ко мне.
В дороге никто ничего не говорил. Шарль позвонил у себя. Антуан отпер:
– Барыня дома? – спросил Шарль.
– Она еще не приезжала, сударь.
– Подите за слесарем.
Антуан вернулся со слесарем.
– Надо открыть комод, – сказал ему Шарль, показывая на комод своей жены.
Замок соскочил.
– Смотрите, – сказал Шарль своим друзьям, выбрасывая оттуда кошелек, где лежало триста франков банковыми билетами, золотыми монетами, и монетами в сто су.
– Извини, – сказал Ламперьер, пожимая ему руку. – Я жалею тебя… а твоя жена…
– Довольно! Она моя жена…
Шарль слышал, как заперлась дверь. Друзья его уехали.
LXX
Когда Марта вошла, она нашла своего мужа бледным и серьезным.
– Что с тобой? – спросила она и подошла поцеловать его.
Шарль оттолкнул ее.
– Шарль!.. Боже мой! Но что случилось?
– Что случилось, Марта? Вы сказали…
– О! «Вы…» – прервала удивленная Марта.
– Позвольте мне кончить… вы сказали, что я вас оставляю без гроша… вы отлично знаете, что это неправда…
– О! какие сказки!.. Это Ремонвиль или Ламперьер…
– Это не сказка, Марта… и вы это отлично знаете. Зачем?
– Во-первых, я этого не говорила.
– Вы заняли двадцать франков у жены Вудене, а у вас триста франков в комоде… Это правда?.. Но не лгите же теперь, по крайней мере!
– Но… я совсем не так сказала… Я сказала, что мне нужны деньги, чтобы купить что-то, чего ты не хотел… Нет, слушай! Я лучше во всем признаюсь: мне пришла глупая мысль в голову… тебе никогда не приходило глупых мыслей? Я хотела представиться просто на-просто несчастной женщиной… клянусь тебе. Ну полно, Шарль, я больше не буду… Это кончено… Я виновата… я прошу у тебя извинения.
– Вам хотелось представиться несчастной женщиной?.. Но поймите же… Такими вещами не шутят… Вы не ребенок… Вы говорите подруге, женщине, жене Вудене, сплетнице, вы это знаете… Но ведь это подлость, моя милая!.. Вы компрометируете, бесчестите меня…
– Я уверена, вам это наговорили… Ваши друзья меня не любят… Кстати Шарль, скажи, вы были только одни мужчины? – сказала Марта, стараясь улыбнуться.
– Как вы глупы!
– Потому что вас никогда не узнаешь, – и Марта наклонилась поцеловать его.
– Мы были… – сказал Шарль, отталкивая ее, – вы отлично знаете, кто был, Ремонвиль, Франшемон…
– Они говорили тебе о твоей пьесе?
– Они знают ее по репетиции… Они ждут первой… Что хочешь ты, чтобы они говорили о ней?
– Знаешь… Так, между прочим… Ты уверен в фельетонах Ремонвиля и Франшемона, неправда ли.
– Уверен… Уверен, конечно, как можно быть уверенным, т. е. если я провалюсь, они мне не помешают падать… но они постелют мне матрацы…
– О, полно, она отлично идет, твоя пьеса… Я верю в успех, в большой успех… В самом деле, мне завидно предоставить тебе одному всю славу…
– Я не понимаю…
– Это ясно… так как машина идет сама собой, ты более не нуждаешься во мне… Роль утомительна, и…
– Ты не будешь играть? Ты не будешь играть в моей пьесе?.. В этой пьесе, где я хотел… Ты не будешь играть? – и голос Шарля прервался.
– Ну, пожалуйста, прошу тебя, не впадай в такое настроение. В Gymnase довольно женщин… Что ты хочешь? Эти эффекты не по моим силам… Маленькая вещица, например… Она пойдет очень хорошо… Я… я не чувствую этой роли… Я предпочитаю сказать тебе это сама… Ты бы мог взять…
– Ты не хочешь играть в моей пьесе, неправда ли?
– Тебя это очень сердит, скажи?
– Очень хорошо, милая Марта.
На другой день после завтрака:
– Куда ты идешь? – сказала Марта Шарлю, который выходил.
– В театр.
– Ты не подождешь меня? Вместе выйдем.
– Нет.
Когда Шарль вернулся, у Марты был Нашет.
Нашет сделался другом дома, и он изо всех сил старался трубить об «Очарованной ноте» в маленьких газетах.
– Здравствуй, Нашет, – сказал Шарль, – знаешь ли последние новости?.. Моя жена не играет в моей пьесе.
– Ба! – сказал Нашет с удивленным видом; и повернувшись к Марте, спросил: – Это правда?.. Что за идея!
– Боже мой! Я говорила Шарлю… Пьеса не по моим силам, вот и все… Публика меня ошикала бы, а я не хочу скомпрометироваться…
– Вы позволите вам сказать, что вы очень неправы, – сказал Нашет Марте. – Когда узнают, что вы отказались от роли, после того как приняли ее, изучали, репетировали, это поведет к сплетням, к историям… Публика захочет сунуть свой нос в ваш семейный очаг… Парижские известия будут жить на ваш счет в продолжение недели… Если бы дело касалось интересов пьесы! Но оно касается интересов вашей семьи!.. Это поведет во всевозможным неприятным шуткам на ваш счет и на счет Шарля… Нет, право, не делайте этой глупости… Я знаю, что я не могу убедить вас после того, как Шарль не мог убедить… но…
– О! вас, мой милый, – сказала Марта, – вас я не послушаю… Вы всегда поддерживаете моего мужа… Ну что ж, я делаю глупость, большую глупость, будут сплетничать, все что вы хотите… Но я не вижу необходимости рисковать в роли, которая не в моих средствах… я не хочу играть, и не буду.
– Но, – сказал Нашет будто бы затрудняясь, – я никого не знаю в Gymnase, кто бы заменил…
– Одиль, – сказал Шарль, – она согласилась…
– Одиль! Ах правда, – сказал Нашет, – мы спасены!.. Она будет очаровательна…
– Однако, – сказала Марта Шарлю, – недолго я вас заставила жалеть о себе, мой милый… О! вы прекрасно сделали… Право, вы не теряли даром времени!
LXXI
Ледяная холодность установилась между Шарлем и Мартой. Они жили один подле другого, разделяя между собою только обеды и завтраки и говоря друг с другом только за столом, чтоб предложить, принять или отказаться. Разговор понемногу иссякал и свелся на обмен односложных слов.
Так что Шарль был удивлен, когда однажды Марта, опрокинув голову на кушетку, и протягивая ноги к огню, заговорила:
– Заметили ли вы мой друг, как иногда изменяешь своим первым впечатлениям? Начинаешь дурно относиться, а потом мало по малу, невольно, незаметно антипатия исчезает и является мало по малу симпатия. С вами это случалось?
– Очень редко.
– Со мной также… Но когда я думаю, как я прежде судила о нем… потому что я дурно судила о нем… я себе вообразила… Он совсем не такой человек, каким я его представляла…
– О ком вы говорите, скажите пожалуйста?
– О Нашете.
– А! о Нашете… Это тем похвальнее с вашей стороны, что вы начали не со снисходительности… Вы правы, Нашет очень любезен… Я также изменил мнение насчет его…
– Вот видите!
– Он меня удивил своим терпением… Право, я видел, как он переносил от вас все ваши насмешки… Уверяю вас, что на его бы месте…
– Да, – продолжала Марта, следуя за своею мыслью, – это очень странно!.. И даже то, что мне не нравилось… этот взгляд, которого я боялась, эта голова, казавшаяся мне такой злой, его резкие манеры, этот дикий вид, словом, все, что отвращало меня… Поверите ли, Шарль, теперь я не обращаю на это никакого внимания? Точно я смотрю другими глазами… Я уверена теперь, что у него прекрасная натура.
– Милая моя, вы, как все женщины… Если вы создаете себе что-нибудь, то у вас нет середины… Ваше суждение переходит от одних крайностей к другим… Нашет просто на-просто…
– О! Вы до сих пор сердитесь на него за его статью.
Шарль пожал плечами.
– Женщины, женщины, – продолжала Марта, – вы можете говорить что угодно, они еще менее ошибаются в людях, чем вы: вы судите, мы угадываем… И так в этом молодом человеке я вижу горячку, гнев, нетерпение… одним словом, в нем есть страсть… которая заставляет меня любить его… Я убеждена, что этот человек способен на большое самопожертвование, на истинную любовь… А минутами, у него, такого грубого, является предупредительность, внимание, заботы, такое нежное обращение, такие…
– Ах, прошу вас, Марта, будьте осторожнее… вы мне рассказываете, что он влюблен в вас, и что вы почти влюблены в него.
– Ну что ж! Да, я говорю это вам, друг мой, – сказала Марта, принимая тон невинного ребенка.
– Вы согласитесь со мной, что для мужа, по меньшей мере, странно слышать такие сообщения.
Тогда Марта, с видом серьезно взволнованным, проникнутым голосом, медленно опираясь на каждый слог, произнесла:
– Простите, друг мой, предположим, что я вам ничего не говорила… Я доверилась… Я шла к вам… Я хотела сказать вам, как честная женщина честному человеку: я боюсь себя… я чувствую себя слабой… силы меня оставляют… пропасть близко… помогите мне… спасите меня. Вы моя помощь, моя опора… мой муж!
– Благодарю вас за эту мысль, – сказал холодно Шарль, – благодарю вас, Марта… Но я думаю, что вы слишком преувеличиваете: пропасть не так близка. Вы много времени проводите вместе… не знаю, право, зачем, если это не для того, чтобы жаловаться на меня и иметь эхо под рукою… Видите ли, я не угадываю, но я чувствую, я чувствую эти вещи… И никогда не ошибаюсь… Что касается любви, вы не любите ни тот, ни другой… Что он для вас? Для вас, говорю я, он, – пара ушей… и еще – игрушка для вашего каприза… и может быть, еще пугало ревности для меня… Что же касается его, что можете вы быть для него, например… я затрудняюсь… Но, несчастная! Что я сделал вам, что вы меня так мучаете? Какая страсть выискивать для меня терзания! Ах, довольно их у меня и без вас… Я болен, очень болен!.. Дайте мне отдых… Дайте мне умереть спокойно, по крайней мере!
– Вот вы все таковы мужья… а потом, когда…
При этом слове Шарль в первый раз отбросил обращение и тон светского человека.
– Ты комедиантка… всегда! Ты лжешь своим сердцем, как ты лжешь своим ртом! Ты говоришь о любви!.. Но ты рождена во лжи!.. Твои слова лгут, твой голос обманывает, твоя улыбка фальшива, твои слезы поддельны!.. В тебе все то, что лжет людям… и все, что лжет Богу!
– Сударь, в первый раз вы себе позволяете… и это будет в последний…
– Куда вы идете? – спросил Шарль, когда она надевала шляпу.
– К Нашету, – сказала Марта, как только можно драматичнее.
– Идите, моя милая.
LXXII
На другой день Шарль получил письмо от Марты. Она удалилась к своей матери и просила его через посыльного прислать ей мебель из её комнаты. Шарль ответил через посыльного, что она получит ее сегодня. Но час спустя Марта была у своего мужа. Она бросилась на шею Шарля, плакала, выразила такое раскаяние, что оно не давало места упрекам, размышлению, второму движению. Она говорила ему, что она сумасшедшая, что в ней сидит бес, что Шарль слишком был добр, перенося ее, что она никогда себе не простит, что она хочет любить его за все то зло, которое она ему сделала… И слезы, обещания, уверения прерывались поцелуями и улыбками, похожими на солнечные лучи во время дождя.
Марта в продолжение часа играла эту очаровательную комедию влюбленного раскаяния. Целый час она была великой актрисой; она была кошечкой, она была женщиной. Затем, когда она увидела, что воля Шарля таяла под её ласками, её сожалениями и унижением, слезы, которые обезоруживают, заменил смех, который заставляет забывать. Она смеялась – и там мило – над самой собой, над ними обоими, над их глупостью, особенно над своей; они создают себе муки, страданья, заставляют оплакивать свою любовь, когда у них есть все, чтобы быть счастливыми: молодость, свобода, будущее… Как это вышло? Кто ее толкал? Потому что это была её вина. Она была злая, капризная, взбалмошная; он был слишком добр, слишком слаб; он должен был бы наказать ее, как ребенка, которым она была… И поток этих очаровательных слов женщины, которая строит из себя маленькую девочку и просит, чтобы ее бранили, когда она непослушна, был неистощим. Их прекрасная жизнь возобновилась, их прошлое вернулось. Вся забота Марты состояла в том, чтобы понравиться Шарлю. Она прилагала все свои старания и средства, чтобы быть ему приятной. Кокетство её исчезло. Она только и смотрела, только и думала о нем. Она вспомнила прежние утренние праздники, эти пробуждения, которые своими сумасшедшими объятиями подымали Шарля. Ни на минуту ею не овладевало прежнее настроение. Она представляла его в карикатуре, так комично преувеличивая его, что Шарль говорил ей, обнимая ее:
– Наше счастье излечено теперь!
LXXIII
К концу двух недель, – так как это продолжалось две недели, – однажды вечером Марта задумалась.
– Что с тобой, моя маленькая Марта? – спросил ее Шарль.
– Со мной?.. Ничего.
– Ничего? Правда?.. Ровно ничего, Марта?
– Ничего, уверяю тебя, ничего.
– Я верю тебе… Что же это?
– А если я не хочу сказать.
– Маленькая Марта!..
– Ну хорошо, я хочу, но…
– Но?
– Ты видишь это не я… Я ни о чем не говорила… Это ты… Я скажу тебе завтра… обещаю тебе.
– Нет сейчас.
– А, ты упрям… Ну хорошо, с условием.
– Ого!
– Дай мне слово, что ты исполнишь то, что я попрошу.
– Но подумай, дорогая, ты можешь у меня попросить… я не знаю… прядь волос Сильвио Пеллико, например!.. Я не могу ручаться…
– Ты не хочешь, хорошо.
– Марта!
– Нет!
– Значит это серьезно?
– Не знаю.
– Однако, дорогая моя…
– Ну, хорошо, я хочу снова получить мою роль… вот.
– Моя маленькая Марта, подумай же… Мне бы тоже очень хотелось… Еще если бы ты сказала это раньше, но теперь… Будь рассудительна, дорогая моя, осталось всего несколько репетиций…
– Как хочешь.
– И потом, хочешь я скажу тебе правду?.. Я боюсь теперь, я сомневаюсь, да… Может быть, это усталость от репетиций? Но мне кажется, что я составил себе иллюзии насчет моей пьесы, и твоя роль… Я тебе сделаю другую, гораздо лучше, ты увидишь, обещаю тебе…
– Значит, нет?.. Хорошо. Одиль будет играть мою роль. Одиль будет иметь успех… Она займет мое положение в театре, она уничтожит меня, она…
– Полно, дитя мое, ты себе вообразила… Ты придаешь чересчур большую важность моей пьесе… Самое большее, что она составит, это – маленькое имя её автору.
– Ты не хочешь, не правда ли, ты не хочешь? – повторила Марта и вдруг, приняв сухой, иронический вид и острый, светлый, как лезвие ножа, взгляд, проговорила:
– Ну что ж, мой милый, ты может быть прав… Если бы я была на твоем месте, я бы сделала также… К тому же еще ты любишь меня, а я тебя не люблю…
– Марта, – сказал Шарль.
– Ах!.. Чего же ты хочешь? Я тебя никогда не любила… Я вышла замуж за тебя потому, что я была комедиантка… Я хотела настоящего мужа… а потом, выйдя замуж, я пожалела… Я бы могла выйти за более богатого, или… я не знаю… Словом я пожертвовала тебе своим будущим… Ты знаешь, тот день, когда ты вернулся из Ба-Медона? Я солгала тебе… помнишь, о займе у мадам Вудене… я рассказала тебе, что мне пришла идея представиться несчастной женщиной, что я хотела заинтересовать собой… Это было не то, это было…
– Это было?
Тон Шарля прервал фразу Марты, которая продолжала:
– Ты сказал, что это было для того, чтобы тебя лишить уважения… что я хотела обесчестить тебя… Ну чтоже! Может быть, было и это…
– Молчи!.. Ведь ты клялась… Ты, безумная, молчи!
– Подожди!.. Я также сказала, что ты заложил все мои бриллианты…
– Ты сказала это? – сказал Шарль, схватив ее за руки.
– Оставь меня… Оставь же!
И она пробовала освободиться от него, затем произнесла презрительным тоном:
– Не тебе бить женщину!
– Ты сказала, что я бил тебя?.. Ты могла это сказать, не так ли?
– Я сказала это.
Шарль упал на стул, почти без сознания, со слезами на глазах:
– Поплачь, поплачь немного! Это тебе принесет пользу… Я никогда еще не видела тебя плачущим… О! какое смешное лицо!..
Шарль вскочил, бросился в ней, потом в отчаянии внезапно ударился головой в стену, чтобы разбить себе череп…
Шарль поднялся и провел рукой по лбу.
– Что? Осекся? – сказала Марта.
Шарль схватил ее и понес… окно было открыто… Но он почувствовал мертвое тело в своих руках: Марта упала в обморок перед взглядом своего мужа. Она была спасена, Шарль бросил ее на землю и кинулся с лестницы.