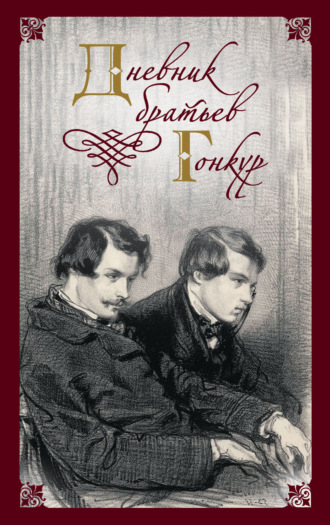
Эдмон Гонкур
Дневник братьев Гонкур
© «Захаров», 2022
Предисловие Эдмона Гонкура
Этот дневник – наша исповедь каждого вечера: исповедь двух жизней, нераздельных в наслаждении, труде и работе; двух мыслей-близнецов; двух умов, получающих от соприкосновения с людьми и с предметами впечатления столь равные, столь одинаковые, столь однородные, что на эту исповедь можно смотреть как на излияние одного и того же «я».
В этой автобиографии изо дня в день выступают на сцену люди, с которыми случай сближал нас на жизненном пути. Мы писали портреты этих мужчин и этих женщин в конкретные моменты дня и часа; возвращались к ним снова и снова, на протяжении всего нашего дневника; показывали, как менялись их характеры и взгляды. Мы не желали подражать тем сочинителям мемуаров, у которых исторические личности изображаются сразу и одним взмахом или пишутся красками, уже высохшими от давности времени. Одним словом, мы стремились показать окружающих нас людей в каждую минуту их жизни, свидетелями которой мы были.
Иногда даже спрашиваешь себя, не произошла ли перемена, замеченная нами у людей, когда-то нам близких и дорогих, от перемены в нас самих. Возможно. Мы не скрываем, что были страстными, нервными, болезненно впечатлительными и поэтому иногда несправедливыми. Но мы утверждаем одно: если мы иногда и выражаемся с несправедливостью предубеждения или в ослеплении неразумной антипатии, заведомо мы никогда не лгали о тех, о ком рассказывали.
Таким образом, мы всеми силами старались нарисовать портреты наших современников для потомства во всем их сходстве; нарисовать, стенографируя жаркий разговор, жесты, страстность, все те мелочи, в которых сказывается личность; улавливая то невыразимое нечто, что придает интенсивность жизни; отмечая, наконец, кое-что из той лихорадки, которая свойственна опьяняющему парижскому существованию.
И в этом труде, который прежде всего должен показать жизнь по горячим еще воспоминаниям; в труде, второпях набросанном на бумагу и не всегда пересмотренном; в этом труде мы всегда предпочитаем ту фразу и то выражение, которые наименее ослабляют, наименее «академизируют» живую суть наших ощущений и наших мыслей.
Дневник этот был начат 2 декабря 1851 года, в день выхода в свет первой нашей книги, совпавший с днем государственного переворота[1]. Вся рукопись, можно сказать, была написана моим братом, под нашу диктовку друг другу – таков наш прием работы над этими записями. После смерти моего брата, считая наш литературный труд оконченным, я решил напечатать дневник до последних строк, начертанных его рукой. Но тогда я мучился горьким желанием описать самому себе последние месяцы, дни и смерть бедного моего брата, а почти тотчас же трагические события осады и Коммуны завлекли меня в продолжение этого дневника. Он и теперь иногда становится поверенным моей мысли.
Эдмон Гонкур, 1872
1851
2 декабря. Что значит государственный переворот для людей, издающих в этот день первый свой роман? По какому-то ироническому совпадению это случилось именно с нами.
Утром, в то время как мы лениво мечтали об изданиях, об изданиях à la Дюма-отец, вдруг шумно хлопнула дверь и к нам вошел наш двоюродный брат Бламон, бывший гвардеец, обратившийся в консерватора, человек сердитый, с пробивающейся сединой, астматик.
– Черт побери, кончено! – пыхтел он.
– Что кончено?
– Как что?! Переворот!
– К черту! А наш роман, который должен был поступить в продажу сегодня!
– Ваш роман… ваш роман! Какое дело Франции до романов, молодцы вы мои!
И привычным жестом запахивая свой сюртук, будто подпоясываясь кушаком, он простился с нами и отправился с торжественной новостью с улицы Нотр-Дам-де-Лоретт в Сен-Жерменское предместье, ко всем знакомым, вероятно плохо еще выспавшимся в этот ранний час.
Не успели мы соскочить с постели, как оба уже очутились на улице, на нашей старой улице Сен-Жорж, где небольшое помещение редакции журнала «Ле Насьональ» уже было занято войском. На улице глаза наши тотчас устремляются к афишам, ибо – надо признаться в эгоизме – среди всех этих свежих листов, налепленных на стены и извещающих о новой труппе, новом репертуаре, новой программе и новом адресе директора, перешедшего из Елисейского дворца в Тюльильрийский, мы ищем свою афишу, извещающую Париж о выходе нового романа и знакомящую Францию и мир с именами двух новых писателей – Эдмона и Жюля Гонкуров.
Афиши не оказалось. И вот почему. Жердес, который, по странной случайности, печатал и журнал «Ревю де дё монд», и роман «В 18… году»; Жердес, напуганный мыслью, что одну главу книги, касающуюся политики, можно истолковать как намек на события дня; исполненный с самого начала недоверия к странному, непонятному, кабалистическому заглавию, якобы скрывающему тайное воспоминание о 18 брюмера; Жердес, никогда не отличавшийся геройством, – сжег нашу кипу афиш!..
15 декабря.
– Жюль! Жюль!.. Статья Жанена[2] в «Журналь де Деба»!
Эдмон кричит мне с постели хорошую и неожиданную весть. Да, вся передовая понедельника толкует про нас по поводу всего и про все по поводу нас. Целых двенадцать столбцов! Здесь имена наши перепутаны со всеми литературными явлениями дня; здесь Жанен бичует нас с иронией, прощает с уважением и серьезной критикой; рекомендует нашу молодость публике, с рукопожатием и доброжелательным извинением дерзости нашего возраста.
И мы не читаем, а глядим. Глаза очарованы этими некрасивыми буквами газеты, где имя ваше кажется чем-то ласкающим взгляд, как никогда не будет ласкать его самый чудный предмет искусства. Эта радость, переполняющая грудь, радость первого причастия литературой, радость, которая уже не повторится, как радость первой любви.
Весь этот день мы не ходим, а бегаем… Мы идем благодарить Жанена, который принимает нас просто, с веселой добродушной улыбкой, рассматривает нас, жмет нам руки, говоря: «Ах, черт возьми! такими-то я вас и воображал!» И мечты, и воздушные замки, и поползновение считать себя чуть не великими людьми, получившими оружие из рук критика «Де Деба»; и ожидание того, что на нас обрушится целая гора статей во всех журналах…
Рано утром звонок. Является молодой человек, бородатый, серьезный, которого мы еле узнаем. Мы с ним выросли, как растут часто дети родственников – съезжаясь раз в несколько лет в одном и том же доме на каникулах. Еще мальчиком он старался быть мужчиной. Он устроил так, что его выставили из коллежа. Когда мне было пятнадцать лет, мне случалось сидеть рядом с ним за обедом, и тогда он изумлял меня описаниями своих оргий. Он уже соприкасался с литературой и держал корректуру своему профессору Яноски. Двадцати лет он вообразил себя республиканцем, носил большую бороду и остроконечную шляпу оливкового цвета, говорил «моя партия», писал для журнала «Свободная мысль», составлял грозные статьи против инквизиции и ссужал деньги философу X. Вот каков был наш молодой родственник, Пьер-Шарль, граф де Вильдёй.
Предлогом для этого визита стала какая-то библиографическая книга, для которой он искал двух сотрудников. Мы болтаем, мало-помалу он бросает свою важность, премило осмеивает барабан, на котором бьет атаку своего честолюбия, открывает нам всю свою детскую наивность и сердечно протягивает нам руку. Мы были одиноки и стремились к будущему, он – тоже. К тому же родство, если оно не разъединяет людей, всегда немножко сближает их. И мы втроем пускаемся в погоню за успехом.
В один прекрасный вечер, в каком-то кафе близ театра «Жимназ», мы забавлялись, придумывая заглавия для журналов. «Молния! – восклицает Вильдёй, смеясь, и добавляет, продолжая смеяться: – Почему бы нам не издавать такой журнал?»
Он уходит от нас, отправляется по ростовщикам, придумывает заглавную картинку, на которой Академию поражает гром с именами Гюго, Мюссе и Жорж Санд на зигзагах молнии; покупает адресный календарь, клеит бандероли – и не успевает прогреметь последний выстрел 2 декабря, как выходит журнал «Молния». Насилу уцелела Академия: цензура запретила заглавную картинку.
21 декабря, воскресенье. Когда мы были у Жанена, он нам сказал: «Видите ли, успеха можно достигнуть, только пройдя через театр». После этого, дорóгой, нам приходит мысль написать для «Комеди Франсез» обозрение прошедшего года, в форме разговора у камина, в последний час истекающего года, между мужчиной и дамой из общества.
Вещица написана и названа «Ночь св. Сильвестра». Жанен дает нам письмо к госпоже Аллан. И вот мы на улице Могадор, в квартире актрисы, которая вывезла Мюссе из России и у которой мы видим византийскую икону Божьей Матери в золоченом окладе: она напоминает о долгом пребывании хозяйки в тех краях. Госпожа Аллан оканчивает свой туалет перед громадным трюмо в три створа, почти закрывающим ее в зеркальных ширмах. Великая артистка встречает нас приветливо, но говорит грубым, неровным голосом, незнакомым нам голосом, который на сцене умеет превращать в музыку.
Она назначает нам свидание на следующий день. Я взволнован. Во время чтения она поощряет меня чуть внятным одобрительным шепотом, за который я, кажется, готов целовать ее туфли. Одним словом, она берет роль, обещает выучить и сыграть ее 31 декабря, а нынче 21-е.
Два часа. Мы без памяти спускаемся с лестницы и бежим к Жанену. Но он пишет фельетон. Нет возможности его видеть. Он велит передать нам, что завтра мы увидим Гуссэ[3].
От него один прыжок – и мы в кабинете директора «Комеди Франсез», который нас вовсе не знает. «Господа, – говорит он нам, – мы в эту зиму не будем давать новых пьес. Это решено. Я ничего не могу сделать… – потом, несколько тронутый, однако, нашими грустными лицами, прибавляет: – Пусть Лирё вас прочтет и подаст свое мнение, я разрешу вашу пьесу, если удастся устроить экстренное чтение».
Только четыре часа. Мы в карету – и к Лирё[4].
«Но, господа, – говорит довольно невежливо женщина, которая отворяет нам дверь, – вы же должны знать, что господина Лирё нельзя беспокоить, он сидит за своей статьей». «Войдите, господа», – окликает нас добродушный голос.
Мы проникаем в берлогу писателя à la Бальзак, где пахнет плохими чернилами и теплом от неоправленной еще постели. Критик очень любезно обещает прочесть нас вечером и приготовить отчет к следующему дню.
От Лирё мы прямиком кидаемся к Бриндо[5], который должен подавать реплику госпоже Аллан. Бриндо еще не вернулся, но обещал быть дома в пять часов, и его мать просит нас подождать. Дом полон болтливых и милых девочек. Мы остаемся до шести… Бриндо нет…
Наконец мы решаемся отыскать его в театре, в половине восьмого.
– Говорите, говорите! – кричит он нам, одеваясь и бегая по своей уборной, голый, в белом пеньюаре. – Нет, правда, я не могу прослушать вашу пьесу! – и он галопом носится за гребнем или зубной щеткой.
– Но может быть позже, после представления?
– Нет, сегодня у меня после театра ужин с товарищами… Но вот что: в моей пьесе у меня есть свободных пятнадцать минут, и я прочту вас в это время. Подождите меня в зале.
Когда Бриндо сыграл свою роль, мы были тут, ожидая ответа. Да, он согласен. Из «Комеди Франсез» мы несем рукопись Лирё. В девять часов мы уже у госпожи Аллан, находим ее окруженною семейством и гимназистами и рассказываем про наши похождения.
23 декабря, вторник. Сидя на скамеечке у лестницы театра, трясясь и вздрагивая при малейшем шуме, мы слышим, как, закрывая за собою дверь, госпожа Аллан своим противным, нетеатральным голосом восклицает:
– Совсем не хорошо!
– Кончено! – говорим мы друг другу в нравственном и физическом изнеможении, так превосходно переданном Гаварни в рисунке молодого человека, опустившегося на стул тюремной камеры[6]…
1852
«Молния. Еженедельное обозрение Литературы, Театра и Искусства». 1-й выпуск 12 января.
С этого дня мы с Вильдёем играем в журнал. Редакция журнала помещается в нижнем этаже, на улице, которую только еще начинают строить, улице д'Омаль; у нас издатель, получающий пять франков за каждую подпись; у нас программа, угрожающая гибелью классицизму; у нас даровые объявления, обещаны также премии.
Мы проводим в редакции два-три часа в неделю и ждем – как только слышим непривычный звук шагов по нашей улице, где так мало прохожих, – подписчиков, публику, сотрудников. Никто не приходит. Нет даже рукописей – факт непостижимый! Нет даже поэтов – факт еще более невероятный!
Рыженькая Сабина, единственная посетительница нашей конторы, спросила нас однажды:
– А отчего вон тот господин смотрит так грустно?
Ей отвечали хором:
– Это наш кассир.
Мы храбро продолжаем наш журнал безо всего, но с апостольской верой и акционерскими иллюзиями. Вильдёй принужден продать свою коллекцию эдиктов французских королей, чтобы продлить журналу существование; потом он отыскивает ростовщика, из которого извлекает пять-шесть тысяч франков.
Издатели, по пяти франков за подпись, сменяют друг друга. Первый был Путьё[7], живописец, школьный товарищ Эдмона; второй – Каю, фантастическое существо, филолог-книгопродавец из Сорбонны и член академии города Авранша; третий – отставной военный, одержимый нервной судорогой, заставляющей его ежеминутно оглядываться на то место, где раньше сидели у него эполеты, и плевать себе за плечо.
В тех шести тысячах франков, которые Вильдёй получил якобы от ростовщика, фигурировала партия в двести бутылок шампанского. Так как вино начинало портиться, издателю «Молнии» приходит мысль рекламировать наш журнал с помощью бала и предложить этот бал с шампанским, в виде премии подписчикам. Приглашаются все знакомые «Молнии», бродяга Путьё, какой-то архитектор без дела, какой-то продавец картин, разные анонимные случайные люди, несколько женщин неопределенного положения… Тут Надар[8], рисовавший нам карикатуры, желая немного оживить этот семейный праздник, вдруг отворяет окна и ставни и зовет на бал всех с улицы, мужчин и дам.
1853
Январь. Редакция журнала была переведена на улицу Бержер. Достопримечательностью редакции был кабинет директора, украшенный драпировками черного бархата с серебром; там иногда, при погашенных свечах, случалась мертвецкая пьянка. Рядом с кабинетом – касса, касса с решеткой, настоящая касса, за которой сидел кассир Лебарбье, внук виньетиста XVIIІ века, разысканный нами, вместе с Путьё, среди подонков интеллигентного общества. Беглец из «Корсара» стряпал рядом, в маленькой гостиной. Это был маленький человечек, желтоволосый, с угрожающим взглядом выпученных глаз, один из немногих писателей, избежавших правительственных сетей 2 декабря[9].
Он был отец семейства, отец церкви, проповедовал добрые нравы, крестился иногда, как святой, попавший в шайку злодеев, и, несмотря на всё это, превосходил нас всех вольностью в определении вещей. В минуты досуга он редактировал для журнала мемуары госпожи Саки[10].
За редакционный стол садились каждый день: [Анри] Мюрже, смиренный, слезливый и находчивый; Орельен Шолль, с его моноклем, ввинченным в глаз, остроумными порывами, тщеславным ожиданием заработка с будущей недели по 50 тысяч франков в год – от романов непременно в двадцать пять томов; Банвиль, с его гладко выбритым лицом, фальцетом, тонкими парадоксами, юмористическими силуэтами людей; Карр, сопровождаемый всюду неразлучным Гато[11]. Был еще худощавый юноша [по имени Эггис] с длинными жирными волосами, метивший в академики; был [Анри] Делаж – олицетворенная вездесущность и воплощенная банальность – вязкий, липкий, клейкий, какая-то доброжелательная мокрота; был еще наш друг [Доран]-Форг, замерзший южанин, похожий на жареное мороженое из китайской кухни, с дипломатической миной приносивший нам артистически заостренные статьи; был Луи Эно[12], украшенный манжетами и грациозными изгибами салонного певца; заглядывал также Бовуар и носился по конторе как пена от шампанского, искрясь и переливаясь, обещал убить адвокатов своей жены[13] и бросался неопределенными приглашениями на какие-то химерические обеды. Геф избрал своим жилищем диван, на котором он проводил послеобеденные часы, дремля и просыпаясь лишь для того, чтобы перебивать добродетельные изречения отца Вене своими неприличными междометиями.
И среди всего этого народа Вильдёй приказывает, разглагольствует, ходит взад и вперед, пишет письма, придумывает нововведения, открывает каждую неделю новую систему объявлений или премий, новую комбинацию, человека или имя, долженствующее дать журналу не позже чем через две недели десять тысяч подписчиков.
Журнал живет: денег он не зарабатывает, но шумит. Он молод и независим, он получил в наследство кое-какие литературные убеждения 1830 года. В его текстах чувствуется рвение, огонь целого отряда стрелков, орудующих без дисциплины и без известного порядка, но полных презрения к подписке. Да, тут есть и огонь, и смелость, и неосторожность, есть, наконец, преданность известному идеалу: одним словом, оригинальность и слава журнала в том, что он – не спекуляция.
И несмотря на все, что будут писать и говорить, неопровержимо следующее: мы подвергались преследованию полиции нравов, мы действительно сидели между двух жандармов за цитату пяти стихов Таюро, напечатанных в «Очерках литературы» Сент-Бёва, увенчанных Академией. Я утверждаю, что никогда и нигде не было примера подобного преследования.
27 июня. Я отправляюсь к Рулану, узнать от него, можно ли нам издавать нашу «Лоретку», не опасаясь полиции[14]. И во время нашего разговора он повторяет мне то, что я уже слышал: министерство юстиции преследует не только нас, но и известные литературные идеи. «Оно не хочет, – говорит мне Рулан, – литературы, которая сама пьяна и других опьяняет… Так решено, – прибавляет он, – и не мне об этом судить…»
Да, в год 1853-й от Рождества Христова нас преследовали за выпады против классицизма как чуть ли не за попытку революции в литературе. Говорил же Латур-Дюмулен: «…Весьма огорчен положением этих господ, но вы понимаете, что судьи – народ придирчивый. Впрочем, я действительно думаю, что они избрали плохой литературный путь, и надеюсь таким образом оказать им услугу»[15].
«Лоретка» выходит в свет. Уже через неделю весь тираж распродан, и этот факт открывает нам истину, что продаваться могут и книги.
1854
Конец февраля. Всю зиму мы бешено трудимся над нашей «Историей общества времен Революции». Утром мы берем по четыреста, по пятьсот брошюр у Перро, бедного, нищего коллекционера; весь день разбираемся в документах, а ночью пишем нашу книгу. Ни женщин, ни светских развлечений, ни удовольствий, ни забав. Мы раздарили наши фраки и не заказали себе новых, чтобы отнять у себя возможность бывать где-либо. Постоянное напряжение, беспрерывный труд интеллекта. Чтобы иметь немного движения, чтобы не заболеть, мы позволяем себе лишь маленькую прогулку после обеда, в сумраке бульваров, где нас никто не отвлекает от нашей работы, от углубления в мысли.
26 сентября. Я в Жизоре. Как смеющаяся тень, встает передо мною все мое детство. Прекрасные, увядшие воспоминанья воскресают в голове и душе моей, как гербарий, вновь распускающийся гербарий, и каждый уголок дома и сада для меня как бы призыв, как бы находка, а вместе с тем как бы могила невозвратных радостей.
Мы тогда были детьми, мы только и хотели быть детьми; наши каникулы были полны, через край полны безмятежных забав и счастья, не прекращающегося ни на один день. Как часто мы соскакивали с этого крыльца, обвитого розами, чтобы одним прыжком очутиться на лужайке! Играли в лапту: одна партия под этим большим деревом, другая – под группой сирени. Какое безумное и радостное соревнование! Какие бешеные гонки! Сколько ушибов, вылеченных новыми ушибами! Сколько огня и стремительности! Помню, как я однажды три секунды сомневался: не кинуться ли мне в реку, на краю парка, чтобы не быть пойманным? Да и что за детский рай этот дом! Что за рай этот сад! Можно думать, что нарочно для детских игр устроен этот бывший монастырь, превращенный в буржуазную усадьбу, и этот сад, перерезанный и рощицами, и извилинами реки.
Но как многое уже изменилось и исчезло! Нет парома, на котором мы переправлялись через речку. Спит под водой тот маленький мостик, гибельный для перевозчиков, о который столько раз стукалась наша лодка! А узкий рукав, огибающий остров с тополями, узкий рукав теперь расширен. И старая яблоня с зелеными яблоками, хрустевшими когда-то на наших зубах, иссохла. Но все еще возвышается беседка у начала проволочного мостика, прыгающего под шагами, беседка, вся одетая, как плащом, диким виноградом, летом – зеленым, осенью – пурпурным.
При свидании с этими милыми местами я вспоминаю по очереди всех наших маленьких товарищей и маленьких барышень, бывших моих подруг: братьев Бокене, из которых старший бегал так скоро, но не знал искусства поворотов; Антонина, похожего на маленького льва; Базена, вечно жаловавшегося на неудачу и сердившегося, когда проигрывал; Эжена Пети, молочного брата Луи, который играл нам на флейте в общей спальне, куда нас запирали всех вместе. Не забываю я также кротчайшего Юпитера нашей шайки, конституционного монарха наших игр, гувернера нашего двоюродного брата старика Пурá, который был настолько умен, что учил нас прекрасно играть, и настолько благоразумен, что веселился с нами и не менее нас, а одержим был лишь одной слабостью: читал нам вслух свою трагедию «Кельты».
А барышни! Женни, в которой уже обозначалась хорошенькая рожица субретки; Берта, которая целовала подкладку моих фуражек и собирала в коробочку косточки от персиков, съеденных мною; Мари, обладательница самых чудных волос и прекраснейших глаз на свете!
Потом спектакль. Спектакль был высшим блаженством, наслаждением из наслаждений, высшей радостью для каждого из нас! Театр помещался в оранжерее – настоящий театр с занавесом, изображающим нашу усадьбу, с декорациями, галереей, решетчатой ложей! Театр, в котором очень недурно производили гром, стуча щипцами по железному листу. И знаете ли, наши румяна стоили 96 франков за баночку, румяна эти сохранились с прошлого века, и нас просили быть с ними поэкономнее! Что за чудные гусарские костюмы! Что за великолепный белый парик! И как я был загримирован, и какую красивую бороду из жженой бумаги сделал мне мосье Пурá, так что Эдмон не узнал меня, когда я говорил с ним.
Сколько инцидентов, соискательств, раздражений самолюбия во время репетициями под руководством Пурá, приводившего нам в назидание аксиомы великого Тальмá! И восхитительное ребячество, смешанное со всем этим, и забавный гнев Бланш, когда тенор Леонс скушал персик, который ей предстояло съесть на сцене!.. И как веселы бывали ужины маленькой труппы, за которыми нас кормили яблочными пирогами, и какой великий день был накануне представления, когда госпожа Пасси раскладывала все костюмы в большой комнате, где мы теперь спим!
Что сталось с театром, с актерами, актрисами? Сегодня я заглянул в зеленую дверку позади оранжереи, бывший «вход для артистов». Стоит еще большой курятник, сделанный из старых жалюзи, где одевались маленькие актрисы, но в нем теперь одни пустые ящики. На чердаке валяются кипы декораций, из которых выползают лоскуты занавесей и золотой бахромы. От галерей, лож, скамеек осталось только шесть столбов, обвитых, бывало, зеленью в дни торжественных представлений. А на месте того, что сожгли, – станок столяра и растения, расставленные на полках.
Берта умерла. Другие маленькие барышни сделались женщинами, женами, матерями семейств. Леонс – лесничий, Базен – учитель географии, имеет орден от папы, Антонина, может быть, уже убили под Севастополем, отец Пурá все еще носит в портфеле свою трагедию «Кельты», старик Жине открыл красильное заведение, Луи – магистр прав, а я – никто.




