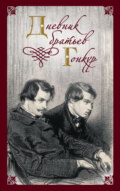Эдмон Гонкур
Шарль Демайи
– Что ж, спать поедем? – спросил Нашет.
– Пойдемте на бал в оперу; вот и предлог поужинать.
XIV
Демальи, Кутюра и Нашет вошли втроем в фойе. Нашет очень скоро исчез с замаскированной женщиной.
– Как скучно! – проговорил Кутюра, – я знаю всех этих дам как… свой карман!..
– Чего тебе надо, кошечка? – сказал он домино, подошедшему к нему, – интриговать меня? Ну что же, поинтригуй меня, маленькая Луиза… Видишь ли, Демальи, ничего не может быть глупее, как узнавать всех на балу оперы… Я предпочел бы лучше не знать никого. Нет, уверяю тебя, это надоедает называть всякую маску её уменьшительным именем: прийти сюда, чтобы наизусть повторить календарь, согласись… какое это положение!.. здравствуй, здравствуй!..
И Кутюра кивал направо и налево.
– Стой! Женщина, которой я не знаю!.. Ты увидишь мое счастье! Пари держу, я не знаю этой женщины!.. – И Кутюра пробрался в середину давки, чтобы дойти до белокурой женщины, около которой сидел молодой человек.
Кутюра заглянул ей под маску, наклонился, и прошептал на ухо.
– Эрманс!
Домино вздрогнуло.
– Я так и знал!.. Скажи пожалуйста, ты воспитываешь их теперь очень тщательно? Что такое этот маленький господин?
– Миллионы, мой милый.
– Откуда?
– От старой тетки.
– Чем он занимается?
– Любит меня.
– Значит, ему нельзя представить приятелей?
– Невозможно… Он ревнив как старик… И даже ты будешь очень мил, если уйдешь отсюда, потому, если б он узнал… Он считает меня за порядочную женщину, мой милый.
– Извини, прекрасная маска!
И Кутюра поклонился с видом уважения и как бы обманутый в надеждах.
– А, что я тебе говорил? – сказал он Демальи, – представь, эта женщина… Словом сказать, мы очутились с тремя су… пятого января… Мы пошли слушать проповедь в церковь, где были рогожи!..
– Кутюра! Кутюра! Мне надо сказать тебе кое-что! На десять минут!..
И женщина, взяв его под руку, увлекла в ложу.
Демальи, оставшись один, спустился в залу, где нашел Жиру, согнувшегося на скамейке с вытаращенными глазами, походившего в своем костюме баденского крестьянина на картонную игрушку, на которую надели пару бретелек.
– Демальи, мой милый, я совсем готов.
– Как всегда!
– Вот как вы, в статском!.. А у меня, мои штаны!.. А? Я околеваю в них… Мне хочется колотить гусей большой палкой, как на нашем празднике… Но это совсем не то… У меня есть идея… Я пришел, чтобы посмотреть на эту суету сверху!.. Право. Но я не могу… Никогда я не дойду туда… И зачем они делают лестницы? Это нарочно: они не хотят, чтобы подымались, видите ли. Пожарные угощаются там апельсинным салатом. Поэтому они и не хотят… Взойдемте, хотите? Ах! Что такое мой костюм? Баденский!.. Шварцвальд!.. едете вы туда летом? Нас будет пятеро… Пешком!.. Отлично… превосходно! Взойдем, не правда ли?
Шарль взял Жиру под руку и не без труда потащил его по лестнице.
– Милый мой, это глупо, у меня качка в коленях, – говорил Жиру, навалившись на Шарля и хватая его за руку на каждом шагу. Мне теперь очень неприятно: я не знаю, что я измеряю… Пока я сижу, еще ничего, но… Дайте вздохнуть минутку… Вы знаете Элизу? Мы с ней поссорились… Я говорю это вам, Демальи, потому что я знаю!.. Сегодня вечером, мой милый, еду я на извозчике подышать воздухом, я люблю воздух… извозчик заговорил со мной… Я ему сказал: не говорите со мной! А он говорил… Спрашивается, какой это мне вид придавало… Я ведь не ради себя, понимаете, но ради общества… Наконец, он начинает бить хлыстом мою любовницу, которая была в карете… Это ничего, этот извозчик наглец… Я, во-первых, женщины… О! женщины! Но я сказал ему, этому кучеру, что есть два жандарма, жандарм физический и жандарм моральный, который охраняет нас внутри, без лошади, без фуражки, без сабли – это совесть!.. Да!.. А жандарм большой дороги. Да! Уф!
Наконец Шарль усадил Жиру на скамейку четвертой ложи. Жиру протянулся на край ложи, положил оба локтя на бархатные перила и подпер подбородок обеими руками. Шарль облокотился, и оба несколько времени смотрели, ничего не говоря, на бал и на зало.
Над ними на плафоне в облаках выделялись там и сям то кусок пурпура, то розовое тело, то складка плаща, то профиль богини. Под ними море люстр, ослепительный покров из белых огней; золотые гирлянды балконов, сверху до низу ложи, на красном фоне которых выделялись белые галстуки, лица, покрасневшие от жары, белые треугольники мужских сорочек, черные шляпы, черные одежды; тени черных женщин, белые перчатки, опускавшие или подымавшие, болтая, кружева их масок; внизу, по обеим сторонам залы, по двум красным лестницам, между стиснутыми полицейскими, толпы масок, толпы женщин, топчущихся на ступеньках и собирающихся танцевать; внизу – зала, поглощающая все: белые, красные, розовые, зеленые цвета, перья, каски, плечи, юбки, галуны, кисточки, шляпы, фальшивые бриллианты… Море молний, сверкающих тут и там. Рукава в воздухе, вертящиеся юбки, путающиеся и сталкивающиеся пары, прерванный галоп, развевающиеся ленты и перья… И музыка, ожесточенные удары литавр, грохот барабанов, гром оркестра; гул в зале; ура, виваты, припевы, хоры, звуки трещоток, удары танцоров по их ляжкам, и пол, скрипящий под ногами. Радуга и шабаш, все подымалось им в глаза и в уши в тумане лучей, в шуршанье, в теплом облаке, в буром паре вместе с пылью и смутным гамом ночной вакханалии.
– Как чудно, – проговорил вдруг Жиру, которого это головокружительное зрелище отрезвило. – Как чудно! Передать это!.. Этот кавардак, это верченье! Чёрт возьми! Молодец будет господин, который изобразит этот кипящий котел, этот свет, эту сутолоку в дьявольском рисунке!.. Понимаете, Демальи… чтобы все носилось в вихре. Написать музыку, канкан, все! Или вот хоть эту желтую юбку… Ах!
И Жиру сделал большим пальцем жест человека, который кладет тона на полотно.
– Подумать, сколько прекрасных современных вещей умрут… умрут и ни один человек, ни одна душа не спасет их! Ах! Сколько смелой живописи, скульптуры на бульварах, в Елисейских полях, на Бирже, в Мабиль!.. А между тем этот ничтожный журналишко!.. И когда я подумаю, что я настолько подл… Стойте! Демальи, вы говорите себе: зачем Жиру пьет? Если не вы говорите, то другие за вас… Ну хорошо! Вот зачем я пью… Потому что я чувствую свое бессилие!.. Я вижу вещи… и не могу их осилить… Все равно что вот сейчас на лестнице… Я бы желал хотеть и… не могу… вот я и пью!.. Да, это чудесно!..
Две минуты спустя, Жиру спал на скамейке.
Шарль оставил его спать, а сам спустился. Кутюра снова взял его под руку, и они прогуливались в коридоре первых лож, когда Нашет подошел в ним в дурном расположении духа.
– Нашет, на кого ты наскочил? – спросил его Кутюра, – на честную женщину?
– Очень честную! – сказал Нашет! – это Резен.
– Ха, ха, – засмеялся Кутюра. – Я уверен, что Демал и не знает.
– Я ничего не знаю, – сказал Демальи. – Кто такая Резен?..
– Жидовка, мой милый, – проговорил Нашет, – которая посвятила своего ребенка Божьей Матери, и которая любит его!.. Она готова публично исповедоваться, чтобы доставить ему удовольствие, что было бы замечательное самоотвержение! Представь себе – она торговка мебели – но прехитрая!.. У нее явилась блестящая идея! Положим, идешь к ней ты или я, но большею частью это не ты и не я, а какая-нибудь женщина. Ах, как мило у вас! Как все устроено! Да, говорит Резен, это мне стоило порядочно… Но у меня другая мебель в виду, и если эта вам подходит… Золотая коммерция!.. Я из-за этого интриговал ее, мой милый, из-за обстановки, из-за её последней обстановки… Я хотел переезжать, хотел иметь обстановку, на которую мог бы посмотреть, не косясь любой член совета адвокатов… И знаешь, то со иной случилось? Я попал на первую обстановку, которую Резен хочет оставить за собой… Это ясно, она не доверяет более моей подписи… Пойдемте ужинать… Бал самый гнусный.
XV
Придя на бульвар Монмартр, к двери, украшенной двумя гипсовыми амурами, сидящими по бокам маленького маяка, где было написано: «Нашет», три друга миновали устричницу, открывавшую со злобой остэндские и мареннские устрицы. Гарсоны, как снежные лавины, скатывались по лестнице. Перекрестно раздавались резкие крики: счет номера 4, счет номера 9! А в недрах стены, точно бык, мычал в подземную кухню вечный заказ стоустого чудовища.
– Минутку, – сказал Кутюра, – я сейчас вас представлю.
И он пошел, работая локтями, в большую залу ресторана.
Все столы были заняты. Жара от газа, дым сигар, запах соусов, звон стаканов, хлопанье пробок от шампанского, гул смеха, начатые песни, охрипшие голоса, непринужденные позы, непристойные жесты, расстегнутые корсеты, разгоревшиеся глаза, слипающиеся веки, покрасневшие и измученные масками лица, тосты, измятые костюмы и сорочки, Пьеро с осыпавшейся мукой на лице, медведи наполовину одетые человеком, альпийские пастушки в черных панталонах, господин, клюнувший носом в стакан, соло пасторали, исполненное на скатерти аудитором государственного совета, татуированный дикарь, рассказывающий гарсону историю министерства Мартиньяка – все говорило о позднем часе: было пять часов утра. Когда они входили, в глубине залы сильно шумели: три высоких чудака, костюмированных в кавалерийские султаны, просили, пуская в ход руки, замаскированное домино снять маску.
– Не снимайте маски с этой дамы! – кричал какой-то индивидуум в коричневой рясе, сидящий за маленьким столиком против камина, – может быть это чья-нибудь жена!
– Да это голос… – сказал Кутюра.
– Молланде!
Они подошли к столу: это и был Молланде, замаскированный монахом.
– Вот как!
– Он сам.
– Ты?
– Я. Садитесь.
– Ты с бала?
– Никогда!
– А твой монашеский костюм, откуда ты его взял?
– В гардеробе старых французских учреждений… Гарсон! Женщин!.. Господин, о, господин! И вы туда! О чем вы думаете?.. О шляпе Генриха IV?.. Как? Бьют женщин?.. Подойди сюда, дикарь! Подумай немного, если бы вновь нашли Менандра, мы бы знали, что такое посредственная комедия!.. Ты скажешь: у нас есть Скриб… Я тебя знаю, ты мне скажешь это… Ни слова более!.. Господа! Господа! Что станется с старым французским весельем! Мы срываем последние виноградные ветки… Господа, когда в стране есть учреждение, именуемое академией наук нравственных и политических… Пью за здоровье наших незаконных детей!.. Сударыня, сударыня! Дайте мне ваш букет: мне хочется поцеловать искусственную розу… Эй!.. Соседка!.. Кто говорит, что я смешон? Дурак! Это мое ремесло!.. Представьте себе, Фанни… Читали вы волшебные сказки, милочка? Жила-была однажды газета, называвшаяся «Национальное собрание»… Господин Гизо писал в нем под псевдонимом Матареля де-Фьенн: его никогда не узнавали… Ну, хорошо! В конторе редакции находилась синоптическая таблица… Синоптическая, Жюли!.. Она могла бы быть и не синоптической… но она была синоптической… там были слова, вычеркнутые из фельетона… Господа, видите вы два алебастровые полушария у мадемуазель: мне было запрещено называть их уменьшительными именами!.. Зефирин! Вы не испорчены моралью Шамфора, это мне как раз кстати! Вы живете в улице Папильон… и вы починяете кашемировые шали… Вы ангел!.. Гарсон! Гарсон!.. Как же глуп этот гарсон! Он родился на развалинах Бастилии!
Тут Молланде перевел дух и залпом выпил два больших стакана бургонского. Он имел полный успех: мужчины хохотали, дамы находили его смешным. Демальи, сидя около него, подливал ему. Кутюра ходил от одного стола к другому, заигрывая с старыми знакомками, нашептывая им на ухо любезности и раскланиваясь с их любовниками.
– Твой брат чистил мне сапоги при входе на бал… Ты ничего не сделала для воспитания этого ребенка: посмотри мои сапоги! – говорил Нашет одинокому домино, около которого он уселся и которое поворачивало к нему спину, кусая со злости вышитый платок.
– Ах, господа, – проговорил Молланде, вставая, – что такое жизнь, vita по латыни. Хотите я вам продекламирую из Байрона? Жизнь есть длинная цепь страданий… долина слез! Теряют зонтики… своих родителей… доверие поставщиков… У меня был друг, делавший мне новые сапоги, я похоронил его, господа… Находишь у себя дырявые сапоги… Ты холостой; потом ты женишься на женщине, не обладающей возвышенностью твоих чувств… Рождаются дети… Потом умираешь… De-profiindis!.
И Молланде щелкнул по пустой бутылке…
На бульваре:
– Идем? – послышался голос.
– Куда?
– В рынок, есть луковый суп.
Никто не ответил на предложение. Каждый пошел к себе, по пустынным улицам, шаги звонко раздавались по мостовой заснувшего города, этого Парижа, таинственно умершего, неподвижного, немого, освещенного луной, как Помпея, охраняемого городской стражей.
XVI
Демальи, вернувшись домой, уселся к горящему камину, зажег сигару, взял со стола альбом с застежкой, написал в нем четыре или пять строк и принялся курить, перелистывая рукопись, на первой странице которой было написано: «Воспоминания моей мертвой жизни».
Одна из особенностей цивилизации – извращать первобытную природу человека и придавать физическим ощущениям значение нравственных чувств, приписывая душе тонкости, которые в первобытном состоянии приписываются слуху, обонянию и другим телесным чувствам. Шарль Демальи служил этому наглядным примером. Обладая нежной и болезненной натурой, он происходил из семьи, соединившей в себе болезненную чуткость двух рас, которых он был выразителем и последним отпрыском. Шарль обладал в высшей степени впечатлительностью и душевным тактом. В нем таилось острое, почти удручающее понимание всех жизненных событий. Везде, где он бывал, его как бы охватывала атмосфера чувств, которые он встречал. Он чувствовал сцену или разрыв так, где видел улыбки на всех устах. Он читал мысли своей любовницы, когда она молчала; видел неприязненность своих друзей; предчувствовал хорошие или дурные новости при входе человека, принесшего их. Это понимание было до такой степени развито в нем, что всегда предшествовало впечатлениям и поражало его раньше, чем совершалось наблюдение. Взгляд, звук голоса, жест – говорили и открывали ему то, что скрывалось от всего мира; он завидовал от всего сердца тем счастливцам, которые проходят мимо жизни, дружбы, любви, общества, мужчин и женщин, не замечая ничего, что им показывают, и которые пребывают всю свою жизнь в иллюзии, которой они никогда не разбивают.
То, что действует так слабо на большинство, именно предметы, имели на Шарля громадное влияние. Они говорили и поражали его как одушевленные предметы. Они, казалось ему, имели свою физиономию, свою речь, свои таинственные особенности, порождавшие симпатии или антипатии. Эти невидимые атомы, эта душа, которая улетучивается от людей, имела отклик в душе Шарля. Обстановка была ему другом или врагом.
Плохой стакан отбивал у него охоту к хорошему вину. Оттенок, форма, цвет бумаги, мебельная материя действовали на него приятно или неприятно, и изменяли его расположение духа сообразно его многочисленным впечатлениям. Точно также и удовольствия не долго длились для него: Шарль требовал от них слишком большой цельности, слишком совершенного согласия людей и вещей. Но очарование быстро рассеивалось. Достаточно было одной фальшивой ноты в чувстве или в опере, скучной физиономии или просто несимпатичного гарсона в кафе, чтобы вылечить его от каприза, от восхищения, или лишить аппетита.
Эта нервная чувствительность, эта непрерывная наклонность к впечатлениям, неприятным большей частью, и оскорбляющая самые нежные струны его души, сделали из Шарля меланхолика. Не то, чтобы Шарль был меланхоличен, как книга с громкими фразами; он был меланхоличен как умный человек, знающий жизнь. Он не казался печальным. Его смех выражался иронией, но такой тонкой и скрытой, что часто он был ироничен только про себя и никто не замечал его внутреннего смеха.
Шарль имел только одну любовь, одну веру, одно призвание: литературу. Литература была его жизнью; она была его сердцем. Он предался ей совершенно, отдав ей всю свою страсть, весь жар своей пылкой натуры, под личиной холодности и равнодушие. В остальном Шарль был человек как все люди. Он не избегнул себялюбия и эгоизма писателя, быстрых разочарований человека воображения, непостоянства вкусов и увлечений, его резкостей и переменчивости. Шарль был слабохарактерен. В нем не хватало энергии, всегда готовой на дело; ему надо было подготовиться в важному шагу, возбудить себя для сильного решения, увлечься, подстрекнуть себя. Создает ли человека физическое бытие? А наши нравственные и умственные качества не составляют ли просто на-просто развитие соответственного органа, или его болезненное состояние? Шарль всем своим характером, слабостями и страстями, был может, был обязан своему темпераменту, своему телу, постоянно страдающему. Быть может, в этом надо было искать и секрет его таланта, этого нервного таланта, редкого и изящного в своих наблюдениях, всегда артистичного, но неровного, полного скачков и неспособного достигнуть спокойствия, плавности, неизменной свежести произведений действительно великих и прекрасных.
Но к чему описывать Шарля? Он исповедовался сам себе в этом дневнике своей души, где рука его, глаза и мысли прогуливаются наудачу, остановившись на следующих выдержках:
XVII
…Я снова погрузился в скуку, спустившись с высоты наслаждений. Я дурно устроен, скоро устаю. Я ухожу с оргии с разбитой душой, в изнеможении, с отвращением к желанию, с беспредельной и неопределенной грустью. Мое тело и ум на другой день совершенно пьянеют. После увлечения, страшное пресыщение, нравственное расстройство, пустота и туман в голове…
7 февраля.
Продал сегодня одному издателю мою первую книгу, одни только издержки. – Проходил по Тюльерийскому саду, счастливый, легкий как перышко, вдыхая воздух полной грудью, с улыбкой на устах; шел дождь, – никого не было в саду, кроме детей, делавших каравайчики из грязи, глядевших и смеявшихся на меня, ничего не понимая.
Май.
Мы были позади церкви св. Магдалины.
– Могу я вам писать?
– Мой муж распечатывает все мои письма.
Она останавливается, а я облокачиваюсь на выступ какой-то лавки.
– Это невозможно!
Молчание; она проводит рукой по глазам.
– … Нет!..
– Невозможно? Но, разве женщина…
Она взволнована:
– Постойте, лучше нам больше не видеться.
– Отчего же не скрасить вашу жизнь романом?
– Романом!.. романом (вздыхая) о, это серьезно для меня! (слегка улыбаясь), мой муж запрещает мне их читать…
Она глядит на меня и вдруг произносит:
– Расстанемся!
– Хорошо, сударыня, но с одним условием: я последую за вами.
Она переходит улицу, в это время из церкви выходит свадебная процессия.
– Посмотрите невесту… хорошенькая она?
– Вы не оставите меня так, я вас увижу еще? – говорю я взволнованным голосом.
– Зачем?.. Для вас это игра, для меня это слишком серьезно… Я вызвала… я возбудила в вас маленькое чувство… я была неосторожна… я говорю бессвязно… первое, что мне придет в голову… Идите, для вас все это пустяки и не оставит последствий… Лучше, чтобы между нами ничего не было.
Я протестую самым серьезным образом.
– О, я счастлива видеть вас так близко к себе, потому что могу только видеть вас издали, – говорит она упавшим голосом; потом вдруг резко: – Кланяйтесь и уходите скорее!.. Мой муж идет!
Декабрь 185…
От нечего делать захожу я в маленький театр. Содержатель его, Жакмен, бывший воротила в маленькой газете «Крокодил». Девицы на авансцене и в открытых ложах закутанные, наполовину показываются мужчинам в оркестре и в партере, смеясь и грозя им пальчиками. Женщины, открывающие ложи, просят у сидящих в первых рядах мужчин «местечка для дам». Девица чувствует себя тут точно в собственном салоне. Она принимает жеманные позы, как у себя дома или в своей коляске. На балконе и авансцене – ряды мужчин с тусклыми лицами, которые делаются белыми от освещения; пробор на голове, женская заботливость в прическе; откинувшись как женщины, они обмахиваются программами, сложенными веером, каждую минуту подымают руки, украшенные кольцами, чтобы поправить зализанные височки, постукивают по губам набалдашниками своих тросточек или курят сигары.
Ноябрь.
Совсем не спавши эту ночь, я встаю точно человек, проведший ночь в игре. Надежды уходят и вновь приходят ко мне. Положим, пьеса, поставленная мною в Одеоне, только в одном акте, все ж таки это средство добраться до публики. У меня не хватает сил дожидаться ответа у себя, и я спасаюсь за город, глупо разглядывая в окно вагона проносящиеся мимо деревья и дома.
Из Отейля я иду через Севрский мост. У меня потребность ходить. Окруженный синеватыми испарениями, между деревьями, позолоченными осенью, я иду наудачу по левому берегу, по дороге к Бельвю. Я встречаю молодую девушку, теперь уже мать, ведущую за руку белокурую маленькую девочку, в продолжение целой недели у меня было совершенно серьезное намерение жениться на ней. О, какое старое прошлое напоминает она мне! Сколько лет не видеться друг с другом! Узнаешь о свадьбах; о похоронах и тебя тихо упрекают в том, что забыл своих старых друзей…
По дороге я задеваю человека, выходящего из лечебницы доктора Флери: это старый бог драмы, Фредержк Леметр… И во всем этом, в этой дороге, во встречах, в моей мертвой жизни, возвращающейся ко мне, во всем, что случай восстановляет предо мною, в этой тени моей молодости, как бы обещающей мне новую жизнь, я слышу и вижу предзнаменование, то хорошее, то дурное, полный мыслей, сосредоточивающихся на одной постоянной мысли, придающей всему мое лихорадочное чувство, и принимающей арию шарманки за увертюру моей пьесы…
185…
Женщина всегда защищается своею слабостью. Это – по поводу всего и ничего, антагонизм желаний, возмущение мелких прихотей, война маленьких решений, не прекращающаяся и как бы созданная для удовольствия их. Эта страсть к борьбе есть в их глазах доказательство их существования. Каприз есть способ упражнения их воли. Женщине в этой глухой, тупой и вместе с тем раздражающей борьбе остается покинутое владычество, победа над усталостью, и в тоже время некоторое презрение мужчины, который не любит и не умеет тратить свои силы на мелочи.
Смотрел картину Грансэ в Буживале. Эта маленькая страна – мастерская, отечество пейзажа. Каждый кусочек земли, каждое деревцо напоминают картину. Точно глядишь на палитру почти всех наших пейзажистов. Есть такие уголки воды, зелени и деревьев, что так и видишь не стершийся номер выставки на голубом небе. В Буживале полевая стража совсем не стережет имений: она стережет «виды», «эффекты», она мешает красть «закаты солнца».
Грансэ, старейшина Буживаля, вместе с Пеллетаном, который был его пророком. Буживаль имеет уже свою историю и свои реликвии: дом Лире и воскресные обеды под открытым небом, дом Одилона Барро, и беседка, предназначенная для либеральных разговоров; стены и люди, говорящие вам об идеях и о женщинах, не существующих более; две бинионии на алжирском острове, сплетающиеся вверху и составляющие первую картину француза; а там, на высоте, Жоншера, также красиво расположенная, как и замок Люсьен, и глядящая на мастерские Буживаля.
185…
Пощупал пульс литературы маленьких газет. Нет более школ, нет более партий, ни идей, ни знамени. Оскорбления, не мотивируемые даже гневом, нападки без доказательств! Сумма всех оскорблений, расточавшихся вчера во всей стране на все административные царствующие и правящие головы, выливается на другой день в статьях. Ничего, кроме закулисных скандалов и парикмахерских острот, плоских шуток. Ни новых людей, ни молодого пера, ни даже молодой горечи… Нет более публики: есть только известная кучка людей, читающая для пищеварения, как пьют стакан воды после чашки шоколаду, людей, требующих текучей и ясной прозы, как процеженная вода из Сены; людей, любящих читать в дороге, в карете, в вагоне, рассказы, которых собрано много в одной книге; людей, читающих не книгу, а на двадцать су.
Я размышляю, сколько стоило мне одно из моих пяти чувств – зрение. Сколько в моей жизни покупал я произведений искусства и наслаждался ими! Нечувствительный к предметам природы, я более удивляюсь картине, чем пейзажу и человеку, чем Богу.
Июль.
Лоретка становится хороша только к сорока годам. Один из моих друзей, собиравшийся сделать обстановку из розового дерева женщине из общества, взял меня под руку в Шато де-Флер и, бросая презрительный взгляд на падших созданий, произнес:
– Светские женщины также красивы как эти… и ничего не стоят, – на первый раз!.. Моя любовница рассказала мне, что у ней было воспаление легких и ей не на что было купить пиявок, предписанных ей доктором… Я чуть было не взволновался более, чем этого требовала вежливость, когда подумал о страданиях, которым есть на что скупить пиявок со всего мира… Все дело в том, чтобы знать, страдает ли человек, умирая от честолюбия или от любви, столько же, чем когда он умирает с голода? Что касается меня, я этому верю.
Вчера я встретил у бывшего министра одного из своих старых школьных товарищей, готовящегося быть государственным человеком. Он весь вечер присутствовал при разговорах шестидесятилетних стариков, не раскрывая рта и серьезный как доктринер, который пьет. – Человек будущего! – сказал себе старый министр, – он слушает с такой глубиной!
Я всего больше люблю неофициальных гениев. Кавой путь от дикаря к Рембрандту и Гофману! Самый удивительный разврат, если хотите.
Сегодня я видел примерную любовницу, любовницу молодого немца, итальянку, настолько привязанную к своему чахоточному любовнику, что она не пускает его выходить по вечерам, запирается с ним, болтает, куря папироски, читает, полулежа на кресле, выставляя кончик белой юбки и красные кисточки своих туфлей. Бывают у них двое или трое немцев со своими трубками, с двумя-тремя гегелевскими идеями и с большим презрением к французской политике, которую они называют «сантиментальной политикой». Хозяйка квартиры и днем и вечером очень редко выходит. Она сохранила в Париже привычки итальянской женщины, и чтобы заняться, она выбирает из «Constitutionnel» недлинный роман и переводит его только для себя, на чистейший тосканский язык. Обстановка восхитительная. Но через-чур много портретов друзей и родственников. Это походит на храм Дружбы… Из всех этих портретов единственный интересен с моральной точки зрения: это портрет любовницы, сделанный матерью любовника.
Январь.
Париж – это надменное выметание фортун, это – смерть для молодых людей!.. И так скоро, без всяких приключений, без всякого шума! Ах, бульвар так быстро поедает этих гарцующих прожигателей жизни. Один год, два – самое большое и… прогорели! Встречаю как-то одного из старых друзей, уплатившего вовремя свои долги, пустившего корни в провинции, и проводящего день за днем в деревне.
– А как поживает такой-то? – спрашиваю я.
– У него судебный совет… Он занимал под четыреста процентов у господ, встречавшихся с ним на скачках… Ах сколько он самым глупым образом потратил денег!.. А другие-то!
– А тот, толстяк, которого я часто видал у тебя?
– Женился, мой милый… случайность!
– А другой, такой веселый?
– Удалился в Дордонь, к чёрту, на свою оставшуюся ферму вместе со своей любовницей… Играет в пикет со священником.
– А Шоза ты знаешь?
– Ах, Шоз, он кончил особенно: он себе прострелил голову!.. Один выстрел – и конец! Это вследствие различных катастроф, нищеты и разорения.
Пошел я в «Monde des arts» отдать туда статью. Там нахожу Массона, человека, которого я узнал только по книгам, и которого уже любил, восхищаясь им. Полное, несколько тяжеловатое лицо, на котором заснула божественность; в глазах замечательный ум, как бы дремлющий в ленивом и спокойном взгляде; на всем лице усталость и сила Титана на покое.
Большой, черный господин восклицает стоя около него:
– Да, такова моя система работы: я ложусь в восемь часов, встаю в три, выпиваю две чашки черного кофе и работаю до одиннадцати…
Масон, как бы проснувшись, возразил:
– О, я бы сошел с ума от такой жизни! Утром меня будит сон, будто я голоден. Мне снится красная говядина, огромные столы с роскошными яствами… Говядина подымает меня. Позавтракав, я курю. Я встаю в половине восьмого и к одиннадцати часам я готов. Тогда я притаскиваю кресло, кладу бумагу на стол, перья, чернила, орудия пытки; мне надоедает это! Мне всегда надоедало писать и к тому же это так бесполезно!.. Таким образом я важно пишу, как общественный писатель… Я не тороплюсь – он видел, как я пишу, но все же я подвигаюсь, потому что не ищу лучшего. Статья хороша, написанная с одного раза, это как ребенок: или он есть, или его нет. Я никогда не думаю, о чем я напишу. Я беру перо и пишу. Я литератор и должен знать свое ремесло. Перед своей бумагой я как клоун на канате… Кроме того, у меня слог совершенно в порядке: я бросаю фразы, как кошек… Я уверен, что они встанут на лапы. Это очень просто, надо только иметь хороший слог. Я готов научить писать кого угодно: я бы мог открыть курс фельетонов в двадцать пять уроков! Да вот, посмотрите, мою рукопись: ни одной помарки… А! Флориссак; что же ты ничего не принес?
– Ах, мой милый, – отвечает Флориссак, – это смешно, у меня нет никакого таланта… и я узнаю это потому, что меня забавляют теперь только глупые вещи… Это глупо, я знаю; что ж, ничего, я смеюсь над этим…
– Однако ты был талантлив…
Июль.
Птица поет трели, светлая гармония капля по капле льется с её клюва; трава высокая, полная цветов и шмелей с золотистыми спинками, белня и коричневые бабочки. Самые высокие цветы качают свои головки под ветром, который наклоняет их; лучи солнца, протянувшиеся через зеленую дорогу; плющ, обвивающийся вкруг дуба, подобно ниткам Лилипутов вокруг Гулливера; между листвой просвет белого неба; пять ударов колокола, приносящих людям из-за чации час отдыха на зеленой и мягкой траве; в лесу крики птиц, мошки, летающие и жужжащие вкруг меня, лес полон души, шепчущей и жужжащей; вдали слышен громкий лай; небо, освещенное заходящим солнцем… И все это надоедает мне, как описание природы…
Может быть, виноваты эти две собаки, которые играли на траве передо мною: они остановились, чтобы зевнуть…
Март 185…
Снова увидел Масона в редакции «Monde des arts». Сказал мне комплимент за мою статью об Алжире; и с удивительной памятью начал мне описывать, начиная с двери и кончая банкой с красными рыбами, поставленными на стол перед музыкантами, кафе Жираф и улицу État-Major, o которых я сказал два слова, потом он мне сказал:
– Вашу статью не поймут. На сто человек, которые ее прочтут, едва ли поймут двое… Тут все они взбешены против вашей статьи… И это просто происходит оттого, что массе людей, даже умным людям, не хватает артистического чутья. Многие люди не видят. Например, из двадцати пяти человек, которые пройдут здесь, может быть, нет и двух, которые видели бы цвет бумаги. Постойте, вот входит Бланшар. Он ни за что не заметит, круглый этот стол, или четырехугольный… Теперь, если вы с этим артистическим чутьем работаете в артистической форме, если к идее о форме вы прибавляете форму идеи… о, тогда, вы совсем не поняты…