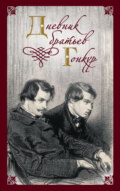Эдмон Гонкур
Шарль Демайи
XXXIX
Это была прекрасная мысль, внушенная, быть может, великолепным сбором винограда в Ферьере, окружить всю танцевальную залу золотым трельяжем, обшитым виноградными листьями и гроздьями, между которыми местами висели на лентах золотые ножницы, приглашавшие обрезать кисть винограда. Эта натуральная беседка из лоз в конце танцевальной залы образовывала дикие гроты, в которых помещались столики с двумя приборами. Оркестр был скрыт за виноградником, так что его не было видно, и он пел точно хор во время сбора винограда.
Бал был великолепен. Тут были всевозможные костюмы, красивые, кокетливые, остроумные, шикарные, странные… Можно было подумать, что танцует народ, история и мир фантазии.
Шарль стоял у двери и рассматривал входящих, когда чей-то голос произнес: – это была Марта под руку с Ремонвилем, которого она узнала еще в передней под его костюмом колдуна.
– Ах, какая чудная белая сирень!
Шарль, одетый весною, снял с головы букет белой сирени и подал его Марте, которая поблагодарила его с грациозной гримаской.
Час спустя:
– Господин Демальи!
Это проходила Марта.
– Мадемуазель!
– Не видали вы моего кавалера?.. Если он пройдет, пришлите его ко мне… – проговорила Марта скрываясь.
Шарль сел на диван. Через пять минут Марта появилась снова:
– Вы разве не танцуете, господин Демальи?
– А ваш кавалер?
– Я все ищу его, – проговорила Марта сев.
– Вам очень хочется его найти?
– Мне хочется танцевать…
– Позвольте вас просить, – сказал Шарль, предлагая ей руку.
– Правда! Как мы глупы! Значит, вы танцуете?
– Никогда, – сказал Шарль.
– Но тогда… Ах, Боже мой, благодарю вас за любезность, – проговорила Марта с улыбкой. – Я сегодня всех теряю… Где же моя мать? Ах, вон она… Я возвращаю вам свободу… Который теперь час?
– Час, когда разумные люди кушают бульон и галантин из фазанов.
– Вы думаете?
– Держу пари, мадемуазель. Хотите пойти посмотреть?
– О, я злоупотребляю…
Шарль подал руку Марте и повел ее в залу, где ужинали.
Марта была охвачена тем оживлением, тем восхитительным огнем, лихорадкой движений и взглядов, которые придают женщине в последние часы бала, опьяненного музыкой, столько прелести, жара и света. Они выбрали столик; но прежде чем сесть, Марта встала на цыпочки и, подняв обе руки к верху, обрезала золотыми ножницами кисть винограда. Она начала обкусывать веточку и виноградины хрустели у нее на зубах.
– Ах, как это мило!.. Представьте… мне это напоминает… я была еще совсем маленькая… в пансионе. Там была такая же беседка, только еще более высокая… высокая… одним словом, такая же высокая как наша стена… в конце нашего сада… а в другом саду, не нашем, была беседка… К счастью, у нас была скамейка в саду, большая, ужасно тяжелая скамейка! Мы должны были тащить ее вчетвером или впятером… но это ничего, мы ее тащили. Раз скамейка у стены, обыкновенно я, как самая высокая, взлезала на её спинку, и обрывала виноград с другой стороны… Кончилось тем, что мы сломали скамейку…
– Кончают всегда тем, что ломают скамейку, – сказал Шарль. – Этого жизнь требует!
– Все ж таки я там очень веселилась… А раздача наград!.. Сначала играли комедию… Мне очень нравилось играть комедии в то время… А как мне аплодировали… Не было этих дрянных фельетонов, которые говорят вам неприятные вещи… Как подумаешь об этом времени, и пожалеешь его; хорошо, что я не думаю… А вы, как и я…
– Я, мадемуазель, это большая разница, я воровал только яблоки… и к тому же всегда их не терпел… Греческий язык, латынь, профессора, наказания… нет я ни о чем не жалею. Впрочем, нет, я жалею одного англичанина.
– Англичанина?
– Я был также совсем маленький. Англичанин был мой сосед по скамейке, большой, сильный, выше меня на целую голову… с огромными кулаками и ногами… Теперь я немного забыл, но кажется это бывало по понедельникам утром, да, во время класса географии, мы исчезали совершенно за огромным атласом. Чего я только ни вытерпел за этим атласом… Не знаю, откуда он узнал, что я сын старого военного… Если бы он меня только бил! Но он, толкая меня под столом ногою, постоянно твердил: «Французов поколотили при Ватерлоо!.. поколотили!.. поколотили»!.. И голос его резал меня по уху в то время, как его ножищи давили мой маленькие ноги… Глаза у меня наполнялись слезами, не от боли, но от национального унижения…
– Я не понимаю…
– Ах, мадемуазель, тут было только различие мнений относительно Веллингтона, национальное самолюбие… и я видел, что это был очень добрый англичанин, когда он вытаскивал из прекрасной кожаной сумки копченую селедку, положенную между двумя хлебцами, и предлагал мне половину… С тех пор никогда мне не доставляло столько удовольствия делить что-нибудь, – даже горе друга.
И Шарль налил шампанского Марте.
– Что же, тем хуже, это очень грустно, – произнесла Марта подставляя бокал…
– Какой прекрасный бал!.. Как я веселилась, танцевала!.. И потом, я обожаю костюмированные балы. Мне кажется это менее глупо, чем современные костюмы… Это убийственно, говорить с фраками!
– А носить их, если б вы знали!.. У вас прелестный костюм… с каким вкусом…
– О, это все сама я придумала… А как вам нравятся эти большие банты?
– Восхитительные!.. Они идут вам, как ваши глаза.
– Если вы мне скажете еще хоть один комплимент, я кладу свои перчатки в шампанское.
– Мадемуазель, – сказал Шарль, разрезая ананас, – я долго не верил, что есть ананасы: думал, это голландский сыр в листьях.
– Все иллюзии разлетаются, – сказала Марта, улыбаясь. – Скажите мне пожалуйста, вы нигде не бываете? Кажется, я вас никогда не видала…
– Это подобает моему полу, мадемуазель.
– Как – вашему полу?
– Да, мадемуазель, моему полу… Вы согласитесь, что есть пытка и пытка… Положим, мне рубят голову, это ужасно…
– Какая мысль!
– Но предположим, что мне щекочут пятки, пока не наступит смерть, это еще хуже. Ну а что вы скажете, мадемуазель, о пытке между щекотаньем пяток и отсеканием головы? Дружелюбное сдирание кожи?
– Но o чем вы говорите?
– Я! Я говорю о том, что хочу сбрить себе бороду.
– Ха, ха!
– Берегитесь! Ваша прическа сейчас упадет… Вот с этой стороны.
– Видели вы прическу мадемуазель Дювер!
– Нет!
– Не нравится мне эта прическа.
– Мне также… Вы любите музыку, мадемуазель?
– Очень.
– Вы правы: женщина, которая не любит музыку, и мужчина, который любит ее – два неполных существа.
– А вы насмешник!
– Нет, уверяю вас. Я только очень робок, отчего я во всю мою жизнь никогда не смел говорить с женщиной, не делая вида, что я смеюсь… Хотите знать правду? Я насмешлив, как нотариус почтенен: по наружности… Но не говорите этого!
– По крайней мере вы искренны, – сказала Марта, смеясь.
– Не хотите ли еще шампанского?
– Мерси.
– Чтобы чокнуться?
– За что?
– За наши мысли!
– Нельзя чокаться за такие вещи… не зная о чем.
– Но пьют же за будущее… а кто его знает?
– Я! – сказал Ремонвиль, проходя мимо, – я угадываю прошедшее.
– Господин де-Ремонвиль, – сказала Марта, – погадайте мне.
– Вашу руку, прекрасное дитя… Нет, другую, левую… Какой цвет любите вы.
– Розовый.
– Что вы читаете «La Patrie» или «Le Constitutionnel»?
– «La Patrie»… вечерний номер.
– Надежда! – сказал Ремонвиль. – Вы любимы!.. Молодым человеком!.. брюнетом… рожденным в марте месяце, в третьем округе, с достатком!.. Его имя не Линдор… Чувства его чисты!.. Но минутку, молодость! Не надо делать глупостей!.. Мэр из Нантер глядит на вас сквозь золотые очки…
– Ремонвиль! – закричал чей-то голос в зале.
– Я здесь… За ваше здоровье дети мои!
Когда Ремонвиль ушел, между Шарлем и Мартой воцарилось молчание.
– Были вы на первом представлении в Порт-Сен-Мартен? – спросила Марта.
– Нет.
– О! правда, вы живете точно в башне?
– Почти так… И потом, скажу вам… между нами… театр – одно из тех удовольствий, которые мне всего более надоели. Я перестал ходить туда.
– Держу пари, вы никогда не видели, как я играю.
– Давайте держать пари!
– Только без любезностей. Говорите правду… я уверена в этом!
– Поверите вы моему честному слову, если я вам его дам?
– Да, дайте честное слово.
– Хорошо, мадемуазель; и так, клянусь вам, что видел вас вчера в вашей роли…
– А!
– …. В двадцать первый раз.
– Ах, Боже мой, в двадцать…
– Первый раз… Когда вас не было на сцене, я читал.
– Моя мать, вероятно, беспокоится… Позвольте вашу руку, господин Демальи!
XL
Три месяца спустя после этого бала, «Скандал» публиковал без комментария объявление о свадьбе господина Шарля Демальи с мадемуазель Мартой Манс.
XLI
Когда Марта проснулась у своего мужа, когда её еще блуждающие и сонные глаза раскрылись, она протерла их и, смутно вспоминая и разглядывая окружающее, подумала, что еще спит. Она посмотрела снова; она находилась в кокетливой обстановке, которой до сих пор никогда не видала… Вся её комната, блещущая шелками, свежая, веселая, была в стиле Буше; один из тех весенних стилей, где все – заря, и где стены походят на страну роз. Все цвета были нежные и веселые; от голубого цвета, который можно только увидеть на старых китайских эмалях, взгляд переходил в светло-желтому с оттенком жженого топаза; далее, он останавливался, ласкаемый лиловатыми переливами курток пастухов, на сочетании цвета их тела и щек, похожих на персики. Во всей этой природе была красивая фальшь, с далями, погруженными в голубоватые переливы утра, с барашками освещенными белоснежным цветом, с этими пурпуровыми юбками с шелковыми отливами, с однотонными руинами нежно-серого и желтого цвета увядшего мха, с равнинами, где на бледной зелени виднелись полосатые тюльпаны и густолиственные штокрозы. И вся эта картина выделялась на белом фоне, побледневшем и пожелтевшем от времени, заключающем в золотистом свете целую гамму разбросанных тонов. На потолке сияло подернутое туманом постели и лаковых полутонов тело белокурой, воздушной Венеры, обучающей розового амура. Картина деревенского праздника, подписанная на пьедестале одной из развалин «Буше 1737», шла вокруг всей комнаты, оставляя только место для окна. Она изображала ярмарку идеальной богемы, красивую волшебницу, восседающую на колеснице, детей, поднятых на руки, любопытных маленьких девочек, склонившихся над панорамой, мулов с красными кисточками, повторяющих свою роль ученых ослов и пощипывающих розы, толпы пастушек с большими корзинами и пастухов с посохами, украшенными лентами Болара; вся эта композиция была залита светом, говорящим взгляду о любви.
В этот день шел сильный ливень. Каждую минуту темные тучи заслоняли солнце, затем проходили оставляя проблески света; от этой быстрой смены темноты и света Марте казалось, будто картина то исчезала и сливалась с тенью, то вдруг, как бы оживленная росой, блестела и воскресала. Затем глаза Марты остановились на разукрашенном кружевами туалете, на котором лежали тысяча серебряных безделушек.
– Тебе нравится эта вещица? – спросил Шарль, который за занавесью ждал, когда она проснется и наслаждался её удивлением.
– О! это прелестно!.. Дай мне посмотреть… Ты купил это у Тагана?
– Нет, – сказал Шарль, – не совсем… Это некий Жермен, работавший прежде почти также хорошо… Это случай или скорее безумие, как все, купленное теперь по случаю.
XLII
Ничто более любви не походит на счастье. И что говорить? Как рассказать об этих чудных месяцах, промчавшихся как один час? Взгляды, песни, восторги, такое прошлое надо усыпать цветами. Безумные речи, безумные ласки, восторги опьянения охватывали их, несбыточные мечты, которые они забывали исполнить, долгая нега, в которую они погружались, как в вечность настоящего, надежды и капризы, игравшие около них как дети, желания, улыбавшиеся одно другому, долгое молчание, в котором они разговаривали друг с другом без слов, тысяча ребячеств, которых создает страсть, полное довольство, следующее за удовлетворением наших инстинктов, эта радость вечно молодая и постоянно возобновляющаяся, которая дает обладание идеалом, одним словом, – любовь.
Веселое пробуждение! Так встает дитя, так встает птичка с песнями и улыбкой. Дорогие мгновения, счастливые минуты, когда их смутные мысли, их сонные глаза, раскрывающиеся, чтобы прогнать ночные грезы, понемногу возвращались к сознанию их жизни, их прошедшего, которое было вчера, их будущего, которое было сегодня, каждое утро, все их блаженство вспоминалось им в одну минуту и целовало их в лоб, тогда как они, лежа рядом, улыбались не глядя друг на друга, приходя понемногу в себя и боясь пропустить последнюю колыбельную песню улетающего сна.
Это было веселое, шаловливое пробуждение, полное очарования, шалостей и ласк. Полуодетая, еще с влажным лицом, вся благоухающая свежестью и молодостью, Марта проскакивала в кабинет Шарля и появлялась в нем как видение. Она закрывала ему обеими руками глаза. Она обвивалась вкруг него, она тормошила его, била, щекотала, упав на диван, который шел вокруг всего его кабинета. Оба садились за стол и тотчас же стулья начинали придвигаться один в другому: наконец они сталкивались во время десерта. Тогда она, взяв в зубы ягоду земляники, давала ее Шарлю, закинув голову…
– Я достану ее.
– Нет…
– Постой же…
– Руки вниз! – И земляника то показывалась в её рту, то скрывалась. её влажные губы, голубые глаза, полузакрытые от смеха, то избегали Шарля, то преследовали его. Почти побежденная, она поворачивала шею, прижималась к нему, прикасалась щекой к его щеке; пока, наконец, устав избегать его поцелуев, приближая головку, покачиваясь, заложив руки за спину, она протягивала ему ротик и отдавала с земляникой свои губки для поцелуя…
– Твой вальс, скорей, твой вальс!..
И вот он за роялем, а она вальсирует… И вдруг, замедлив такт, положив локти на плечи Шарля, и склонившись к нему как Муза, она прикусывала ему ухо.
Он говорил: – «Перестань же. глупая… мне больно!» и поворачивался, чтобы отмстить, но уже не находил ее: она раскинулась на диване, и лежала там, как кошечка, которая спит с открытыми глазами. Закинув одну руку за голову, другой она ласкала волосы Шарля, который глядел в её глаза; одна из её маленьких ножек, без туфли, била по дивану в такт колыбельную песенку; и ничто бы не потревожило эту чудную негу, если бы ему не приходилось ладонью отгонять голубой дым сигары, который подымался ему в глаза.
В продолжение долгих часов, почти целых дней, с распустившимися волосами, положив одну ногу на другую, не переставая играть красной туфелькой, прислонившись всем телом к Шарлю, она перелистывала альбомы, наброски, воспоминания его путешествий. Сколько вопросов задавала она! Сколько объяснений требовалось! И зачем, и почему?
– Пешком? Неужели правда, мой милый, ты путешествовал пешком?.. И с сумкой?
– С сумкой.
– И в блузе?
– В блузе.
– Ты, вероятно, ел яичницу?
– Случалось!
– И на тебя никто не нападал?
– Нет. Я не брал экипажа.
– Ах, это мило… что это такое?.. Скажи пожалуйста, с тобой должны были случаться приключения… Приключения с женщинами, а?
– Я же тебе говорю, я не брал экипажа…
И они смеялись.
– О! какой турка!.. Ты значит везде был?.. Стой! Вся гондола черная!.. Почему это?
– Потому что маски тоже черные.
– Тогда… а это что?.. Ах, какой красивый костюм. Это швейцарский, да? Мы поедем в Швейцарию, неправда ли. жить в тихом шале… О! кукла, кукла!
– Я нарисовал ее в Ватикане: это римская кукла, моя милая.
– Но смотри, она совсем как наши!
– Конечно.
– Как смешно!
– Совсем нет; есть много вещей в этом мире, которые не меняются: игрушки, дети…
– А мужчины? – прибавляла Марта, смеясь.
– А работать? Надо, чтобы ты работал!.. Пожалуйте, милостивый государь! – говорила иногда Марта. И оба, как можно дальше один от другого садились за работу, стараясь думать о чем-нибудь другом, кроме себя самих. Но при первом взгляде, который один бросал на другого, глаза их встречались, а затем и уста… И начатый роман, и просматриваемая роль откладывались для поцелуев.
Эти бесконечные наслаждения наполняли всю их маленькую квартирку. Едва ли их рай был достаточно велик для их любви и мир достаточно далек для их счастья. Все вокруг них было ими самими… Не было ни одного свидетеля их счастья, кроме большего букета пармских фиалок, благоухание которого пробуждалось вместе с ними и ночью принимало запах умирающих цветов.
Ни одного голоса, между их голосами, ни одного докучливого друга кроме собаки с острова Скаиля, ревнивой и веселой, с одним ухом кверху, другим вниз, которая втиралась в их игры, визжала на их поцелуи.
XLIII
На улице была скверная погода, дни темные, солнце не светило, шел постоянно дождь и ветер ударял в стекла… Они почти не выходили. Только иногда, соблазнившись хорошим сухим днем, лучом солнца и кусочком голубого неба между тучами, они шли гулять.
Тогда они прогуливались потихоньку, облокотившись друг на друга, Марта положив голову на плечо Шарля; они тихо шли, как выздоравливающие больные, не видя куда идут, не видя кто на них глядит, оставляя за собой как бы завистливый шепот встречных взоров: они любят друг друга!..
Шарль останавливал Марту перед витринами магазинов и спрашивал, чего ей хочется, но древо моды так мало соблазняло ее, что она была почти благоразумна.
Иногда они отправлялись пообедать в маленький ресторан и спрашивали несуществующие блюда.
Иногда за обедом следовал спектакль; они ели апельсины в бенуаре драматического театра и смеялись, когда все плакали. Марта и Шарль были счастливы, находя дома уединение и покой. Дахе окружающие вещи казались им близкими: каждая говорила только о них, была воспоминанием или поверенным какой-нибудь минуты их счастья. Особенно вечером, очаг говорил им и убаюкивал их, как сладкий голос, в котором мешалась песнь Трильбы с пением богов Ларов. Огонь в камине нагревал комнату, лампа лила белый свет на стол, на ковер, на кресла; остальное находилось в тени, оживляемое иногда отблеском на кончике какой-нибудь бронзовой безделушки, отливом шелка, золотой блесткой. Они, в полутьме, спиною к лампе, протянув ноги на каминную решетку, говорили или не говорили между собою и кончали всегда молчанием.
Они долго смотрели в огонь оба, глядя на одну и ту же головешку, и даже не целуясь, до того этот час и пламя погружали их в таинственное общение и сосредоточенную интимность. Ударом туфли Марта внезапно прерывала этот сон их счастья; искры, вылетевшие из головешки, бросали на них мгновенный свет, потом тьма и молчание снова возвращались к ним…
XLIV
У Марты были маленькие ножки, ножки истой парижанки, быстрые, кокетливые, почти разумные; руки у нее были также маленькие, с ямочками и розовыми ногтями. Талия её была свободная и круглая. Марта была белокура, нежные её волосы имели пепельный оттенок, который при свете делает впечатление пыли, освещенной луной. Лицо её было детское, с мелкими чертами и большими голубыми глазами, открытыми и сияющими, которые освещали своим блеском и лаской все маленькое личико Марты. Один Вато, да Лоранс могли бы изобразить этот светлый, быстрый взгляд детства. Круглое личико Марты, её молочный цвет лица, розовые щеки, небольшой, прямой и выпуклый лоб, капризный и задорный носик – довершали её сходство с ребенком. Голубые жилки проходили по вискам; зубы её конечно были белые и маленький рот походил на ротик тех прелестных детей, которому нет места между их полными щечками. Нежный и слабый голосок Марты казался музыкой и шепотом. Чтобы шепнуть что-нибудь Шарлю, она восхитительно поворачивала шеей и головкой. В разговоре она волновалась и часто глаза оканчивали фразу, передавая её мысль. Таково было это очаровательное создание, эта женщина, которая была типом, воплощением своего пола и своего времени; эта артистка, соединявшая и осуществлявшая в себе все дары, все очарования, весь характер и капризы девушки-невесты нашей современной комедии, одним словом – «ingénue».
XLV
В этих ласках, в этом спокойствии, в этом отдыхе жизни любовь их неслась волной; жизнь их стремилась как светлый, журчащий ручеек, который бежит между кустарником, полным птиц, отражая солнце и розы, растущий на берегу. Часы проходили за часами, постоянно счастливые и улыбающиеся; ни горечи, ни страха, ни заботы, ни сомнений; чело их не покрывалось морщинами, небо было ясно; они не знали, что такое облако, а что такое желанье, они забыли. Одна маленькая песчинка попала в это счастье… Это был незначительный укол, и даже не сердцу мужа, но сердцу автора, его гордости, тщеславию его произведений. Марта не знала, что, может быть, по странному ходу вещей, писатель не умирает во влюбленном писателе: она никогда не говорила Шарлю о его книгах. Это молчание задевало Шарля, который не говорил Марте о своей пьесе и о роли, которую он ей предназначал. Он решил молчать, работая тайком, по ночам, над этим любимым произведением, в которое он вкладывал весь свой труд, всю свою душу, исправляя его, отделывая, смягчая и переиначивая; привязавшись преимущественно к этой женской роли, которую он наблюдал и перерабатывал с натуры, – он хотел изобразить в ней Марту целиком, её годы, её грацию, её улыбку, сердце; это будет первая ingénue, говорил он сам себе, которая не будет куклой. Когда он окончит пьесу, он прочтет ее Марте: это будет его первая публика – его первое торжество, и тогда она узнает его! Однажды она вошла к нему:
– Я в бешенстве, милостивый государь! – говорила она ему, обвивая его шею руками и бросая на кресло кружевную шляпу. – Я в бешенстве! Но, постой… я тебя не поцеловала, кажется? Да!.. Он говорит: да!.. Мне, целовать этого негодного человека, который!.. Признавайся!.. Признавайся сейчас же!
– В чем?
– В чем!.. Хитрец! Но ведь и все знаю… все!.. А, ты скрываешь от меня!
– Я!
– А, попались, сударь!.. У вас секреты!.. Хорошо, у меня тоже будут секреты, и большие… Можете смотреть мне в глаза… Я им не велю ничего говорить вам!.. Вы не узнаете более о чем я думаю, да!.. Спросите-на меня, люблю ли я вас, вы увидите! – И Марта сопровождала свои слова красивыми угрожающими жестами.
– Что такое, маленькая Марта? – спросил Шарл, не понимая, за что его бранят.
– Как, ты не угадываешь?.. Ну, что же, подумай! – И бунтовщица провела ногтями по его лицу, как ребенок. – Я скажу тебе, когда ты сгоришь… Поройся лучше в своей совести, вместо того, чтобы целовать мне кончики пальцев!
– Мне очень этого хочется, но пороемся вместе… Я скрыл от тебя, что у меня есть седые волосы – два на правом виске, три на левом.
– Их более нет, – произнесла Марта, беря его голову в руки и целуя с обеих сторон. – Потом?
– Я скрыл от тебя, что у меня есть друзья?.. Это?
– Нет.
– Я скрыл от тебя… я скрыл… Черт возьми, если я знаю, что я скрыл еще.
– Раз, два, три, признаетесь вы?
– Постой!
Он делает вид, что ищет!..
– О! Мужчины!.. Признаетесь вы или нет?
– Хорошо!..
– Хорошо, признаетесь?
– Ах!
– Ах! Что!
– Ничего, – сказал Шарль оправляясь.
– Это не то, – сказала Марта; она подождала немного.
– Маленькая Марта!
– Вы обманываете меня, сударь, – сказала Марта вставая. Голос её был почти строг. Шарль подбежал к ней взволнованный. Но она, положив подбородок на его плечо, весело улыбнулась ему.
– Ты пишешь пьесу! Ты мне дашь роль!.. Попробуй сказать нет, лгун!
– Я?.. Я?.. Кто тебе сказал?.. Пьесу! Во-первых, я никогда их не писал… и потом заставить тебя играть в моей пьесе… я бы слишком боялся, чтоб ты не провалилась… Пьесу? Зачем? Нет…
– Да! Она для меня эта роль, а если не для меня, тем хуже, я ее беру! Да! Но она для меня… для меня… Нет? Ах, ты еще говоришь нет!.. Ну хорошо, тогда объясни мне пожалуйста: зачем ты в пьесе повсюду пишешь имя Марты вместо Розальбы?.. Розальба, не имя твоей ingénue, отвечай!
Признанием Шарля был поцелуй, в котором вылилось все его сердце поэта.
Обед был подан; он перестоялся и простыл. Надо было, чтобы Шарль сейчас же принес свою рукопись и прочел ее. Марта только пробежала ее тайком, боясь, и прислушиваясь, положив руку на ключ от конторки Шарля. Шарль читал выразительно, вкладывая в свой голос все волнение, всю свою душу и сердце; и по мере того, как развертывалась интрига и перед Мартой проходили действующие лица пьесы, любовь, ум и молодость, Марта смеялась, била в ладоши, прыгала с одного кресла на другое, вертелась на одной ножке, целовала сзади Шарля, танцевала галопом… За обедом никто ничего не ел; но за то аплодисменты, счастливые разговоры, поздравления, полные надежд, вознаградили автора заранее первым шумом его успеха и очаровательным признанием его славы! Слова, восклицания, уверения, проекты, мечты теснились в устах Марты и, казалось, не имели конца.
– Ах, как это мило!.. мило… мило!.. – говорила она, напевая конец фразы. – А мой выход в первом акте… знаешь… тут маркиз… там окно… я вижу себя входящей. А мой монолог второго акта!.. и фраза в конце сцены: «Клянусь честью, сударь, мне кажется, что я люблю вас». Нет, я скажу это так: «Клянусь честью, сударь»… А?.. Да: «Клянусь честью»… И потом ты увидишь, когда мы расстаемся… Потому что я также и плакать умею, что бы там ни говорили… А какой смешной твой лакей! Надо, чтобы это вышло, знаешь… А моя большая сцена на балконе?.. Тра-де-ри-ра! Мы увидим!.. Я отлично знаю, как я скажу: «Мое сердце – птичка»… Но я скажу это так, как хочу, на первом представлении… тебе говорю, ты увидишь!..
И при этом постоянные поцелуи, салфетки на полу, рукопись на столе, исканье пальцем эффектных сцен и разговоров, проба интонаций и повторение жестов. При каждом движении Марта спрашивала глазами одобрения Шарля, тогда как он, ослепленный и счастливый воплощением своих грез, и слыша себя в обожаемых устах Марты, говорил только кивая головой: – да! да!..
– Да! А мой костюм! Идем скорее… – И они воротились в комнату; набросив абажур на лампу, они бегут в портфелю с рисунками костюмов.
– Это пропускай, пропускай, скорей же, – говорила она, – не то, не то и не это! Ах, если я возьму эту прическу!.. Нет. Надо, чтобы у меня было нечто в этом роде… Смотри… – и пальцы её складывали платок, делая невозможный и кокетливый чепчик, который она набрасывала на свои волосы. Это пойдет моему лбу; видишь ли… у меня лоб небольшой… – И она смотрелась в зеркало. – Я пойду к Люси Гоке… Только она и умеет… Эта прическа. Ах, как ты глуп… она безобразна!..
– Почему безобразна?
– Потому что она не пойдет мне… Бог мой! Как мужчине трудно быть красивым… Ах! Вот ботинки, которые я хочу… мне нравятся эти каблуки!..
– Но, милая, это ботинки времен Людовика XV… это туфли!
– Что же такое? Я упряма, они мне пойдут! – И она смеялась.
– Но, Марта, подумай, дитя мое, историческая правда…
– Ах, оставь пожалуйста твою историческую правду! Мадмуазель Марс все играла в тюрбане!.. Постой!.. Возьми карандаш!.. Потом у меня будут чулки, совершенно прозрачные… Нарисуй мне вот это и потом это… Ах, я выхожу похожа… неправда ли? А тут банты на юбке… О, я буду очень мила!.. Ты будешь мой костюмер. Так; вот мое платье во втором акте!.. Скажи пожалуйста, Шарль, я и не думала, что ты такой умный!..
– Нет, правда, не шутя, как ты находишь мою пьесу?
– Я нахожу ее… Ты должен дать мне прочесть все твои книги!