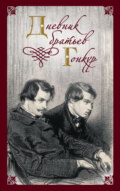Эдмон Гонкур
Шарль Демайи
XXIV
Шарль вышел из кофейни Риша с предчувствием, что книга его встретит порицания со стороны критики, и он не ошибся. Среди критиков встречаются два сорта их: критики, стоящие ниже разбираемого ими произведения и критики, стоящие выше его. Первые хвалят или бранят, сообразно со своими способностями, своими взглядами, подчас добросовестно и под влиянием зависти. Вторые, более многочисленные, составляющие собственно критическую литературу, в настоящее время считающую в своих рядах наиболее талантов, занимаются ремеслом, почти всегда недостойным их, из-за определенной довольно высокой платы, и смотрят на него, как на единственный верный заработок, доставляющий солидное положение; подобные критики, стоящие выше сочинения, которое они призваны одобрить или осудить, понятно, не заботятся о том, чтобы следить за автором шаг за шагом, разбирать каждое его слово, одним словом, играть скучную и посредственную роль профессора риторики, поправляющего ученическое сочинение. Пусть не прощает им этого авторское самолюбие, но очень понятно, что они идут далее разбираемого ими произведения и, поставив в начале своей статьи его заглавие, на данную тему создают собственные, неожиданные импровизации: они словно играют Венецианский карнавал, вот их манера давать отчет; и публика не так глупа, чтобы сердиться на них за это.
Но, помимо этого вечного недостатка, неодинакового уровня мыслей критика и автора, критика в нашей стране и в наше время подвержена еще совсем особому злу. У нас во Франции нет, подобно Англии, больших уважаемых и влиятельных критических журналов, чуждых политических страстей и вносящих в литературный приговор полную беспартийность и высокий скептицизм чисто литературной критики, критики читателей и судей идейного искусства. Наша критика заключена в узкия рамки журнала, она более или менее придерживается его оттенка, его тенденций и если не его предразсудков, то его убеждений; поэтому она постоянно бывает вынуждена ставить на первый план не достоинство книги, а её дух. Ей не позволяется хвалить произведения враждебного лагеря и хулить произведения своего. Если в романе выведен герой – католик, критик свободомыслящего журнала признает роман отвратительным. Если герой – неверующий, критик католического журнала произнесет анафему не только роману, но и его автору; таким образом наша критика подвержена самому большому несчастью, какое только может существовать для неё: она является критикой партии и избранной партии, белой, красной, синей, смотря по тому, с высоты какой трибуны она говорит.
Книга Шарля столкнулась со всем этим. Книга под названием «Буржуазия», своим содержанием оправдывала свое заглавие и, быть может, бессознательно для него самого, касалась многих сторон общественного порядка; она проводила слышишь много общих взглядов, выказывала много тенденций; она заставляла читателя делать слишком много предположений, касающихся государственного строя; она затрагивала слишком много страстей, слишком много интересов целого класса, чтобы не быть общественным, а, следовательно, политическим романом. Одна партия должна была найти в нем неполную апологию своих идей, другая угадывала в нем презрение к своим взглядам. Великий вопрос французской революции, лежавший в корне его сочинения и служивший колыбелью того порядка, который он хотел изобразить, воодушевлял его произведение под холодною наблюдательностью и анализом. Тщетно он гнался и искал одной художественной правды, его книга являлась одним из тех сочинений, которые возбуждают полемику партий, не удовлетворяя ни одной из них.
И так, книга Шарля была встречена враждебно почти по всей линии. Красные, белые, синие соединились вместе, чтобы уничтожить ее. Это был хор ироний, нападок, насмешек и злости, едва сдерживавшихся в границах приличия, – а иногда и выступавших из них. Его пощадили только два критика высшего порядка: один по поводу его книги обрисовал вкратце историю буржуазных классов до Рождества Христова; а другой воспользовался случаем, чтоб набросать прелестную статью о буржуа, как изображался он Домье.
Выдержать подобную атаку, не дрогнув, было бы своего рода государственной заслугой в литературе. Но очень немногие способны на такой стоицизм; и если бы заглянуть в души самых сильных, даже тех, которые смеются в обществе, показывая, что не чувствуют ударов, то оказалось бы, что раны их внутри. Самые великие, самые славные, даже боги, еще при жизни овладевшие потомством, обезоружили бы, пожалуй, завистников, если бы показали, до какой степени они чувствуют удар пера какого-нибудь невежды, неведомого, и как капля чернил без имени, брошенная по их адресу, отзывается в их сердце!
Для впечатлительной натуры Шарля боль оказалась очень чувствительной. Он постарался утишить ее, на не смог. Неблагозвучные эпитеты, от которых он никак не мог отделаться, точно врезались ему в память и всюду преследовали его. Он ловил себя на том, что вполголоса произносил отрывки фраз, которые он хотел бы забыть. Он чувствовал в себе болезненную простоту, полное безучастие ко всему, и в одно и тоже время, отвращение и потребность к движению. Некоторые статьи, прочитанные перед обедом, производили спазмы в его желудке и совершенно лишали его аппетита, словно известие о каком-нибудь большом несчастии. Он чувствовал горечь и сухость во рту и впадал в отупение, всегда сопровождающее сильное потрясение организма, в котором не отдаешь себе отчета и предшествующее при больших нравственных страданиях излиянию желчи в кровь. Он подолгу просиживал в своем углу, боясь показаться, боясь отголосков, боясь своих друзей и стыдясь выказать подобное малодушие.
XXV
Однажды вечером, находясь в том состоянии печали, когда человек перестает управлять собой, подчиняет свою волю инстинкту и, вместо определенной цели, идет куда глаза глядят, Шарль очутился на том самом наружном бульваре, где, несколько месяцев перед тем, он задумывал и создавал свое произведение. Вся эта штукатурка, большие серые стены, грязные дома и убогие кофейни, эти тощие деревца, которые он узнавал, открывали его глазам и мыслям одно из тех чудных по воспоминаниям мест, где останавливаешься перед группой лип: здесь зародилась первая любовь! Идешь по песчаной дорожке, заросшей травой и ежевикой, и думаешь: далекое и дорогое отечество первой мысли и первого плохого стиха! В этом тенистом уголке, на этой кучке травы прочтен был первый опасный роман! Шарлю точно также улыбались эти жалкие бульвары. Его книга родилась тут, на этом самом грязном тротуаре! Перед ним возникали его образы, его усилия и восторги: у этого выступа стены он нашел такое-то положение; перед тем кабачком он встретил одного из своих типов; прогуливаясь взад и вперед мимо этого большего черного дома, он, наконец, нашел развязку к своему роману. Таким образом перед ним, делаясь все яснее и яснее в ночных сумерках, прорванных местами красноватым светом фонаря, проходили, словно в ночном смотру, один за другим, персонажи его романа, появляясь справа и слева, из дверей домов, из выступов стен, из мостовой, и Шарль, взволнованный прошлыми ощущениями, продолжал свою прогулку, когда из окон одного, темного сверху до низу павильона с палисадником, чей-то голос назвал его по имени.
Шарль поднял голову.
– Извините, – говорил голос, – на мне нет ни мундира, ни орденов… Но позвольте мне, несмотря на это, поздравить вас, милостивый государь: я читаю, т. е. вернее читал вашу книгу; так как свеча моя, как видите окончательно угасла… как поется в песне.
Тогда Шарль различил в черной рамке открытого окна бумажный колпак над рубашкой и рубашку под бумажным колпаком.
– Благодарю вас, – продолжал тот же голос, – вы доставили мне приятный вечер… даже возбудили маленькую лихорадку.
– Ах! это вы, Буароже… Мне сказали, что вы были больны; как вы себя чувствуете?
– Мы, т. е. я и моя болезнь, чувствуем себя недурно, в особенности последняя. Но, войдите же. Я простираю к вам объятия сверху… Словно я обитаю в доме Кассандры… или воображаю себя Коломбиной, умоляющей вас похитить меня… Ах! но я дурак, я забыл… Не подымайтесь. Пантомима становится необходимой. Надзор за мной гораздо лучше, чем за «девицей, которую плохо стерегли»: я заперт… Я уж имел честь вам докладывать, что свеча моя погасла… Вы, может быть, подумали, что это метафора… Так нет, это совершившийся факт, я прибавил бы, исторический, если бы он был вымышлен… Моя хозяйка пошла, за огнем для меня, к соседу, – сосед, со времен хартии, всегда мелочной торговец, – а так как я лежал, то она заперла меня. Послушайте, будьте добры, пойдите ей навстречу и скажите, что я жду ее.
– Но я ее не знаю…
– Вы ее не знаете? Ангел, душка, Афродита! Голова её создана из зерна каприза, мысль подобна свистящему ветру, лицо – улыбке, улыбка – росе, а глаза – звездам! одним словом, та женщина, что выйдет от лавочника… если только она не пойдет в Монмартрский театр, чтобы убедиться в том, что первый любовник похорошел. Но я схвачу насморк, я уж, кажется, чихаю… Покойной ночи! Вы теперь знаете мой дом, приходите ко мне. Я хочу пожать вам руку и сказать все, что я думаю дурного о вашей книге.
XXVI
Эта неожиданная встреча, шутки и рукопожатие через окно со стороны человека, которого он любил за талант и чьим симпатиям он закидывал, доставили Шарлю большое удовольствие, почти счастье. Давно у него не было так хорошо на душе. Он даже запел и сам удивился своему голосу.
Буароже не был ему незнаком. Он встречал его или вернее сталкивался с ним в конторах маленьких газет. Некоторые даже передавали ему, что Буароже защищал его талант и громко высказывал, что он об нем очень хорошего мнения. Но им не представлялось случая сойтись поближе, выйти из пределов обыденных вежливостей людей полузнакомых. Шарль чувствовал себя счастливым и польщенным тем, что его книга доставила ему уважение поэта. В мире писателей существуют подобные приговоры одного лица, более дорогие и приятные их сознанию, чем приговор толпы: они больно чувствуют его презрение, за то подчас он служит им утешением.
Буароже был по призванию поэт лирический. Трудно найти более краткую обрисовку характера героя. Ничто, современное ему, не волновало его, не трогало, его не интересовали ни биржа, ни публика, ни г-н Журден с его халатом, ни поэзия рабочих, ни новые доктрины, ни поклонение прозе, ни культ пошлости, ни бунт против аристократической формы мысли, против священного языка ученых, ни ярые утопии общедоступности и вульгаризации всего прекрасного, делающие ремесло из искусства, ни книги, нисходящие до читателя, ни чаша избранных, превратившаяся в фонтан вина на публичной площади. Беззаботный, ликующий и восхищенный Буароже, лирой Орфея, готов был изливать душу перед нотариусами и барабанщиками национальной гвардии. Он пел и печали свои и радости; словно Саади, увидевший Олимп, он воспевал розы и богов, опять богов и опять розы! Стихи Буароже отнюдь не наставляли в твердости веры. Точно также он не старался влиять на нравственность масс. Он не мечтал ни об рае, ни об академии… Его поэзия, уснащенная шелковыми парусами, золотыми канатами с экипажем, состоящим из амуров, неслась, подобно галере Клеопатры, не нуждаясь во флаге.
Её моралью была одна любовь, а религией – евангелие Гезиода. Мысль тут улыбалась на золотом ложе. Это была поэзия пурпура и солнца, поэзия беспредельного и величественного пантеизма, легкая как танец прелестной Савской царицы, ослепительная как Индийское море, заколдованное море с волнами из света, с гармоническими приливами, выбрасывающее в беспорядке из своих лазурных сетей лучи, раковины, куски розового мрамора, браслеты, колонны храма, двери сераля, смеющиеся статуи, профили Астарты, коралловые гроты, тень Коломбины, огненных гениев, взгляды, поцелуи, благоухание цветов, рубины, бриллианты и звезды! Их ритм звучал, как падение водяных капель с волос бронзовой Венеры в вилле Брунелески. Светлый апофеоз так и играл среди цветущих стихов. Поэма эта – сон Полифила среди бенгальских огней – была настоящей феерией!
Затем, на оборотной стороне этого волшебного храма, Буароже обращал свое перо в резец и карандаш. На досуге своей крылатой оды он набрасывал в оде шуточной грандиозную и могучую карикатуру, комическую маску какого-нибудь буржуа Фарнезского, эскиз, месть, где выказывались эпические ширина и размах Микель-Анджело.
Буароже жил поэзией. Вынужденный поддерживать свое существование, он решился прибегнуть в журналистике. На его прозу явился спрос и фельетон сделался источником его заработка. Но ни авансы газетных касс, ни успех его прозы не могли заставить его разорвать связь с привычкой к поэтическому творчеству. Хотя он и соединил эти две вещи, различные между собой как пачка табаку и женщина, он возвращался, более чем когда-либо, влюбленный, к родному языку мечтаний. Он уходил весь в себя, переставал различать дни и, по целым неделям, проводил с своей музой, не удостаивая парижское солнце чести взглянуть на него. Он создал себе, таким образом, совершенно условный и сверхъестественный мир, откуда, только с большим трудом, могли его вызвать материальные нужды. Можно подумать, что он считал жизнь за дурную шутку, нечто в роде фарса старого итальянского театра, и что он принимал в ней, время от времени, участие единственно из остатка уважения к человечеству. Этим объяснялась, оправдывалась, быть может, одна невероятная добродетель Буароже, доведенная у него до самой высокой степени, сумасшествие и честь некоторых великих и редких артистических натур, это неизлечимое и врожденное бескорыстие, презрение к деньгам, служащее меркою духовного склада данного лица.
В 1848 году один журнал вздумал воспользоваться его антипатиями к аристократам, чтобы заставить его оскорбить одного трибуна; он взял свою шляпу и оставил банковые билеты.
И с тех пор муза его никогда не касалась существующего правительства. Также конкуренция, следовательно, дешевая продажа низкостей в различных общественных сделках, была вещью, до крайности удивлявшей Буароже.
Вторая струна лиры Буароже, смех его поэтических карикатур, слышался и в его разговоре, имевшем совершенно особую прелесть.
Демон иронии владел его речью. Тонкая и колкая, она вполне гармонировала с его голосом, тоже тонким и резким. Презирая вдохновение на разные случаи и пренебрегая деланным остроумием, так называемым остроумием слов, он блистал лучшим французским остроумием – остроумием идей; игра его жестов, взгляда и физиономии была великолепна; неистощимый в обрисовке картин, подробностей, в мимических изображениях, в характеристике нравственных черт, в передаче коротких, живых разговорных сценок, словно схваченных с натуры, он неподражаемо умел обрисовать, одним словом, характер, книгу, любовь; большое удовольствие доставляло ему, внезапно, в пылу разговора начать воздвигать парадоксы выше Вавилонской башни, или употреблять ужасающие гиперболы, чтобы смутить последователей школы здравого смысла. И все это шутник бросал, создавал и уничтожал одним дуновением.
XXVII
– А, это мило с вашей стороны. Вы держите свое слово… Мели, освободи же кресло и дай его гостю.
Так приветствовал Буароже входящего Шарля. Буароже находился в постели бледный, худой, с бородой, небритой более недели, на голове его красовался небольшой бумажный, в синюю полоску, колпак, какой носят художники на работе, вокруг него на кровати и на ночном столике разложены были книги. Его маленькие, живые, беспокойные глаза бегали по сторонам, как взгляд актера сквозь дырочку занавеса.
Стены комнаты были завешаны театральными костюмами, забрызганными гуашью Баллю, среди которых, как в нише часовни, скрывался портрет женщины. Это было прелестное и вместе с тем печальное лицо, нежный тип не то Зефирины, не то Миньоны, который в своем траурном наряде дагеротипа казался мертвой душой среди всех этих живых, ярких одеяний, украшенных блестками. В камине горел большой огонь. На нем грелась совершенно новая сковорода; возле свежая, полная молодая девушка с шрамом во всю ширину лица, одетая в халате поэта, присматривала за жарившемся цыпленком, опустив на колени роман, вырезанный из какого-то журнала.
– Знаете… это решено, я сделаю для вас где-нибудь что-нибудь… я еще не знаю как… но мы поищем… я, может быть, кончу тем, что возьмусь за перо и выскажу мое мнение… я скажу тоже, что говорил и вам… В книге вашей много знания… Вы, вероятно, много видели на своем веку, но мало жили. У людей мысли только и могут являться мысли. Бальзак женился: это единственное приключение его жизни. Думается хорошо только в тишине и как бы во сне, относительно всего, что совершается вокруг вас. Волнения не годятся для упражнений воображения. Нужно проводить дни правильно, спокойно, нужно, чтобы все ваше существо пребывало в буржуазном покое, в сосредоточенности лавочника, для того, чтобы создать что-нибудь великое, прочувствованное, захватывающее, нервное и драматическое… Люди, обуреваемые страстями, живущие нервами, никогда не напишут страстного сочинения. Это старая история ученых, которые поучают: они разрушаются… О чем же я говорил вам… Да, мы должны вас поддержать… Нужно, чтобы ваша книга продавалась. Не скрою от вас, что это равносильно чуду. Дело идет о том, чтобы принудить человека, здорового душой и телом, к тому же серьезного, даже мудрого, одним словом, человека, умеющего отказать жене в обновке, принудить, говорю я, такого человека совершить нечто странное, фантастическое, безумное… Да, сударь, это разумное существо, которое Бог создал по своему образу и которое возвратило ему этот образ сторицей. Великое изречение, не принадлежащее мне, этот человек вынет из своего кармана трех франковую монету!.. Три франка! Бывают дни, когда готов отдать три миллиона за три франка… и отдаст ее за маленькую книжонку, одну из тех ужасных книжонок, которые современная типография печатает ногами, да еще обутыми в сапоги с гвоздями!.. Случилось это в силу какой-то тайны, быть может, какого-то неисследованного и необъяснимого колдовства… особого эпидемического поветрия, почем знать… но это еще ничего не значит. Хотя ваша книга и продана; нужно еще, чтобы она была разрезана… и наконец целая вечность между всем этим, чтобы она была прочтена! Человек с тремя франками купил ее, заплатил и унес с собой под влиянием какого-то сверхъестественного давления на его волю. Он возвращается домой и углубляется в самого себя. Ваше имя ему неизвестно, он не доверяет вам. Он знает себя, но не доверяет и себе; он страшно боится собственного суждения, он не привык самостоятельно мыслить, всякое мнение всегда представлялось ему национальной собственностью, чем-то таким, что все одолжают каждому… Заметьте себе, что человек этот являет собой публику: он вас ревнует, как может ревновать читатель автора.
И для того, чтобы в конце последней страницы читатель согласился бы, что у вас есть талант, вы должны пройти через все эти мытарства!.. Вот что делает книгу никуда негодным средством, глупой вещью. Оставьте книгу, займитесь театром: дело примет другой оборот. Прежде вы зависели от публики, теперь публика зависит от вас. Вы овладеваете её слухом, зрением, её слезами, смехом, её сердцем и чувствами. Перед вами толпа, масса и вы имеете то преимущество, что целое общество окажется менее глупо, чем один человек… Книгу ведь только и читают натощак, во время дождя, когда приходится ждать, чтобы убить время, вместо того, чтобы считать мух. Пиеса же захватывает, ласкает чувства после хорошего обеда, когда сидишь рядом со своей любовницей и чувствуешь прикосновение её платья… Наконец, там актрисы… очень хорошенькие пюпитры для вашей музыки… Ах! театр, честное слово, я ничего не знаю лучше театра!
– Да, чтобы достигнуть чего-нибудь, я согласен с вами; и я работаю кое-что. Но, не знаю!.. на этой почве, я чувствую себя не в своей тарелке: театр представляется мне похожим на белку в колесе… Ужасно трудно найти новые эффекты…
– Новые эффекты?.. Да вы не знаете театра после этого. Положим, вы берете какую-нибудь трагедию, все равно какую, ну, хоть Андромаху! Андромаху вы превращаете в продавщицу пиявок, а Пирра в испанского гранда в ссылке. Материнскую любовь вы заменяете тщеславием какой-нибудь табачной конторы… Превращение пиес, да это превосходное средство! Я даю вам состояние в руки… Мели, передай мне табак и папиросную бумагу. Послушай, бесполезно прятать лицо… повернешься ли ты вправо или влево, гость все равно увидит половину твоего шрама; с профиля он отвратителен, а в фас трогателен!.. Это, сударь мой, составляет один из эпизодов войны рабов, которая погубила Рим и погубит Париж! Мы не всегда служим себе сами, как случается нанимать себе слуг. Вот у нас служанка. Через неделю у неё появляется кузен, играющий на охотничьем рожке в моей кухне. Мели пробует заметить ему, что охотничий рожок не принадлежит к числу комнатных инструментов, что он хорош только вдали, как эхо и, хотя имеет свои права в современном обществе, но место его собственно в картинах Жадена… – Вот вам ответ, полученный от него Мели! Права человека, напечатанные на человеческой коже!.. Это конец мира. Право, мир гибнет. Пролетариат раздражен теориями; и, как говорит Франшемон: когда сталкиваются два класса, то низший всегда поглощает высший… Все состояния, подчиненные другим по праву, кончили тем, что фактически становились господствующими. В настоящее время адвокат подчинен доверителю, артист – купцу, архитектор – подрядчику, фермер – поденщику, литератор – издателю, а что касается хозяина… Скапен бил своего; но он соблюдал осторожность и подкладывал мешок: я жалею мешок!.. Мели, ты забываешь сковороду; присматривай, дочь моя, присматривай… Ах, плохое время! все портится, сударь… Наука делается методичной, нравственные верования и все вокруг нас обращается в машины! В былое время существовали хорошенькие кофейницы с хорошими формами, приготовлявшие кофе, как подобает живому существу; теперь их заменил химический прибор, сухой и серьезный как арифметика, математически варящий кофе… Прежде у нас была сонетка, которая имела свойства человека, сонетка означала первое движение гостя! она напоминала знакомый, немного надтреснутый голос, кричавший вам из-за двери: Возвращение! Любовь! старый друг или молодая грешница!..
Теперь его заменил колокол, английское изобретение, производящее механический и резкий звук, напоминающий удар бритвы о медную чашку, звук, ничего не говорящий ни вашему ожиданию, ни сердцу, ни надеждам: это будет великолепной сонеткой фаланстерии! Человекоподобие утрачивается во всем, это важный признак!.. Я надеюсь, что имею дело с человеком, не признающим жаркого сжаренного в печи?
– Я стою за вертел, – просто отвечал Шарль.
– Так я хотел вам сказать… Шарвен обещал мне статью за вас в своем журнале… Но, вы знаете, в нем никогда нельзя быть уверенным… Это не человек, а борода и какая борода! Шарвен говорит в эту бороду, ругается в нее и думает! Он уходит в эту бороду и выходит оттуда по временам! Его кредиторы никогда не отыщут его в ней, а друзья не всегда уверены, встретят ли они его там!.. Эта борода часто издает шум, но никогда не отвечает. Борода эта важнее его слов: она была дана Шарвену, чтобы скрыть его собственную!.. Ах, эта борода!.. Она все создала для него, его женитьбу, его журнал, его положение, одно время она играла роль политического мнения… Я вам говорю, что это сущее провидение, ширмы, убежище, стена! Эта чудодейственная борода, настоящая шапка-невидимка, или брови Юпитера, волоса Самсона и маска Сиейса!.. В минуту откровенности, Шарвен признался мне, что не променял бы свою бороду даже на очки!.. Вы знаете эту таинственную бороду?
– Шарвена? да… Это человек рассеянный, меланхоличный, скучающий и сонный, ни о чем не мечтающий и цепляющийся за все… Он представляется мне любопытным и характерным типом нашего века с его неограниченными, но затаенными желаниями, прикрывающим маской равнодушие честолюбие, грызущее его внутри…
– В этом есть доля правды, хотя и не совсем. Но я умею вызвать его из бороды… Я не дам ему покоя, положитесь на меня. Он может сделать все-что для романтизма, которому он порядочно обязан. Я употребляю слово романтизм единственно потому, что оно смешно… Угадайте-ка мою мечту, я побьюсь об заклад, что удивлю вас… Моя мечта – создать хорошую трагедию… да, настоящую трагедию, которая могла бы так назваться!.. Но жизнь так дорога, что я ее никогда не создам, и вечно буду лишь подымать занавес… За Ремонвилля я вам отвечаю, он познакомит с вашим именем и вашей книгой двадцать тысяч подписчиков своего журнала… Да, скажите мне пожалуйста, состоите вы членом литературного общества.
– Нет.
– Тем хуже.
– Почему?
– Для меня… Я покажусь вам, быть может, развратителем сословия избирателей… но я хотел попросить ваш голос, чтобы попасть в правление… О! не думайте пожалуйста, что это вопрос честолюбия… Как видите я болен, и возымел идею выздороветь, для этого мне нужны средства… Общество выдает мне открытые счета на аптекаря; но если бы я был в правлении, то выдавал бы их себе сам и был бы гарантирован в том, что это и впредь так будет.
– Я сожалею… – сказал Шарль, вставая, оборвал себя на полуфразе, крепко пожав руку Буароже. – Есть чувства, которые не высказываются словами ни у писателя, ни у солдата.
– Вы уже уходите? – сказал Буароже. – Во всяком случае, спасибо вам. Я навещу вас, когда понравлюсь. Мне интересно посмотреть вашу библиотеку, о которой мне говорили… Мели, проводи гостя… До свидания.
Шарль миновал две или три маленькие комнатки, через которые он вошел, и не смотря на короткий промежуток, он успел рассмотреть их, или вернее они бросились ему в глаза. Комнатки эти с многочисленными перегородками и дверьми походили на летние помещения, отдающиеся в наем в предместьях. Их пустота, едва скрытая кое-какой мебелью, полинявшей и поломанной, однообразными обоями, жалким ковриком на холодном полу, с разорванным чемоданом в углу, свидетельствовали о трудовой, кочующей жизни, тревожимой постоянными невзгодами и переселениями. Борьба, страдания и усилия пера, борющегося против материального недостатка, одним словом, все тягости жизни ясно читались на стенах этого случайного убежища.
В предместии св. Марселя, зимой, где-то под крышами, у холодных печей сидят, скорчившись за работой, дрожащие, едва прикрытые лохмотьями, маленькие девочки. Их маленькие, красные от холода руки быстро движутся. они делают букеты фиалок… Спускаясь с лестницы от Буароже, Шарль думал о том, что поэты имеют сходство с этими малютками и что мысли их тоже своего рода фиалки.