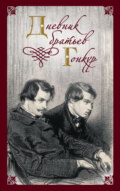Эдмон Гонкур
Шарль Демайи
LXXXIX
Доктор, позванный к Шарлю, принадлежал к тому, уже многочисленному разряду врачей, которые к болезням духа применяют и лечение духовное. Победить болезнь при помощи доверия и кротости, дружеским и снисходительным убеждением, не препятствуя в начале больному предаваться своим иллюзиям, не задевая его самолюбия, стараться вернуть и собрать в нем мало по малу остатки самосознания, ясного суждения, еще непоколебленных болезнью истин, здоровых проблесков мысли, затронуть и пробудить в нем все самолюбивые чувства, отвечающие разуму и заставляющие его бодрствовать; стараться дать больному почувствовать собственное безумие и, если возможно, отдать себе в нем отчет, действовать в физическом отношении осторожным лечением, как например теплые ванны, горчичники, в случае надобности пиявки. Такова была система этого доктора, таково же было и его лечение. Собственно говоря, в этой иллюзии слуха, иллюзии сумасшествия самой обыкновенной, но далеко не самой серьезной, он видел только временное помешательство, затмение умственных способностей как вследствие сильного нравственного потрясения, от которых время, возвращение к обыденной жизни и прежним привычкам и перемена места, могут вылечить больного, не оставив в нем никакого следа. Поэтому, окружив Шарля своими заботами, тихонько убаюкивая его разными проектами, он старался склонить его к большому путешествию по Италии, ища уже между своими помощниками по больнице самого веселого и кроткого спутника, для бедного больного. Шарлю было лучше. Но эта ужасная болезнь, болезнь сумасшествия, сама словно безумная. Она не подчиняется правильному ходу. Случайно увиденное лицо, воспоминание, вызванное неизвестно чем, физическое расстройство, какое-нибудь изменение во времени, наконец просто что-то необъяснимое, неуловимое для науки, как например, атмосферические влияния, подобные тем, которые в июле 1848 г. взволновали всех больных в Бисетре, словом, тысяча неизвестных причин действуют на нее и ожесточают ее. Внезапно, без всякой видимой причины, улучшение в состоянии Шарля усложнилось в худшему. Он начал снова слышать голоса еще более настойчивые и надоедливые. Он не хотел более отвечать на вопросы окружающих. Только мгновенные изменения в лице свидетельствовали о его понимании того, что ему говорил доктор и Франсуаза. Он вглядывался в даль широко раскрытыми от ужаса глазами. По целым дням сидел, облокотившись, сжимая одной рукой грудь, а другой поддерживая слегка запрокинутую голову, дрожа при малейшем шуме, неподвижный и боязливый, он напоминал собой скорбную статую страха…
Увы! он достиг того печального периода такого помешательства, когда бессознательная воля, охваченная отчаянием, уступает суровому выводу ложной идеи: он начал страдать манией самоубийства!
Уже несколько раз, созерцая проносившиеся белые облака в голубом небе, он вдруг начинал звать их, прося взять его в себе и уже заносил ногу за окно; его вовремя останавливали. Но за этими порывами, за инстинктивными призывами смерти и покушениями при удобном случае, вскоре наступали созревшие и определенные планы самоубийства, составление которых не ускользнуло от врача.
ХС
Предупредили жену Шарля. Шаванн, вызванный в Париж, примчался. Семейный совет учредил над Шарлем опеку, и больной был перевезен в Шарантон. Там ему дали отдельную комнату, особого слугу, самое дорогое содержание, словом, окружили Шарля роскошью и комфортом, каким только может располагать болезнь, не знающая нужды.
Первое впечатление, которое испытывает больной, перевезенный в сумасшедший дом, с решеткой у камина, с решеткой у окон, со множеством незнакомых лиц, в новую и сомнительную для него обстановку, перенесенный внезапно с театра своего безумия – из своего жилища, освобожденный от выражения скорби окружающих, встречая заботы и снисхождение там, где боялся найти что-то неизвестное, но страшное для него, это первое впечатление есть чувство полного удивления, делающего поворот в состоянии больного.
Вместе с тем является и смутное чувство страха, которое, умеряя нервное возбуждение, успокаивает больного и располагает его к пассивности, к послушанию, к исполнению предписаний доктора. Случается, что в первое время сумасшедший, в виду этого надзора, который он чувствует повсюду за собой, отступает от всякой попытки к самоубийству, заранее уверенный в её бесполезности.
Осунувшийся, с желтым лицом, сухими, воспаленными губами и беспокойным взором, Шарль оставался неподвижен в своем новом жилище. Он отрывисто отвечал на вопросы, по временам тяжело вздыхая и вскрикивал: «я хочу уйти отсюда!.. я хочу знать!..». Он трясся, вздрагивал при малейшем шуме, приходил в отчаяние в тишине, постоянно меняясь в лице, на котором то появлялось выражение жалости, то выражение ужаса и отчаяния; но он, казалось, оставил всякую мысль о самоубийстве и, хотя с большим трудом, однако добились того, чтобы он принимал пищу.
Система главного доктора относительно специально меланхоликов была та же, что и у первого доктора Шарля. Он был сторонником духовного лечения, если не исключительно, то в главных чертах; но изучением этой болезни по опытам, он пришел к заключению о необходимости ввести в лечение чувство боли, не как физическое наказание, а как нравственный двигатель. Мысленно приравнивая сумасшедших к детям, он думал, что наказания, столь необходимые в детском возрасте, и так благотворно действующие в первые годы жизни человека, должны быть применимы к сумасшествию, этому детству рассудка, который следовало вернуть в его прежнему состоянию возмужалости посредством сурового обуздания. Желая дать Шарлю время вернуться к своим привычкам, желая также заставить его ожидать своего посещения, расположить его к признанию над собой той власти, которая составляет главное оружие доктора против болезней этого рода, он думал дождаться конца недели, чтобы отправиться навестить больного, когда ему пришли сказать, что г-н Демальи решительно отказывается от принятия пищи. Доктор быстро вошел в комнату Шарля, взял чашку бульона и подал ему. Взмахом руки Шарль отбросил ее на середину комнаты. Доктор ничего не сказал Шарлю, спросил другую чашку и спокойно протянул ее Шарлю. Шарль решительно отвернулся.
– Я в отчаянии, – сказал ему доктор, – что вы заставляете меня прибегнуть к подобной крайности… Но, так как вы не хотите быть благоразумным, мне придется употребить силу…
– Как… силу?.. О!
И глаза Шарля угрожающе сверкнули.
– Зонд! – приказал доктор. Трое человек схватили больного, закинули ему голову и вставили зонд… Но Шарль с энергией и ожесточенным усилием воли, являющейся у всех меланхоликов, желающих умереть с голоду, постепенно выплевывал бульон. Между ним и тремя людьми шла борьба. Зонд становился опасен.
– Есть в резервуаре лед? – сказал доктор. – Снесите больного в залу.
Шарля положили в ванну, под кран самого сильного душа; началось холодное обливание.
Страдания Шарля должны были быть ужасны; он страшно побледнел, но не раскрывал рта. Доктор спросил, будет ли он есть. Шарль был нем. Он молчал минуту… другую… Наконец, при продолжающемся душе, он залился слезами и разразился криками и прерывающимся голосом заговорил:
– Зачем вы заставляете меня так страдать?.. Зачем?.. Что я вам сделал?.. Ах! я знаю, кто вы такой!.. Я сам читал медицинские книги, когда я начал бояться за себя… Вы доктор Хемрот! варвар Хемрот!.. и вы все тоже немецкие палачи!.. Я вас отлично понимаю! Для вас сумасшествие – это болезнь души, греховной души… Да, это ты проповедуешь, что для сумасшедших нужны наказания… ты говорил о грехе! ты говорил о наказании! Да, да, я отлично помню… и ты говоришь, что это потому, что люди забывают Бога, не имеют его всю жизнь перед собой… но я не забывал, я всегда помнил образ… Бога… всегда!.. Я не хочу, чтоб мне лили на голову, довольно!.. Я никогда не делал ничего дурного, честное слово, никогда!.. Это голоса, которые меня преследуют… Нет, вы не Хемрот… и вы не друзья Хемрота… нет, добрые господа… я вас прошу… ведь я же вам обещаю… я буду есть, слушайте, я буду есть!..
Когда Шарль вышел из ванны, ему принесли бульон. Он сперва отказался; но при угрозе повторить душ, он решился проглотить его. Новые сопротивления с его стороны вызывали то же наказание; и Шарль кончил тем, что стал принимать пищу.
XCI
Он был в ванне под ужасным душем. Доктор говорил ему:
– Нет ни одного слова правды в том, что вы мне рассказываете… За это вы и посажены сюда и вы не выйдете отсюда, пока вы не опомнитесь и не сознаетесь в этом самому себе…
– Вы хотите, чтобы я не слышал того, что я слышу? – тихо отвечал Шарль. – Очень хорошо… Я-то хорошо знаю, что я слышу; но вы не хотите, чтобы я об этом говорил… так как, по-вашему, это неправда… я постараюсь, я не буду больше говорить… но не слышать я не могу.
– Вы должны постараться не слышать.
И душ продолжался.
XCII
Заботы, строгий режим, искусное пользование, быть может, даже эти грустные исправительные средства, это усиление страдания, употребляемое в расчете на ослабление воображения, мало по малу, все это решительно, хотя и медленно, восторжествовало над болезнью Шарля. В своих беседах с доктором, обратившихся в приятные разговоры, Шарль, если и упоминал об «докучливых голосах», то только как о слышанном ему шуме.
Это уже не было положительное утверждение, но последнее, застенчивое, стыдливое сомнение, с которым доктору легко было покончить. Жизнь и тепло, день за днем, возвращались в это жалкое, похудевшее, разрушенное тело. Одновременно с этим физическим восстановлением, его, до сих пор порабощенная, воля, освобождалась от порабощения и от захвата всех своих способностей, получала вновь свои силы и свою личную жизнь, и начала действовать сознательно.
И морально, и физически Шарль освобождался от апатии, неподвижности, бессознательности и смерти. Упражнения вернули ему аппетит; всякая боязнь брюшных заболеваний исчезла, и полное выздоровление было уже в мыслях и надеждах доктора лишь вопросом времени; он видел, как больной уже начал подсмеиваться над голосами и как на губах его при этом появлялось что-то в роде улыбки, он стал проявлять интерес к вещам, не имевшим отношения к его болезни, и принялся читать, не испытывая этого утомительного явления зрения, которое при чтении громоздит одну букву на другую.
Шарлю, надо сказать правду, помогали и двигали его на пути к выздоровлению внимание и предупредительность всех окружающих. Его окружали одной симпатией. Все, даже самые закаленные, в этом доме, привыкшем к несчастью, отнеслись сочувственно к несчастью молодого человека.
Его помешательство, в начале такое бурное, а теперь тихое и серьезное, его молодость, его ласковая благодарность, его история, дошедшая сюда, хотя и не в полном виде, располагавшая к нему всякого человека с сердцем, также, как и его имя, которое было знакомо некоторым, благодаря его книге, все это завоевало ему расположение, дружеское сожаление и милосердие окружающих, возникающие в подобном положении вокруг несчастной жертвы. Весь этот сонм желаний и забот об его выздоровления, столько рук, которые, казалось, поддерживали и несли его по пути к здоровью, преданные и нежные заботы всего медицинского персонала, который, быть может, сам того не сознавая вкладывал в это лечение, помимо профессионального самолюбия, большую долю человеколюбия, все это играло немаловажную роль в борьбе Шарля с самим собой против иллюзий и отчаяния.
Шаванн, приехавший навестить его в конце зимы, нашел его настолько поправившимся, что хотел увезти его к себе. Но доктор, знавший по горькому опыту опасность возвратных заболеваний, и желая вернуть Шарля в полной свободе совершенно здоровым, посоветовал Шаванну обождать весны, настоящего времени для деревенской жизни, и наиболее благоприятствующего счастливому окончанию психических болезней. Пока же он освободил Шарля от всякого присмотра и почти от всякого режима. Шарль вел приблизительно образ жизни политического заключенного в больнице; и, соглашаясь сам с опасениями врача, он ожидал назначенного срока с благоразумием вполне здорового существа.
Улучшение прогрессировало; помощник главного доктора, привязавшийся в Шарлю, получил позволение брать его иногда с собой в Париж, гулять с ним и развлекать его, чтобы, так сказать, приготовить его и ввести на путь в свободе.
Однажды вечером они обедали у Бонвале; доктор говорил ему, что нет более причин держать его, что конец зимы очень хорош и он может, без затруднения, отправиться к своему другу; болтая, они очутились перед маленьким, освещенным театром на бульваре Тампля и доктор прочел в глазах Шарля такое сильное желание войти, что он взял ложу и они вошли. Они уселись вдвоем; взглянув на Шарля, доктор в первый раз увидел на лице Шарля оживление и возбуждение того человека, каким был когда-то Демальи.
– Я вам очень благодарен, доктор… Право, это прошло, совершенно прошло, я чувствую… У меня давно было это желание, но я не смел сказать вам об нем… Ах, как я счастлив! – И в глазах Шарля показались слезы.
– Я знал, что это прошло… Успокойтесь же, мой друг…
Но Шарль плакал, закрыв лицо платком, и эти слезы были ему так приятны, что он долго не глядел на сцену. Когда он, наконец, поднял глаза, на сцене была женщина; между ней и молодым человеком происходило объяснение в любви, довольно рискованное… В одну секунду кровь бросилась Шарлю в голову, глаза его страшно раскрылись, губы задрожали… Доктор хотел увести его.
– Нет, доктор, ведь я не сумасшедший больше, клянусь вам, я не сумасшедший!
Страшная дрожь потрясла все его тело… Доктор хотел взять его на руки и унести; но Шарль уцепился руками за скамейку и могучим усилием плеч освободившись от объятий доктора и выпрямляясь во весь рост, почти высунувшись из ложи, при всеобщем удивлении, он крикнул, указывая пальцем на актрису:
– Голос… голос изменницы!..
XCIII
Когда Шарля схватили, доктор услышал позади себя: – смотрите! это бедный Демальи! – Говорили, что он выздоровел… Он, вероятно, не знал, что его жена спустилась, из театра Gymnase, сюда?
Пришлось унести Шарля на руках. Он защищался ногами, руками и зубами, рвался, кусался и бился. В карете принуждены были его связать. Когда приехали в Шарантон, никакие самые сильные средства, начиная с кровопускания и кончая ужасной полосой до красна накаленного железа, прикладываемого к затылку, не помогли против овладевшего им приступа бешенства, против жажды разрушения, заставлявшей его обращать в мелкие куски все, что попадалось под руку.
За этим долгим и ужасным припадком последовал полный упадок сил. И несмотря на страшную слабость и истощение безумца, по временам у него все еще вырывались крики бешенства. Наконец, Шарль был не в состоянии произнести ни одного слова. Он не мог сделать движения, по которому можно было бы заключить, что он понимает слова других. Лицо его подергивалось судорогой, глаза были устремлены в одну точку и ничего не выражали, все тело было покрыто ссадинами; пульс слабый и медленный. Начиналась предсмертная дремота. Шарль Демальи умирал, освобождался от мучений!.. Но случилось чудо, чудо, заключавшееся в том, что он вдруг проснулся от своего сна и проснулся живой, он почувствовал жажду… Несчастный! он забыл слова, которыми выражают желание!
XCIV
Он остался жив. Он живет, как будто ему было предназначено до дна испить чашу искупления, испытав весь ужас унижения человеческой мысли. Он живет, представляя собой ужасный пример крайности наших печалей и отрицания нашей гордости… Все, даже названия предметов первой жизненной необходимости, на человеческом языке, все улетучилось из его памяти. У него нет прошлого, нет воспоминаний, нет времени, нет мысли! Нет ничего, что пережило бы тело; это бездушная масса, откуда изредка слышатся выкрикивания, нечленораздельные звуки, плач, смех, выражение, ни на чем не основанной, идиотской радости! Ничто не напоминает в нем человека, кроме этого тела, живущего одним пищеварением! тела, прикованного в креслу, бормочущего детским лепетом отдельные слоги и беспрестанным движением вздергивающего и опускающего плечи, и при виде солнца кричащего по звериному: кок… кок…. открывающего рот, когда ему приносят пищу и благодарно, по животному, ласкающегося к человеку, кормящему его.