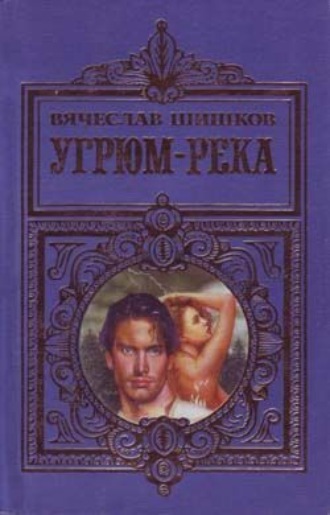
Вячеслав Шишков
Угрюм-река
– И что это вашему мужу в голову взбрело? Помните, как он разводил турусы на колесах, будто бы в его предприятия вложены тридцать миллионов? – грубо прерывает Арзамасова бывший шулер бурбон Приперентьев. – Ха! Тридцать миллионов... А попробуй продать, напросишься три...
– Простите, мсье Приперентьев... Спрячьте в карман свои нелепые выводы, – засверкала хозяйка глазами и бриллиантами вдруг задрожавших сережек. – Я и не думаю продавать предприятия мужа. Речь идет об отдаче их в долгосрочную аренду. И только...
– Хотя бы, хотя бы, – распустив свое толстое брюхо, кряхтел Приперентьев.
– Я бы советовал вам, если будет позволено, – говорит Арзамасов своим вкрадчивым голосом, сладко заглядывает в глаза Приперентьеву и с чиновной холодностью в сторону растерявшейся Нины, – я советовал бы вам, сударыня, подрядные работы немедленно закрыть, уплатив неустойку...
– Это нелепость, – прерывает дельца заместитель Протасова инженер Абросимов. – Подрядные работы, Нина Яковлевна, хотя и не в срок, а с большим запозданием, мы все-таки выполним. И вместо миллиона двухсот тысяч неустойки мы понесем убытку, может быть, всего тысяч... ну, скажем... тысяч двести, от силы – триста.
– Господа, – откинув голову, сказала Нина, взасос затягиваясь папиросой (за последнее время она стала сильно курить). – Все дело будет зависеть от успеха переговоров моих представителей с Московским банком и в Питере – с купеческим миром. Ежели нам удастся добыть оборотные средства, мы выплывем...
– Ха!.. Купеческим миром, купеческим миром, – продолжая по-хамски вести себя, подает реплику Приперентьев.
Юрисконсульт раболепно подхватывает мысль своего патрона и, угадав ее суть, развивает дальше:
– Извольте ль видеть, сударыня... Купеческий мир, да и вообще мир так называемых крупных дельцов, очень шаток, и мощь этого мира сплошь, почти сплошь под большим знаком вопроса. Например, был Рябинин, уж, кажется, туз, был Рябинин – и нет его...
– Как? Петр Герасимыч помер?!
– Нет, не помер, сударыня, а просто «крахнул». Захворал. Наследники – моты. А тут продолжительная забастовка, фабрики встали, а вскоре и с молоточка пошли. Словом... Как видите, сударыня...
Арзамасов сдернул со лба золотые очки и, как бы сочувствуя Нине, печально развел руками.
– Я, наконец, надеюсь, господа, – сказала взволнованно Нина Яковлевна, – что, после произведенной оценки наших затрат на прииск «Новый», вы расплатитесь со мною сразу, а не в пять сроков, как вы хотели бы...
– Простите, сударыня, – встал и расшаркался большеухий упырь Арзамасов. – По причинам, только что изложенным мною, мы этого сделать никак, никак не можем. У нашего акционерного общества почти весь капитал в обороте. Мы скупили прииски у семи золотопромышленников, мелких и крупных, мы развиваем дело в грандиозных масштабах, сударыня...
– Да, да... Вы развиваете, – вспылила Нина, и носовой платок в ее руках стал виться в веревочку. – Но вы не имеете права отбирать у меня золотоносные участки, открытые моим инженером!..
– Он открыл, а мы остолбили. Ха-ха... Не зевай! – подтянув и вновь распустив брюхо, брякнул нахал Приперентьев; ему было скучно, отечное лицо его смято, геморроидально, глаза подремывали.
– Да, сударыня. К сожалению вашему, а к нашему благу, мы в этом вопросе, простите, юридически правы. Закон на нашей стороне.
Понукаемый резким и властным взглядом хозяйки, вдруг с горячностью заговорил инженер Абросимов:
– Простите, господин Арзамасов! В этом грязненьком дельце вряд ли вы правы, даже юридически. О моральной же стороне вашего поступка не приходится и говорить. Это ничем не прикрытый разбой на большой дороге...
– Что-с, что-с?! – будто саблей в пол ударил голосом рвач Приперентьев, и губы его искривились в гримасе презрения.
– Постойте, дайте мне кончить! – по-таежному грубо крикнул инженер Абросимов. – Нам эти участки слишком дорого стоят. Во всяком случае, мы с вами будем по этому темному делу объясняться в суде.
Юрисконсульт Арзамасов, подперев подбородок сухим кулаком, сердито поджал тонкие губы и уставился на Абросимова, как на цыпленка ястреб-стервятник.
– Ой, проиграете, ой, проиграете, – нараспев, с торжествующей интонацией, протянул юрисконсульт. – Мы перенесем дело в Санкт-Петербург и... будьте уверены...
– Не знаю, не знаю, – замялся Абросимов. – Во всяком случае, у нас есть свидетели. А у вас кто?
– Какие свидетели? – бесцеремонно почесал себе спину и сладко зевнул во весь рот Приперентьев.
Этот невежливый жест показался хозяйке слишком нахальным. Взвинченным голосом, не в силах сдержать себя, Нина резко сказала:
– Вы, милостивый государь, спрашиваете, какие свидетели? Я вам отвечаю: горный инженер Александр Образцов, открывший те золотоносные участки. Вот кто! К вашему сведению, мсье Приперентьев... И вообще... знаете... Вам, кажется, хочется спать?.. Не желаете ль прилечь на диван?
– Нет, спасибо, – опять позевнув, ответил Приперентьев. – Но дело в том, что вышеозначенный инженер Образцов вчера подписал договор о переходе на службу к нам.
– Ах, вот даже как! – И щеки Нины вдруг покрылись красными пятнами. – Нет-с! Нет-с, – дважды пристукнула она в стол ладонью. – Золотоносные участки наши, они открыты нами, я их вам не отдам ни в жизнь!
– Были ваши, да сплыли, – пробасил Приперентьев, и пучеглазое лицо его сделалось злым. – Прииск «Новый» тоже когда-то был мой, а ваш благоверный оттягал его, ограбил меня... Вам известно это, мадам? Знаете, господа, сколько Громов давал мне за прииск? Тысячу рублей, ей-богу, ей-богу, ха-ха!.. А потом и так отобрал. Ну вот вам... Тогда он меня стукнул, а теперь я его. Вот и квиты, ха-ха... А вы, мадам, петушитесь. Напрасно, напрасно-с, мадам...
Тут вошел Тихон, на цыпочках приблизился к барыне и, поклевывая носом в драгоценную сережку, зашептал:
– Барин вполне приличны-с. Поставили возле кушетки стулья с креслами, а сами на кушетку изволили сесть. Рассуждают ручками и что-то негромко говорят.
– Надо бы Адольфа Генриховича...
– Будил-с. Запершись. Три раза стучал. Они завсегда очень крепко почивают...
Тихон уходит. Нина встает, говорит:
– Простите, господа... Я на одну минуту, – и тоже уходит. Утомленная, растерянная, Нина направилась в свой кабинет, горничная подала ей стакан холодной воды и портвейну. Нина села, закрыла глаза, стараясь призвать на душу спокойствие, но речи врагов все еще продолжали звучать в ее угнетенном сознании. Освежившись водой и портвейном, Нина погрузилась в раздумье... Как жаль, что муж ее болен. От одного его взгляда, наверное, смолкли бы эти разбойники. Он знал бы, что надо делать, он устранил бы опасность, он, как всегда, сумел бы и на этот раз стать победителем. Да, Прохор всесилен!..
И дальше – женская логика, идущая не от ума, а от сердца, пролагает путаный путь к инженеру Протасову. Ведь это он вел работы за время отсутствия мужа, ведь сколько ухлопано денег зря, на ветер, в угоду каким-то идеям и в непоправимый ущерб общим коммерческим делам. И вот результаты! Так неужели милейший Андрей желал просто-напросто под благовидным предлогом разорить все дела, чтоб насильственно вырвать ее из противной ему обстановки?
Тут мысль ее леденела, а сердце скакало вспотык по ухабам собственной раздернутой надвое жизни...
Она приказала горничной позвать инженера Абросимова. Смягчая свой обозлившийся голос, сказала ему:
– Вот что, господин Абросимов. Я твердо решила все глупые свои затеи бросить. Теперь не до этого. Баня недоделана, школа недоделана, и черт с ними! Завтра же все мои работы приказываю прекратить. Рабочих перевести на общее положение с прочими. А недовольных немедленно же уволить, без всяких послаблений... Поняли? А и хорош гусь этот щенок Сашка Образцов.
IX
В бухарском халате, в золотых туфлях Прохор Петрович сидит на кушетке, и против него – гости. Их много: званых и незваных. Они все еще слетаются, как на маяк ночные птицы, выплывают из воздуха, падают с потолка, будто акробаты в цирке, чопорно садятся в кресла, иные же – прямо на пол.
Прохор Петрович ничуть не удивляется: все так понятно, так просто. Он ведет беседу с призраками, как с живыми: ему с каждым и со всеми нужно переговорить, он сейчас в хорошем настроении. Вот только этот старый болван Тихон то и дело сует свою лысую башку в дверь кабинета. Прохор отлично знает, что Тихон фискалит Нине, поэтому, чтоб не подслушал хам, он продолжает беседовать с гостями шепотом, сдержанно жестикулируя, а когда хам заглядывает в дверь, Прохор смолкает, смиренно поджимает руки в рукава, ловко притворяясь, что в комнате нет никого, что кресла пусты и что ему, Прохору, просто пришла фантазия наставить мебель полукругом возле кушетки. Что ж, разве он не вправе сделать это?
– Могу я или не могу? Могу или не могу?! – кричит он на вошедшего Тихона.
– Так точно, барин, можете, – топчется непонимающе Тихон.
Сидя на кушетке и зорко наблюдая за Тихоном, Прохор думает: «Интересно знать, видит он моих гостей или нет? Или только прикидывается, что не видит».
– Ты не мешай мне, старый дурак. Не шляйся! – опять кричит он. – Видишь, я занят делом. Ведомости проверяю... Я один. Так и скажи ей. А доктора, ежели придет, гони в шею: гости у меня. Ступай!
Тихон, опустив голову, медленно проходит из кабинета в коридор.
...И проходят долгие сроки. В замкнутом мире больного время шло быстро – в галоп, в карьер: минуты неслись, как часы, часы вырастали в годы.
И грезятся Прохору в туманных обрывках картины минувшего, именно то, что лежит на душе его камнем. Вот видит – бурю огня. То тайга жарко пылает, и пламя грозится пожрать все дела его. Вот там, из угла, где часы, шагают толпы рабочих, шумят: «Предатель, клятвопреступник! Мы спасли тебя от пожара, ты всего наобещал и обманул нас!» То видит безумец картину расстрела. Выстрелы, выстрелы, залпы: рабочие падают.
– Стреляй их, подлецов, стреляй! – горланит рехнувшийся Прохор, вскакивает на кушетку; глаза в страхе и в злобе, волосы дыбором, его треплет дрожь, он сплевывает густые, одолевающие его слюни.
Но вот, пых-трах: мрачная картина гаснет.
Юбилейный, какого мир не видел, бал. Блеск хрустальных люстр, изысканная пышность туалетов. Могущественный Прохор Петрович, скрестив руки на груди, говорит торжественное слово. Широко открыв глаза, болящий Прохор молча любуется собой, произносящим речь.
– Глядите, глядите, – шепчет он сегодняшним гостям и тычет пальцем в пустоту, в себя – другого. Он любуется собой со стороны.
– Видите, он во фраке, в сорочке, он чисто вымыт, от него пахнет духами. Борода его подстрижена, и щеки выбриты... Вот, господа, каким я был... А теперь... а теперь я... грязный. – В его глазах горькая жалость к себе. – Слушайте, что говорит тот Прохор, настоящий... Не я, а тот. Слушайте, слушайте...
Прохор Петрович – во фраке – задыхался от слов, от мыслей, от бурных ударов сердца. Задыхался и Прохор – в халате – от терзавшей его болезни.
– Ровно чрез десять лет, – говорит величавый Прохор Петрович во фраке, – я сумею взойти на вершину славы и могущества. Я буду полным владыкой этого края... Но я чувствую: смерть идет на меня. Не хочу умирать!
«Умрешь, умрешь!» – закричали стены, закричали окна, потолок. «Умрешь!» – закричали гости. «Убивец! Клятвопреступник! – вскочил со стула гость-отец и застучал в пол палкой. – Смерть ему!» Подобрав полы халата, Прохор спрыгнул с кушетки, зашатался как пьяный.
– Эй, Шкворень, исправник, казаки! Гоните всех вон. Я здоров... Жгите это логово помешанных!.. Нина, доктор!
В мозг безумного Прохора вломилось сознание: он окинул здравым взором пустынный кабинет и никого не нашел – ни гостей, ни отца.
– Господи! Что же это? – резким стоном разорвал он глубокое молчание, простирая вперед руки. Он искал Нину, искал живого человека, но кругом – пустыня. – Боже мой, Боже мой! Какая галиматья лезет мне в башку! Галлюцинация, вздор, виденица.
В ответ – визгливый, раздернутый хохот, подобный ржанью жеребчиков, и – шорохи, а в шорохах – верезг осы.
Мозг Прохора Петровича сгорал, распадался. Сумбурная злая нелепица в его воображении крепла.
Безумец, в предчувствии какой-то беды, напряг душу, прижался к стене. И вдруг увидал – пересекая простор, к нему быстро полз небывало огромных размеров удав. Черная с желтыми пятнами кожа осклизла, лоснилась сыростью. Прохор съежился, замер. Глаза злобного гада взъярились; молниеносно он бросился к Прохору, вскинул тупую башку к лицу человека, дыхнул смрадом и кашлянул. Прохор выкрикнул: «Ай!», не помня себя, ударил удава по морде и бросился к двери, к другой, к третьей; но все двери мгновенно скрывались; он – к окну, он – к другому, исчезали и окна. А змеища поспешно за ним: вот схватит, вот схватит... «Люди, Тихон!» С пронзительным воплем, подобным визгу свиньи под ножом, Прохор кидался на стены, бежал, падал, бежал, опрокидывал мебель. Наконец изнемог, повалился, как падаль, в ряд с мертвецами: весь пол кабинета покрыт смердящими трупами. От трупного запаха Прохору сделалось тошно. Возле него с простреленной грудью распростертый Фарков. – «Старик, страшно мне, страшно!» – Тихий Фарков ударил Прохора взглядом, угрюмо зажмурился, молвил: «Ребята, подвиньтесь чуть-чуть, дайте местечко хозяину, ведь он расстрелял нас». Прохор с разбегу вскочил на кушетку, забормотал перхающим голосом:
– Господи! Виденица... Что за вздор! В кабинете... покойники... Тихон! Микстуры! Горчичников!.. Ванну!
Но ветер гулял, хлопали окна, шалили сумбурчики, стужа лезла под рубаху, под кожу, под череп Прохора Громова.
Со всех сторон пер, нарастал потрясающий ужас.
Вот топот, и ржанье, и звяк копыт: ворвался табун бешеных коней и скачет по трупам прямо на Прохора, скачет, храпит, ржет, скалит железные зубы. И – прямо на Прохора! Вот стопчут, раздавят. Надо пятиться, пятиться прочь, иначе – от Прохора – дрызг, и мозг вылетит. Но пятиться некуда: сзади стена.
Прохор Петрович дыбом на кушетке, руки раскинуты в стороны, он как бы распял себя на стене, затылок хлещется в стену. А кони все скачут, – их сотни, их тысячи, – скачут вперед и назад, вперед и назад и, повернувшись, мертвою лавой прямо на Прохора... Сме-е-рррть!.. С грохотом, с визгом бьют копытами воздух, грызут удила, вот стопчут, вот стопчут, от топота стонет-трясется весь мир. И нет пощады безумному Прохору – сзади стена!..
Так где же, так где же спасение?
Прохор стоял на грани могилы: он терял жизнь и сознание. «Спасите, мне страшно», – шептал он сухими губами. Хоть бы глоток студеной воды, или воздуху, или хлопнул бы кто-нибудь дверью. «Милая, милая мама...» Но все двери исчезли, а матери нет, и нет ниоткуда защиты.
– «Батюшка барин, очнитесь, – послышался веселенький, словно бубенчик, голос собачки. – Не бойтесь, пожалуйста, это я, собачонка. Тяф-тяф».
– Клико, это ты?
– «Так точно. Я самая. Тяф!.. Барин, голубчик, не бойтесь: жизнь ваша кончена. А к вам идут родные-знакомые ваши. Тяф-тяф-тяф...»
Тут собачка Клико подъелозилась к Прохору, заюлила, заползала, успела лизнуть в опаленные губы, и в сердце, и в свихнувшийся мозг... Ей стало вдруг скучно, ей стало вдруг страшно (так грезилось Прохору), она мордочку вверх, поискала слезливую ноту, завыла тоскливо и жалобно. Он взглянул на нее, восскорбел, запрокинул кудластую голову, содрогнулся и тоже завыл. Так выли в два голоса человек и невидимый песик. Гортань человека сотрясалась звериными хрипами, волосатый рот полон слюны, сбитой в пену, пена запачкала бороду – умирающий зверь, лишенный рассудка, издыхал навсегда в бывшем Прохоре Громове. «Вечная память, вечная память, – выскуливал жалкий невидимый песик, – батюшка барин, идут...»
Портьера задергалась, вход в другой мир распахнулся. Прохор Петрович вдруг ожил, передвинулся жизнию в жизнь. Вошли Нина и доктор, и другой доктор, и отец Александр, и старенький попик Ипат верхом на шершавой кобылке, весь в снегу, – должно быть, «брал город». Нина в белом, со звездою во лбу. Отец Александр в горящем, как небесный закат, облачении. А сзади вошедших, замыкая просторы, когда-то убитые Прохором, ныне ожившие рабочие, и убитый Константин Фарков, и убитый дьякон Ферапонт, и тот самый губастый парень ямщик Савоська, которого убил Прохор не топором, а мыслью, желанием убить его.
– Братцы, простите меня... – сказал Прохор Петрович, борода его затряслась, по желтым щекам – градом слезы.
Эти слова родились не в уме, а в сердце бывшего Прохора; они шли от самого сердца, они как бы светились голубоватыми вспышками. «Братцы, простите меня...»
– «Милый Прохор!» – нежным голосом, как шепот степных ковылей, сказала Нина. Припав к ее плечу, Прохор тихо завсхлипывал. Он уже успел позабыть только что пережитое: пред ним лишь Нина, лишь распятая жизнь его, пред ним последние, самые страшные, самые тихие грани безумия. – «Милый Прохор, начинай жизнь по-новому».
– Нина! Мне нет новых путей... Лишь бы найти хоть поганенький выход. Эх, жизнь!.. Нина! Я все отдаю тебе... Все, все, все. Ничего мне не нужно, ни славы, ни богатства. Ой, дайте мне воздуху!.. Трудно дышать... Окно! Окно! Воздуху!.. – Прохор облизнулся и сплюнул. И все облизнулись, все сплюнули.
– «Иди за мной», – сказала Нина и чрез окно, как легкое видение, выпорхнула на улицу, подобно крылатой птице. Как неуклюжий медведь, вылез за нею и Прохор.
– Нина, родная, душа моя! Зачем ты сделала меня безумным?
– «Ты с башни передашь мне все, милый мой Прохор».
И вот идут торопливо, взявшись за руки. В душе Прохора боролись глубокие противоречия, но он теперь не замечал их глубины, и мысль скользила по ним, как по плоскому зеркалу. Он шел бездумно, подобно лунатику.
В небе месяц, в мире ветер. От месяца светло и жарко, от ветра веют полы халата, и одежды Нины вздуваются, как парус.
– Нина...
– «Не надо Нины... Не зови, не ищи... Я верная твоя Анфиса».
И видит Прохор – рука в руку идут они с Анфисой. Он видит прекрасную ее голову с тяжелыми косами льняных волос. Голова голубеет, брови чернеют, из виска на рубашку – кровь.
Было без двадцати минут три. А они уж на самой вершине башни. Умирала ночь. За горизонтами готовилось утро. Прохор дрожал холодной дрожью. Холод кругом и сияние жаркого месяца. В душе пожар, в душе горит тайга и не сгорает.
Под Прохором, стоявшим на башне, лежал весь мир и протекала угрюмая Жизнь-река. Над Угрюм-рекой, как белые бороды, трепетали туманы. Прохор глянул вниз, и голова его закружилась.
По берегам реки – люди. Они махали фонарями, невнятно переговаривались между собою.
Слышит глазом, видит ухом – мелькают во тьме фонари, люди кого-то ищут.
– «Бросайся со мной вниз, к людям, – шепчет сладко Анфиса, и меж обольстительных губ сверкают в улыбке белые зубы. – Бросайся... Ну!»
– Зачем, зачем?.. – стонет безумный Прохор.
...– Зачем все это, зачем?.. – в отчаянье говорит и Нина, поспешая по следу мужа.
И голос отца Александра:
– Кто в тяжком горе может утешить, кто может ответить на вопрос: зачем, зачем? Даже у тех нет ответа, кто горячо любил. – Отец Александр взмахнул фонариком и надбавил шагу. – А вы, простите меня, дщерь моя, не чувствовали к супругу своему любви духовной...
– Неправда! – болезненно, в смертельной тоске выкрикивает Нина. Гнет страданий плющит ее в лепешку. Она хочет сказать отцу Александру многое, многое, что в ее сердце, но не может.
Она едва довела ночное заседание и, вся разбитая, полчаса тому назад вошла в свою спальню. И там, при лампадах, вдруг осенила ее неизъяснимая нежность к несчастному Прохору. Ей вдруг стало страшно жаль его, так жаль, как никогда, никогда она не жалела!
И эта высокая любовь, и скорбь, и жалость повергли ее в прах перед иконой. Не имея сил облегчить свою боль слезами, она припадала лбом к полу, крестилась, громко читала молитвы. Но они лишь шумели словами, как подсохшими листьями, они не трогали чувств, они были бесплодны.
И вот стук в дверь... Сразу выросший страх подхватил ее с земли, как пушинку, и, вся обомлев, она в беспамятстве кидается навстречу резкому стуку доктора.
– Скорей, скорей, Нина Яковлевна! Дело швах... Прохор Петрович скрылся.
Окно в кабинете настежь, лакеи спят. Свалил сон и внезапно захворавшего старого Тихона.
– Люди!
И быстро во все стороны, кто куда, с фонарями: в проулки, к тайге, по дорогам и к башне.
– Туфля! – радостно вскрикнул Илья Петрович Сохатых. В такие минуты смятения он забыл про свои неудачи с крестинами сына, в такие минуты он всем и все простил. – Золотая туфля Прохора Петровича! – нагнулся, подобрал туфлю и, поблескивая фонариком, услужливо показал ее Нине.
– Надо предполагать, что болящий на башне, – умозаключил отец Александр. – Поспешим.
– Господи! Значит, он босой... В одном халате... – леденея от осеннего холода и душевной оголенности, теряла слова Нина.
– Прохор! Прохор!! – вопрошала она сумрак отчаянным голосом.
Шли поспешно, вздыхали, громко покашливали, чтоб сбить тугое молчанье природы.
Их неожиданно нагнал мистер Кук. Он трезв и встревожен. С ним, видимо, случилось несчастье. В его руке фонарь, в карманах два револьвера, патентованные пилюли против икоты и срочная телеграмма. Тусклый свет фонаря и голубоватые волны луны освещают его растерянное лицо. В прищуренных глазах отблеск душевной муки, в крепко сжатых прямых губах – решимость.
– Миссис Нина! О, какой самый огромный ваше несчасть... Вам очшень трудно путешествовать в такой потьме. Разрешайте, – нервно, приподнято сказал мистер Кук и взял Нину под руку.
– Спасибо, друг мой, – благодарно и грустно ответила Нина, ускоряя свой шаг. – Эта ночь для меня прямо ужасна. Все думаю: «Это сон, это сон», – и никак проснуться не могу.
– Миссис Нина! Я с этой момент больше не американски подданный, я ваш подданный до самая смерть.
– Благодарю вас, милый Кук... Спасибо, спасибо.
– Я самый близкий дня должен ехать в Нью-Йорк. Я только что получил эстафет, мой мамашенька очшень больной. – Мистер Кук передохнул, густые рыжие брови его взлетели на лоб, он выпучил в голубоватую тьму глаза и, ничего не видя перед собой, захлебнулся словами: – Миссис Нина! Я накопил здесь двадцать тысяч рублей. Половину всего я завтра же, завтра же передаю в ваше распоряжень для бедная народа. О да, о да!.. Решенье мое непоколебим... – Порывисто задышав, он повернул лицо к Нине: – Миссис Нина! Я вас незабвенно люблю... Как чистейшую, очшень лючшую женщин, как... как... как...
Нина необычайно удивилась. «До чего легко он... Половину всего, что накопил таким большим трудом». И больно упрекнула себя.
– Дорогой, хороший Кук! Я вас тоже люблю, давно люблю искренне. И спасибо вам за щедрое пожертвование ^ваше. Спасибо, милый мистер Кук! Вот только бы Бог помог найти поскорее моего несчастного Прохора. О, Боже мой!.. Я схожу с ума...
У мистера Кука задрожал подбородок. Он осторожно высвободил руку и вытер платком мокрые от слез глаза.
– Миссис Нина, – сказал он сорвавшимся голосом и почему-то покачал фонарем. – Надо надеяться, что мистер Громофф вполне благополученный... И надо надеяться, мы никогда, миссис Нина, больше не встретимся с вами. О, это совсем ужасно! – Уронив фонарь, мистер Кук приостановился и закрыл лицо холодными ладонями.
Нина Яковлевна растрогалась. Ее согревало живое участие к ней мистера Кука.
– Не печальтесь! Пойдемте скорей: мы отстали, – надсадно вздохнув, сказала она.
Три фонарика щурились впереди. Со стороны поселка вдруг послышался дружный, затушеванный расстоянием лай собак.
– Опять туфля! Вторая! – еще радостней выкрикнул Илья Сохатых, словно он сорвал с пана Парчевского крупненький карточный куш.
Башня перла к небу. Из каморки пушкаря с деревянной ногой долетал сонный, трескучий храп. Медная пушка, тускло светясь под месяцем, скалила в небо черный, глупо улыбчивый зев.
В башне темно. На самой верхней, открытой площадке башни – Прохор Петрович.
– Зачем мне бросаться? – шепчет Прохор самому себе. – Я жить хочу! Разве ты не видишь, что создано моим гением?.. – И снова повел он по пространству рукой.
Перед ним тек горизонт. И там, где-то в сферах, вставали, закатывались, уходили в ничто дни и дела Прохора.
– Надо жить так, чтоб горизонт твоих дел становился все светлее, все выше. Но жизнь твоя кончена, – шептал сам себе Прохор, а может, – Анфиса.
Призрак черкеса грозно, пронзительно глядел в глаза Прохора Громова. Призрак мрачно молчал, лишь кинжал чуть-чуть шевелился в руке его. Прохору скоробило спину морозом. Холодный пот облил все тело, и на впалых висках поднялись седые вихры.
...И вдруг там, у подножия башни, где фонари, узывчивый, такой родной голос:
– Прохор!
– Иду! – облегченное и радостное донеслось к Нине с неохватной высоты башни.
Час свершен, трепет и ужас исчезли, жизнь человека пресеклась.
Было без пяти минут три. За горизонтом зацветало утро. Выл осиротевший волк. Верочка улыбалась во сне.
По Угрюм-реке шел тонкий стеклянный ледок.
Угрюм-река – жизнь, сделав крутой поворот от скалы с пошатнувшейся башней, текла к океану времен, в беспредельность.







