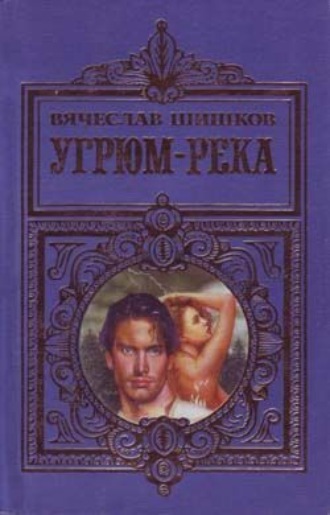
Вячеслав Шишков
Угрюм-река
XIII
Телефонный звонок.
– Господин прокурор просит вас пожаловать к нему на квартиру.
– Скажите прокурору, что я чувствую себя плохо, прошу его приехать ко мне. Сейчас будет подана за ним лошадь.
Широкоплечий приземистый прокурор Черношварц, похожий на моряка в отставке, вдвинулся в кабинет Прохора Петровича тяжелою походкою. Дряблое лицо его пепельно-желтого цвета; под глазами большие, смятые в морщины, мешки. Во всей фигуре – раздраженье, гнев. Небрежно подал руку, сел, погрозил Прохору крупными, утратившими блеск глазами. Прохор не испугался, Прохор сдвинул на лбу складки кожи, пронзил прокурора взглядом. Прокурор попробовал нахмурить лоб, но вдруг дрогнул пред силой глаз бородача и отвернулся.
– Я к вашим услугам, – чтобы вконец смутить чиновника, почти крикнул довольный собой Прохор.
– Да! Вот в чем... – выпалил басом слегка оробевший прокурор. – Сообразно директивам пославшей меня власти, а также в интересах рабочих, отчасти же и в ваших интересах, я должен вам, милостивый государь, сказать следующее... – Прокурор сморщился, схватился за дряблую, припухшую щеку и почмокал.
– Что, зубы?
– Да, проклятые!.. Дупло.
– Не желаете ль коньяку? Радикальное средство.
– Нет, спасибо. Бросил... Аорта, понимаете. Смертельная болезнь. Воспрещено. Строжайше. Ах, проклятые!..
– А вы попробуйте пренебречь запрещением, – с насмешливостью сказал Прохор. – Если ограничивать себя лишь дозволенным, рискуешь обратиться в нуль, и жизнь покажется тюрьмой: того нельзя, этого нельзя. Я сам себе запрещаю и разрешаю.
– Да. Ваша логика, простите, весьма примитивна. Это логика людей мертвой хватки, простите. На эту тему я как раз обязан с вами, милостивый государь, поговорить. Кстати замечу, что я испытываю некоторую неловкость вести разговор в вашем кабинете, а не...
– Простите, господин прокурор, но я ведь передал в телефон вашему чиновнику, что я болен...
– Ах, да! Доктор запретил вам выходить, но вы разве не могли, по вашей же теории, пренебречь этим запрещением? Ясно. Вы делаете только то, что выгодно вам. Итак, вот в чем... – Прокурор опять схватился за щеку и, припадая на правую ногу, забегал по комнате.
Из граненого графина Прохор налил в две серебряные стопки дорогого коньяку и достал из шкафчика тонко нарезанный лимон. Прокурор любил выпить, у прокурора пошла слюна.
– Прошу. Кажется – Василий Васильич?
Прокурор сморщился в убийственную гримасу, застонал и, отчаянно взмахнув рукой, опорожнил серебряную стопку.
Прохор посмотрел на него смело и нахально:
– Помогло?
– Не знаю. Как будто.
Пауза.
– Итак, совершенно официально... На ваших предприятиях, милостивый государь, наблюдается сплошное нарушение обязательных постановлений правительства от двенадцатого июня тысяча девятьсот третьего года. Вы знакомы с этими постановлениями? Вот они-с... – И прокурор, выхватив из кармана форменной тужурки большую брошюру, потряс ею в воздухе. – Да-с!.. Прочтите: жилые помещения для рабочих должны быть светлы, сухи, оконные рамы непременно двойные, и так далее и так далее. А у вас что? Не жилища, а могилы. Кто вам разрешил строить так, как вы строили?
– Я.
– Вы подлежите за это ответственности. Люди не скоты. Я настаиваю, чтоб все бараки были перестроены. Слышите, милостивый государь, я настаиваю...
Прохор улыбнулся в бороду, наполнил стопки, сказал:
– Я сразу этого сделать не могу.
– У рабочих нет на руках расчетных книжек. Они не знают, сколько ими заработано денег. Где эти книжки?
Прохор опять сдвинул брови, но тотчас же, мягко улыбнувшись, сделал легкий жест рукой:
– Василий Васильич, прошу.
Прокурор схватился за щеку, застонал и выпил. Пепельно-желтое лицо его стало розовым, глаза приобретали блеск.
Длительная пауза. Прохор ходил по кабинету.
– Расчетные книжки находятся в конторе. Это упущение. Я много раз говорил, теперь прикажу раздать их рабочим.
– Пожалуйста, Прохор Петрович, пожалуйста, – сказал прокурор обмякшим басом.
Вновь молчание.
– Действует?
– Действует, – сказал прокурор. Он по-орлиному насупил густые брови и стал похож на Бисмарка.
Прохор вновь налил стопки.
– Я вас, Василий Васильич, внимательно слушаю.
– Да! – И прокурор, грозно вскинув палец вверх, задвигал бровями. – Вы плохой король в своем государстве, извините за выражение. Ваши подданные стонут от ваших сатрапов и от вас самих. Я знаю... Вы...
– Простите, господин прокурор. Если мне во всем мирволить своим подданным, то я сам обратился бы в плохого подданного своего государя. А я смею думать, что кой-какую пользу нашему отечеству приношу...
– Да, да! Да, да! Кто же это отрицает? Но вы нарушаете установленные правительством нормы работ. Вы совершенно обесцениваете труд, рабочий день у вас чрезмерен, жилищные условия из рук вон плохи, обсчет, обмер рабочих, тухлые продукты и... простите... какой-то... какой-то... извините за выражение, какой-то невыразимый... этот... этот... – Прокурору неудержимо захотелось выпить, он схватился за щеку. – О, проклятый!..
– Прошу вас.
Прокурор застонал, выпил и закусил лимоном. Стал с интересом рассматривать картину Шишкина, большие елизаветинские часы.
– Да-с! – воскликнул прокурор и, подойдя к Прохору, загрозил ему скрюченным пальцем. – Я настаиваю на этом. Да-с, да-с, да-с... Вы немедленно должны пойти на уступки. Прибавка рабочим двадцати пяти процентов платы, увольнение Ездакова, реорганизация всего дела, возвращение Протасова, да-с, да-с, да-с, прошу не возражать. Вообще вы должны все это проделать завтра же, завтра же!
Прохор открыто засмеялся в лицо прокурору, налил коньяку, сказал:
– Вы, Василий Васильич, очень легко, даже до смешного наивно желаете распоряжаться моими делами и моими капиталами. Да кто их наживал, позвольте вас, господин прокурор, спросить: вы или я?
– Совершенно верно, вы. Но в этом вам помогали и рабочие. На семьдесят процентов, может быть.
– Ах, так? Ну, тогда конечно. Прошу.
Выпили. Прохор налил еще.
– Действует?
– Действует, – сказал прокурор. – Зуб успокоился.
Глаза прокурора слипались, нос навис на губы.
Длительная пауза. Прокурор стал слегка подремывать.
– Василий Васильич! Дорогой мой... – Голос Прохора весь в зазубринах. Прокурор приоткрыл глаза. – Я имею сильную, весьма сильную заручку в Петербурге. И члены Государственной думы и даже кой-кто из министров. (Прокурор приоткрыл глаза шире.) Вы не забывайте, что я один из крупнейших капиталистов России. Поэтому, милый мой, давайте лучше жить дружно. Я половину этих рабочих уволю, другая половина останется. На днях придет новая партия в четыреста человек, и чрез неделю у меня будет избыток в рабочей силе. Голодной скотинки на наш век хватит. Но я от своего принципа не отступаю. Я даю народу минимум, беру максимум. И потом – если я уступлю сегодня, то вынужден буду сделать это и завтра и послезавтра... Коготок увяз – всей птичке пропасть!
– Да-с! Я вас вполне понимаю, – окончательно проснулся прокурор и выпил пятую стопку коньяку без приглашенья. – Да-с... Но я обязан действовать в контакте с губернатором. И вообще... и вообще... такова воля его превосходительства. Что? Он ждет мирного окончания забастовки. Что?
Прохор открыл средний ящик письменного стола.
– Я дам его превосходительству исчерпывающие объяснения. Я уверен, что он меня поймет. А это вот вам. – И Прохор Петрович вручил прокурору запечатанный пятью сургучными печатями пакет.
– Что это?
– Десять тысяч.
Прокурор побагровел, выпучил глаза, затряс, как паралитик, головой и, размахнувшись, швырнул пакет Прохору в лицо:
– Как вы смели! Взятка?! Подкуп?! Я вас прикажу арестовать. Сейчас же! Немедленно же!..
Прокурор крепко зашагал к выходу, схватил стоявшую возле камина крючковатую свою палку и, хлопнув дверью, вышел.
У Прохора зарябило в глазах.
Выселение рабочих властью прокурора приостановлено. Пристав не знал, как себя вести. Растерялся и судья. Пристав пришел к судье совещаться. Оба напились в стельку. Рабочие собирались идти к прокурору всем народом.
Прохор личного ареста не боялся, считал такой акт совершенно невозможным. «Прокурор дурачина, – думал он, – на него действует лишь коньяк, взятка не действует». Выбитые из колеи ум и сердце Прохора требовали встряски.
Направился к Наденьке. Пристава нет. Сидели долго, до седого вечера. Говорили с расстановкой, вдумчиво. О чем говорили – неизвестно. Знал лишь волк. Прохор давал Наденьке какие-то инструкции. Наденька утвердительно кивала головой.
– Поняла ли?
– Поняла... Все выполню.
Ночью, при участии ротмистра, в поселке и бараках произведены новые аресты. Попался и Петя Книжник.
Ночью же, приказом прокурора, арестован Фома Григорьевич Ездаков. Прокурором был подписан ордер и на арест рыжеусого заведующего питанием Ивана Стервякова, но тот, опасаясь мести рабочих, дня три тому назад удрал в тайгу.
Народ чем свет узнал об аресте своего заклятого врага Фомки Ездакова и об обыске в квартире Ивана Стервякова, жулика и прощелыги. Рабочие, совершенно разобщенные с забастовочным комитетом, по близорукости своей вообразили, что прокурор целиком на стороне народа.
– Братцы! Прокурор за нас.
Так думала и Наденька. Наденька действовала. Ее дружки сидели в каждом предприятии, знали, как вести себя. Наденька с головой вбухалась в крепкие сети Прохора Петровича. Это роковое влияние громовщины господствовало всюду: в него попадал всякий, кого ловила на жизненном пути удавка Прохора. Так, возвращался в резиденцию Андрей Андреевич Протасов; переводился под конвоем в село Разбой, по соседству к Шапошникову, бывший прокурор Стращалов, ныне ссыльнопоселенец; выехала домой Нина с дочкой Верочкой; выиграл в Питере большие деньги поручик Приперентьев и через взятку обдумывал поход на золотой прииск Прохора; мечтал вновь попасть на службу к Прохору Петровичу злополучный инженер Владислав Викентьевич Парчевский, до сих пор влюбленный в Нину. Все они, эти люди, так или иначе соприкоснулись своей судьбой с жизненными путями Прохора.
XIV
– ...Носятся разные провокационные слухи, – выходя из дому, сетует отец Александр отцу Ипату и хватается за голову. – Сюда идет мирная толпа... Боюсь... Не знаю, что предпринять.
– Смиренно лицезреть... Что можем мы предпринять против властей предержащих? Мы бессильны, – трясет головой толстобрюхенький отец Ипат.
– ...Разика два-три пальнуть будет весьма полезно, – говорит офицер Борзятников офицеру Усачеву.
– Да, конечно, – отвечает толстяк Усачев. – У вас, кажется, опыт был.
– У меня нет, а вот у ротмистра – да. Девятого января в Питере орудовал.
– Вы не позволите! Вы не посмеете этого!!! – кричит в телефон Кэтти.
– Милая Кэтти, успокойтесь, – тихо отвечает ей Борзятников. – Все произойдет как надо.
...И еще четыре звонка жандармскому ротмистру, ранним утром – тревожные, с четырех разных пунктов.
– Рабочие нашего участка сегодня собираются идти в поселок подавать прошение прокурору. Не верьте им, ротмистр. Они идут, чтоб обезоружить солдат, убить начальников, произвести погром и грабеж.
И с второго, и с третьего, и с четвертого пунктов почти слово в слово. Это говорили четыре провокатора в четыре жутких голоса. Смысл этих слов был внушен им Наденькой, а Наденьке – Прохором Петровичем. Ротмистр несколько перетрусил. У ротмистра сразу испортился желудок. Ротмистр объявил солдатам:
– Будьте, братцы, начеку. Я имею сведения, что толпа придет сюда обезоружить вас и растерзать.
Прокурор смертельно болен. Угрожала аорта. Вчерашняя стычка с Прохором и коньяк сделали свое дело. Возле прокурора врач. Ротмистр приводит свои доводы. Прокурор отмахивается рукой, задыхаясь, говорит:
– Вы, ротмистр, теряете самообладание. Рабочих можно остановить и не стрельбой. Я заявляю вам – я против... Впрочем, если у вас неопровержимые данные и раз вам вверена власть чуть ли не Петербургом...
– Вот телеграмма...
– В таком случае действуйте, конечно, на свой страх и риск... Я очень, очень болен. Я умываю руки.
...Встретив доктора, жандармский ротмистр спросил его:
– Слушайте, Ипполит Ипполитыч, а как у вас насчет перевязочных средств? Предлагаю вам экстренно все привести в порядок: койки, операционную, медицинский персонал... К завтрему чтоб...
– Слушаю-с. А, смею спросить, зачем?
– Ну, на всякий случай. Ну, мало ли... До свиданья.
Поздно вечером Ипполит Ипполитыч зашел в кабинет Громова. Хозяин бледен. Третий день он ни капли не пьет. Он весь в напряжении. Упорство бастующих рабочих бесит его.
– Прохор Петрович, – начал доктор. – Знаете ли вы, что у нас готовится пролитие крови? Я сегодня встретил фон Пфеффера. – И доктор взволнованным голосом рассказал о приказе жандарма.
– Ну и что ж? – насупился Прохор.
– Я пришел, Прохор Петрович, умолять вас предотвратить кровопролитие. Все зависит от вас. Ведь это же ужасно, Прохор Петрович.
Прохор набычился, встал, крикливо ответил:
– Может быть, вы желаете, чтоб вас вместо ротмистра назначили командующим вооруженными силами? Ах, нет? Ну так и молчите, пожалуйста. Да, да! Прошу вас. Мы сами знаем, что делаем. За нас закон.
Доктор вздохнул, поправил дымчатые очки и, рискуя претерпеть грубость хозяина, сказал:
– Очень жаль, что здесь нет Нины Яковлевны. Я уверен, что, будь она дома...
– Ха! Вы уверены? А вот Прохор Громов говорит вам, что, если б она посмела ввязаться, я бы ее вздул арапником и приказал арестовать. Идите, исполняйте то, что вам приказано ротмистром, и не суйте нос не в свое дело. Прощайте...
Прохор остался один. В окаменелой неподвижности просидел битый час. Мысли, одна мрачней другой, одолевали его. Ему то и дело звонили по телефону. Он на звонки не отвечал и никого принимать не велел. Всю ночь провел без сна.
А этой ночью жандармским ротмистром, при участии мирового судьи, были арестованы многие выборные и уцелевшие члены забастовочного комитета.
Утром, чуть свет, известие о разгроме рабочих организаций разнеслось повсюду. В бараках, в казармах, в тайге, на заводах и приисках рабочие стали быстро гуртоваться. Собрания были крикливы. Возбужденная масса с негодованием выражала свою волю.
– Протасова нет, Абросимов тряпка, хозяин зверь. Идем, братцы, к прокурору!.. Пусть освободит наших выборных. Чем они виноваты? А?!
– Бей полицию! Бей жандармского барина! Бей пристава! – буйно орали приискатели. Но их останавливали:
– Еще, ребята, надо требовать заработанные деньги да паек. А нет – все ихние амбары расшибем! Нечего нам овечками-то прикидываться. Казаки со стражниками в нас не станут стрелять, а приезжих солдатишек мы в капусту искрошим.
В пять часов утра рабочие прииска «Нового» тысячной толпой повалили на прииск «Достань». Там уже шумели рабочие приисков «Веселенького», «Богатого», «Находки». Подтягивался народ с механического и трех лесопильных заводов. На общем собрании решено идти к прокурору всем народом, всем миром и лично заявить ему, что подстрекателей в забастовке среди рабочих нет, что каждый из них бастует сам по себе, на свой страх и риск, а поэтому пусть прокурор немедленно же освободит всех арестованных товарищей.
В десять часов утра вся масса двинулась к главной конторе, в резиденцию «Громово». Единая цель многотысячной толпы – подать прокурору «жалобную» докладную записку, а также вручить ему сотни четыре личных прошений.
По дороге к толпе примыкали землекопы, лесорубы, рабочие с мельниц, со шпалопропитного завода, с росчистей. Толпа росла.
В это же утро к хозяину явился робкий, встревоженный инженер Абросимов. У Прохора под глазами мешки, цвет лица изжелта-серый. Своего подначального он принял холодно:
– Что? С советами? Да что вы на самом деле! То один, то другой... Тьфу!
– Позвольте, Прохор Петрович, я еще рта не раскрыл, а вы уже... Да, знаете, положение аховое. Рабочие огромной толпой идут сюда.
– Плевал я на толпу, – запальчиво сказал Прохор, и мутные от бессонницы глаза его засверкали.
– Нет-с, Прохор Петрович, с огнем шутить опасно. И – позвольте вам доложить: третьего дня утром, с риском для жизни, я обошел семь бараков, Прохор Петрович, я говорил рабочим: «Ребята, становитесь на работы, а я даю вам слово уговорить хозяина, он постепенно исполнит все ваши требования...»
– Фига! Фига! – закричал Прохор; голос его хрипел, глаза прыгали. – Я вам приказываю, поезжайте сейчас же по всем баракам и говорите рабочим: «Подлец хозяин ни на какие уступки не пойдет!.. Подлец хозяин плюет на ваши требования!» Поняли, Абросимов? И пусть они, сволочи, посмеют поднять открытый бунт. Пусть!.. Они тогда увидят, что мы с ними сделаем. Я сам буду их расстреливать из собственных пушек!.. Бац – и мокренько... Вы, Абросимов, еще мало знаете меня...
Закусив прыгающие губы, инженер Абросимов понуро отошел к окну. К дому подкатил в сопровождении конвоя ротмистр фон Пфеффер. Он вошел в кабинет, гремя шпорами, браво, воинственно. Однако лицо его бледно, бачки топорщились.
– Идут?
– Идут, Прохор Петрович. Я приказал стянуть на бугор возле штабелей все вооруженные силы.
Из окна Абросимов видел, как бегут с ружьями солдаты, проехал на рысях отряд стражников, несутся собачонки, мальчишки, спешат бабы, старики.
– Карл Карлыч, милый, – начал Прохор протестующим голосом с нотками жалобы и стиснул в замок кисти рук. – Вот они, то один, то другой... Вчера даже поп приходил, отец Александр. И все словно сговорились: «Пойдите на уступки, пойдите на уступки!» Да не могу я, премудрые мои советчики, не могу!.. Я тогда сорву все мои планы. Если им дать потачку, не я буду хозяин, а они. И я пропал. Понимаете – пропал!
– Любезнейший Прохор Петрович, – нетерпеливо перебил его ротмистр. – Время моих переговоров с вами кончилось. Сейчас – момент действия. Я имею директивы правительства пустить в ход вооруженную силу...
– Ну так и действуйте, Карл Карлыч. И действуйте...
– Да! Но я должен предуведомить вас, что толпа – в четыре тысячи с лишком, что толпа вооружена, моих же солдат девяносто семь человек-с.
– Что ж, трусите?
– Нет, нет! Нет, нет! – завилял глазами ротмистр и чуть попятился от Прохора. – Но я должен честно сказать, что ежели, Боже упаси... Вы понимаете? Тогда нам никому несдобровать, вы же поплатитесь жизнью в первую голову.
Надбровные морщины Прохора резко задвигались. Инженер Абросимов все еще трясся у окна. Ротмистр фон Пфеффер, оценив действие на Прохора Громова пугающих слов своих, нервно покашлял в фуражку и торжественно звякнул шпорами.
– Итак, Прохор Петрович, ваше слово! Значит, уступок рабочим с вашей стороны не будет?
Пыхтящее молчание. Абросимов было посунулся к хозяину. Меж сдвинутых бровей Прохора врубилась вертикальная складка. Он резко ответил:
– Нет!
– В таком случае... Господин Абросимов, идемте, нас ждут.
Через минуту залились бубенцы, тройка уехала на поле действий. Шумно дыша чрез ноздри, Прохор с биноклем – к окну. Странная тишина за окном, солнце и вызывающий бряк бубенцов. Из окна не видать ни пригорка с солдатами, ни дороги, по которой движутся толпы рабочих.
Прохор Петрович позвонил лакею, приказал заложить скорей тройку каурых, заседлать жеребца и в торбу – «чего-нибудь жрать». Из несгораемого шкафа суетливо достал стальную шкатулку с бриллиантами Нины, положил ее в охотничью сумку, сунул туда же пять крупных самородков, все это снова запер в несгораемый шкаф и чуть не бегом – на чердак. Выбрался чрез слуховое окно на крышу, спрятался за печную трубу и стал смотреть в бинокль. Глаза его расширились и сузились, сердце упало...
...Речка прорезала поселок и впала в Угрюм-реку.
Мост через речку; из тайги через мост – широкая дорога, по ней должны показаться почти четырехтысячной толпой рабочие. По сю сторону речки, в полверсте от моста, на возвышенном, покрытом луговиной взлобке – цепь вооруженных солдат. Они заграждают путь в центр поселка. Ими командуют безусый толстяк Усачев и усатый Борзятников. Сзади солдат, на бугорке – жандармский ротмистр Карл Карлович фон Пфеффер, пристав, судья, горный инженер Абросимов. К их услугам готовые ринуться на толпу верховые стражники с жандармами. С горки видно и мост, и дорогу, и весь плац. По обе стороны дороги, между мостом и солдатами, огромные, в высоту человека, штабели шпал; они тянутся сажен на сто, образуя неширокий коридор. Толпа, пройдя мост, неминуемо должна попасть в этот коридорчик как в ловушку.
В небе полное солнцесияние. Из тайги движется огромная толпа. Она заливает всю дорогу, хвост ее увяз в тайге. Почти все по-праздничному одеты. У многих в руках маленькие узелки с едой. Пока шли лесом, играли на гармошках. Лица рабочих в светлой надежде: сейчас все благополучно разрешится, они потолкуют с прокурором, кое-что уступят хозяину, хозяин уступит им, – и завтра с Богом на работу.
Впереди, в красной рубахе, в продегтяренных сапогах, высокий старик Константин Фарков. Чрез шею и во всю грудь серебряная цепочка с часами. Все шли «вожжой», тихо, весело.
– Остановить, остановить! – меняясь в лице, орет ротмистр фон Пфеффер, и три жандарма со стражниками скачут на толпу. Толпа в версте. Всадники перемахивают мост, подлетают к народу.
– Стой! Стой! Ни с места...
– Почему такое? Мы мирные. Мы к прокурору.
– Стой! Стой!
На толпу, как на отару овец борзая, скачет офицер Борзятников. Картуз лихо заломлен, в глазах помешательство. Пред ним не толпа мирных людей – пред ним коварнейший враг, жаждущий его крови.
– Стой, сволочи, стой!! Стрелять будем...
– Сам сволочь... Да ты очумел?.. За что стрелять?..
– Расходись! Расходись!..
Сзади неожиданно вылетает из тайги взмыленная тройка. Инженер Протасов выпрыгнул из кибитки и махом к начальствующей группе. В его лице дрожит каждый мускул, кровь тугими ударами бьет в виски.
– В чем дело, господа?!
– Вы кто такой?
– Разве не узнали, ротмистр? Я Протасов.
– Ах, пардон. Но какое отношение вы имеете ко всему этому? Вы ж бросили службу.
– Я вернулся. Вот пригласительная телеграмма Прохора Петровича. Я переговорю с рабочими. Я их успокою. Они мне поверят.
– Время переговоров кончено. Впрочем, попытайтесь... Сами же разводите крамолу... Черт вас побери!..
Но эти последние слова были пущены Протасову в спину, он не слыхал их. Он что есть духу неуклюже побежал, суча локтями, навстречу толпе, голова которой уже стала выплывать из коридора штабелей, а хвост все еще шел по мосту.
– Ребята!! Товарищи! – задыхаясь, взывал на бегу Протасов. – Остановитесь! Остановитесь! Вы на гибель идете, на расстрел.
– Сто-о-о-й!! – во всю мочь заорал Фарков и, повернувшись лицом к толпе, замахал руками: – Стой, стой! – Но толпа, ничего не видя и не слыша в коридоре, все валила и валила, сминая передние ряды, – толпу подпирал вливавшийся в коридор оглохший, незрячий хвост.
– Стой, стой, сто-о-о-й!!
– Стой, ребята, стой!.. Барин Протасов с нами. Протасов вернулся! Протасов хочет говорить!
На горе, у церкви – группа любопытных. По откосу к солдатам и к толпе перебегают ребятишки и собаки. Оба священника с тростями в дрожащих руках тоже на горе.
Многие рабочие уже вскарабкались на штабели, кричали что есть силы:
– Стой! Стой! Не напирай!!!
Часть толпы, успевшая выкатиться сажен на тридцать из коридора, широко растеклась и стала. Впереди толпы – оттиснутый народом Протасов. Курильщики вынули кисеты, начали закуривать. Несколько десятков рабочих свернули на другую, окольную, ведущую к конторе дорогу, чтоб уйти от греха подальше. Впоследствии оказалось, что эта группа мирно настроенных рабочих и была причиной происшедшей сумятицы.
Невнятно проиграли у солдат сигнальные рожки. Этих предупреждающих звуков за шумом, за говором никто не слыхал в толпе.
– Ребята! Вы идете на смерть. Разве не видите?.. Там солдаты! – Пот катился с возбужденного лица Протасова, лицо дрожало, дрожал и голос.
– Товарищ Протасов! Барин! Андрей Андреич! – Кольцом окружили Протасова рабочие, жарко дышали, пускали из ноздрей и ртов табачный дым. – Мы мирно! Мы бастуем... Мы к прокурору... с открытой душой.
– Где выборные?.. Давайте прошение!.. – взывал Протасов.
– Эй, выборные!! К Протасову!..
И там, на взлобке:
– Братцы, нас обходят... – трусливо проблеял какой-то низколобый солдат, кося глазом на идущих окольной дорогой несколько десятков рабочих. И сразу по шеренге прокатился трепет.
– Глянь, глянь! И впрямь обходят... – заежились, зашептали солдаты. Им стало страшно, как на войне перед началом боя.
Ротмистр фон Пфеффер оторвал от бинокля остеклевшие, в холодном огне, глаза. Выпирая из коридора, толпа возле Фаркова и Протасова быстро увеличивалась.
– Господин ротмистр, – приложив руку к огромному, нависшему на нос козырьку, протряс брюхом Усачев. – Неприятель близок. Ни минуты больше!
Ротмистр бел как полотно; губы прыгают, пальцы рук в корчах. В малодушном шепоте солдат, в озлобленном пыхтенье Усачева, в заполошных ударах собственного сердца ему мерещится адский голос телефона: «Не верьте рабочим, они идут, чтобы убить начальников...» И широко открытые глаза его видят то, чего нет. Они видят мчащуюся на него остервенелую толпу. Еще миг – и он будет растерзан.
– Они бегут.
Ротмистр фон Пфеффер судорожно стиснул зубы, качнулся, зажмурился.
– Прошу, господин ротмистр, немедленно же передать командование мне... Нас сомнут!..
Ротмистр открыл глаза, приосанился: «Вот я ж им, мерзавцам...» – и свирепо взмахнул платком.
Толстяк Усачев, сразу подтянувшись, браво повернулся к солдатам, сиплым голосом скомандовал:
– Повзводно пачками...
Офицер Борзятников, выпуча закровянившиеся глаза, ошалело шагал сзади шеренги солдат, грозил револьвером:
– Целься верней! Кто будет мазать, пристрелю на месте...
– Пли!
Запахло тухлым дымом. По толпе широко стегнул свинец.
Инженер Протасов резко повернулся на выстрелы, замахал платком и белой фуражкой и, падая на колени в пыль, надрывно закричал:
– Что вы делаете?!
Но залп был дан.
Несколько человек упало. Рухнул на Протасова, подмяв его под себя, убитый Константин Фарков. Толпа цепенела. Люди оценивали положение, сбирались с мыслями, ничего не могли понять. Но вот пронзительно, с великой обидой прозвучало:
– Убивают! Нас... убивают... Братцы!!
Выстрелы гремели, народ падал. По толпе пронесся трепет смерти. Толпа содрогнулась.
– Ложись, ложись!
Голова толпы, как под косой трава, плашмя бросилась на землю. А остальная масса рабочих еще топталась в коридоре, хвост толпы спускался с моста. Они еще не знали, что кругом творится, в шуме не слыхали выстрелов и стонов. Любопытства ради карабкались сотнями на штабели.
– Эй! В чем дело? – кричали они передним.
А впереди – вопли, крики, гвалт. Кто-то визжал не переставая:
– Добейте меня... Добейте меня...
– Заряжают новые обоймы! Стреляют!
– Братцы! Кто в живых, беги!..
Народ в смятении бросился кто назад, кто в стороны.
– Взвод, пли!
Люди бежали и падали. Офицер Борзятников, кривя усатый рот, судорожно совал в горячий револьвер новые патроны. С командной горы положение казалось грозным.
– Бегут! Бегут! – неслось в рядах расстрельщиков.
И палачей и убегавших рабочих пленил животный ужас смерти.
– Взвод, пли! Взвод, пли!
Недружная, путаная трескотня выстрелов. Пули догоняли бегущих, бессмысленно били в спины. Пули пылили по дороге.
Стрельба продолжалась с перерывами.
Потрясенный Протасов навзрыд плакал, и плакали лежащие возле него.
Лицо Протасова раздавлено гримасой напряженного негодования и унизительного страха. Он немощно валялся, распластавшись на земле. Чрез его ноги переползал каменщик Федюков, – пуля ударила ему в грудь, другому прострелила локоть, третьему – плечо.
Кругом – стон, вопли, жуткий вой.
Выстрелы смолкли. Живые поднялись: кто прытко, не оглядываясь, побежал, кто вспотычку побрел домой: от страха одрябли ноги. Мертвые лежали смирно, лицом зарывшись в пыль или глядя в небо немым стеклом зрачков. Раненые мучились в корчах. Пыль от крови превратилась в грязь, как на скотобойне.
Протасов едва встал, но не мог идти. Его кто-то повел, крепко прижав к себе. Потом Кэтти подошла, взяла его под руку. Плакала, вся дикая, растрепанная, всхлипывала, грозила кулаком, бессвязно выкрикивала брань, плевалась. Протасов трясся, ничего не понимал.
Разбитый, едва живой, с открытым ртом, с выпученными глазами, подъезжал к месту расстрела прокурор, рядом с ним в пролетке врач. У врача в походной сумочке – шприц и камфара для прокурора.
На земле груды раненых и мертвых. Тишина. Уныние.







