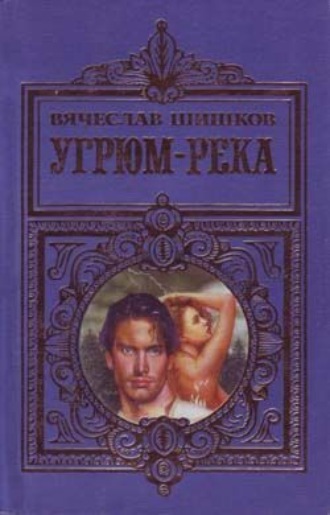
Вячеслав Шишков
Угрюм-река
XVIII
Назавтра утром пришло от Нины письмо:
«Приехали мы на второй день Страстной недели. Я отца дорогой уговорила. Ибрагим совершенно им прощен. Все забыто. Матери, конечно, отец ни звука. Мать рада нашей свадьбе, она очень любит тебя, благословляет. Передай поклон нашему избавителю Ибрагиму...»
Прохор прочел это начало письма, задумался. Укушенный палец ныл. Марья Кирилловна сделала на его палец компресс из березовых почек, настоянных на водке. Вошел отец, взглянул на поцарапанное лицо сына, молча сел. Сын стал переобуваться в длинные сапоги.
– Ну, так как же? – спросил отец. – Как же ты думаешь? Она пугает. Могут быть большие неприятности. Она баба-порох. Ей как взглянется. А ты берешь богатую, у тебя и так денег будет невпроворот. Отступись от нашего имущества, дозволь подписать все Анфисе...
– А мать? – уставился Прохор в лицо отца; губы его подергивались, по виску бегал живчик.
Отец прошелся пальцами по бороде, сказал:
– Ну что ж – мать? Она как-нито проживет. При тебе, что ли. А то, смотри, хуже будет. Анфиса наделает делов.
Прохор увидал в окно: старушонка Клюка прячется меж деревьев, резкими движениями руки настойчиво манит его.
– Сейчас, – сказал Прохор отцу и поспешно вышел в сад.
Едва отец прочел первые строки лежавшего на столе письма Нины, как в комнату ворвался Прохор; он схватил поддевку, белый картуз, выбежал вон, в конюшню, проворно оседлал коня и умчался как ветер.
До первой почтовой станции – тридцать пять верст – он скакал ровно час.
– Лошадей! – кричал Прохор на станционном дворе. – Тройку, самых горячих. Ямщику целковый на чай... Сыпь! Насмаливай!.. Загонишь – я в ответе.
И лишь возле третьей станции, с ног до головы забрызганный грязью, он догнал Анфису. Он едва узнал ее. Лицо Анфисы серое, утомленное, упрямые губы крепко сжаты. Одета она просто, в синем большом платке. Рядом с ней – учитель села Медведева, чахоточный, сутулый, сухощавый Пантелеймон Павлыч Рощин.
– Путем-дорогой, Анфиса Петровна! Здравствуйте!
Ямщики осадили лошадей. Тройка Прохора в белом мыле, лошади шатались.
– Анфиса Петровна, – вежливо позвал ее Прохор. – Пожалуйте сюда. На пару слов.
Анфиса переглянулась с учителем, молча выбралась из кибитки и тихонько пошла с Прохором по зеленому лугу. Учитель двусмысленно вслед ей ухмыльнулся и стал раскуривать трубку, покашливая.
– Папаша согласен на все ваши условия, Анфиса Петровна.
– Мне этого мало.
– Он подпишет вам все движимое и недвижимое, он положит в банк на ваше имя все деньги...
– Мало.
– Он разведется с моей матерью и женится на вас...
– Мало, мало...
– Я обещаю вам свою любовь...
Анфиса остановилась, губы ее разомкнулись, чтобы злобно крикнуть иль застонать от боли. Но она, вздохнув, сказала:
– Мучитель мой!.. Ах, какой ты, Прошенька, мучитель!
У Прохора защемило сердце. Он покачнулся.
Она окутала его колдующим взглядом своих печальных глаз, круто повернулась, крикнула через плечо:
– Прощай, – и быстрым, решительным шагом двинулась к кибитке.
– Анфиса, Анфиса, стой!.. Последнее слово!..
В голосе его отчаянный испуг. Она остановилась, из ее глаз крупные катились слезы.
– Так и знала, что позовешь меня, – она больно закусила губы, чтоб не закричать, она опасливо обернулась к лошадям: ямщики оправляли сбрую; учитель, хмуро сутулясь, сидел к ней спиной.
Анфиса, всхлипнув, кинулась на шею взволнованному Прохору, шептала:
– Молчи, молчи. Знаю, что любишь... Я ведьма ведь... Значит, отрекаешься от Нинки?
– Отрекаюсь.
– Значит, мой?
– Твой, Анфиса.
– На всю жизнь?
– Да, да.
– Не врешь?
– Клянусь тебе!
Анфиса несколько мгновений была охвачена раздумчивым молчанием.
Но вот прекрасное лицо ее вдруг осветилось, как солнцем, обольстительной улыбкой. Земля под ногами Прохора враз встряхнулась, и его сердце озарил горячий свет любви.
«Что ж теперь будет, что же будет?!» – мысленно восклицал несчастный Прохор, совершенно сбитый с толку и внутренней горечью и внезапно вставшим в нем прежним болезненно-острым чувством к Анфисе.
Возвращаться без учителя Анфиса отказалась. Прохор сразу понял причину: «Боится, что ее документик отберу», – но смолчал. Обратно ехали втроем: Анфиса рядом с учителем, лошадьми правил Прохор. Сзади тащилась пара с ямщиками. Ямщики беспечально заливались:
На сторонушку родную
Ясный сокол прилетел,
И на иву молодую
Тихо, грустно он присел...
Вернулись поздним вечером. Расставаясь, Прохор говорил своей Анфисе виноватым, трогательным голосом:
– Ну что ж мне делать теперь? Каким подлецом я чрез тебя стал... Анфиса, любимая моя Анфиса, милая. Ну ладно! Слушай... Завтра либо послезавтра ночью жди... Сиди у окошка, жди... Прощай, прощай, Анфиса, – и, закрыв лицо рукой, прочь пошел. – Проща-а-ай...
В доме еще не спали. Марья Кирилловна беседовала с Ибрагимом, печаловалась ему, ждала от него помощи.
– Не горуй, Марья... Прошку отучим ходить до Анфис... Моя берется. Моя кой-что знает. Прыстав Анфис взамуж брать будет. Прыстав каждый день, каждый день туда-сюда к Анфис.
Прохор прошел к себе в комнату и заперся на ключ. Комната его пропахла лавровишневыми каплями.
Не спал в своей избе и Шапошников. Сбиралась гроза. Он грозы боится. Во время грозы он обычно спускается в подпол и меланхолически сидит там на картошке. Бояться грозы он стал недавно, лишь этим месяцем гремучим – маем.
Но сейчас гроза еще далече, и Шапошников заводит у себя в избе беседу с волком:
– Люпус ты чертов, вот ты кто. Ты думаешь – ты волк? Ничего подобного. Ты – люпус. Гомо гомини люпус эст[3]. Слыхал? Враки! А по-моему, человек человеку – Анфиса... Да, да. Подумай, это так...
Волк, белки и зверушки слушали внимательно. Волк хвостом крутил, бурундук пересвистнулся с другим бурундуком.
– «Идет», – сказала белка.
– Кто идет? – спросил Шапошников.
– «Хозяин идет».
Хозяин принес в кувшине бражки.
– Испробуй-ка... Ох, и крепость!.. Ты чего-то задумываться стал. Смотри не свихнись, паря... Чего доброго... Это с вашим братом бывает.
Волк, белки и зверушки засмеялись.
Боялся грозы и отец Ипат: прошлым летом, под самого Илью-пророка, его поле ожгло молнией – он долго на левое ухо туг был.
Пристав грозы не боялся, но пуще моровой язвы страшился супруги. Вот и в эту ночь у них скандал. Супруга расшвыряла в пристава все свои ботинки, туфли, сапоги, щипцы для завивания, и все мимо, мимо. И вот вместе с бранью летит в пристава двуспальная подушка. Пристав и на этот раз ловко увернулся, подушка мягко смахнула с письменного стола все вещи. Чернильница, перевернувшись вниз брюшком, залила красной кровью черновик проекта:
«... всесмиреннейшего прошения на имя его преосвященства епископа Андрония, о чем следуют пункты:
Пункт первый. Будучи в семейной жизни несчастным вследствие полнейшего отсутствия всяких способностей законной супруги моей Меланьи Прокофьевны к деторождению по причине сильной одышки и ожирения всех внутренних органов (при сем прилагаю медицинскую справку фельдшера Спиглазова) и в видах...»
Тут рукопись оборвалась, перо изобразило свинячий хвостик, – видимо, как раз на этом слове мимо уха пристава пролетела мстительная туфля, а скорей всего увесистая затрещина опорочила высокоблагородную, однако привыкшую к семейным оплеухам щеку пристава. Конечно ж, так. Пристав писал, жена подкралась, прочла сей рукописный блуд, и вот правая щека пристава горит, горят глаза разъяренной мастодонтистой супруги.
Впрочем, так или не так, но «человек человеку – Анфиса» остается.
Еще надо бы сказать два слова об Илье Петровиче Сохатых. Но мы отложим речь о нем до завтрашнего дня.
А завтрашний день – солнечный. Заплаканное небо наконец сбросило свою хандру; день сиял торжественно, желтые бабочки порхали, пели скворцы.
Утром за Марьей Кирилловной прискакал нарочный: в соседнем селе, верст за шестьдесят отсюда, захворала ее родная сестра, вечером будут соборовать и причащать. И Марья Кирилловна, унося в себе тройное горе, уехала. Первое ее горе – Прохор и Анфиса, второе горе – Анфиса и муж, и вот еще третье испытание Господь послал – сестра.
Прохор собрался уходить: ружье, ягдташ, сука-маркловка Мирта.
– Ну как? – встретил сына отец.
– Ах, ничего я не знаю. Подожди... Дай мне хоть очухаться-то... – раздражительно сказал Прохор и на ходу добавил про себя: – С вами до того доканителишься – пулю себе пустишь в лоб.
Он взял с собой приказчика Илью Сохатых и направился по речке натаскивать молодую, по первому полю, собаку. Прохору страшно оставаться одному: в душе разлад, хаос, идти бы куда-нибудь, все дальше, дальше, обо всем забыть. Сердце сбивалось, то замирая, приостанавливаясь, то усиленно стуча в мозг, в виски. Ноги ступали неуверенно. Прохора подбрасывало в стороны, кружилась голова. Он отвернул от фляги стаканчик, выпил водки, сплюнул: появилась тошнота. Он подал водки и приказчику. Илья Сохатых шаркнул ногой, каблук в каблук, сказал:
– За ваше драгоценное! В честь солнечности атмосферной погоды... Адью!
Прохор подал второй стаканчик.
– За здравие вашей невесты, живописной прелестницы Нины Яковлевны!.. Адью вторично!
Прохор от этих вульгарных слов слегка поморщился.
Петр Данилыч тем временем направился к Анфисе. Стучал, стучал – не достучался. Пошел к священнику. Отец Ипат осматривал ульи.
– С хорошей погодой тебя, батя. Благослови, отче.
Отец Ипат поправил рыжую, выцветшую скуфейку, благословил купца, сказал:
– Это одна видимость, что хорошая погода, – обман. Погода худая.
Купец указал рукой на солнце. Отец Ипат подвел купца к амбару:
– Вот, смотри.
Над воротами амбара прибит голый сучок пихты в виде ижицы, развилкой.
– Вот, смотри: сей струмент предсказывает, как стрелябия, верней барометра. Главный ствол прибит, а отросток ходит: ежели сухо, он приближается к стволу, а к непогоде – отходит. Вчера эво как стоял, а сегодня опять вниз поехал. Будет дождь.
– Отец Ипат! Надо действовать, – перевел разговор Петр Данилыч, на его обрюзгшем лице гримаса нетерпения. – Надо полагать, Анфиса согласна. Бабу свою уговорю, а нет – страхом возьму. Посмотри-ка, как гласят законы-то...
– Пойдем, пойдем, – сказал отец Ипат, на ходу заправляя за голенище выбившуюся штанину. – Только напрасно это ты; нехорошо, нехорошо, зело борзо паскудно. Как отец духовный говорю тебе. Оставь! Право, ну...
– А не хочешь, так я в городе и почище тебя найду. Прощай!
– Постой, постой... Остынь маленько.
XIX
Надвигался вечер, и вместе с ним с запада наплывали тучи, небо вновь облекалось помаленьку в хандру и хмурь.
Солнце скрылось в тучах, но в том далеком краю, где Синильгин высокий гроб висит, солнце ярко горело, жгло. И тело Синильги, иссохшее под лютым морозом, жарой и ветром, лежало в колоде уныло и скорбно, как черный прах. Вот скоро накроет всю землю мрачная, грозная ночь, однако не лежать Синильге той ночью в шаманьем, страшном своем гробу. Как молния и вместе с молнией Синильга, может быть, разрежет дальний тлен путей, может быть, крикнет милому: «Прохор, Прохор, стой!»
Но никто не остановит теперь Прохора; мысли его сбились, и Прохор свободной своей волей быстро возвращается домой.
– Солнечное затмение какое началось, – поспевая сзади, изрекал Илья Сохатых. – Опять гроза будет, в смысле электричества, конечно. А скажите откровенно, Прохор Петрович, откуда берется стрела? Например, помню, еще я мальчишкой был, вдарил гром, нашу знакомую старушку убило наповал, глядь – а у нее в желудке, на поверхности, конечно, стрела торчит каменная, вершков четырех-пяти. Прохор Петрович! А что, ежели я вдруг окажусь в родственниках ваших бывших? А?
Сизо-багровая с желтизною туча, сочно насыщенная электрическим заревом, спешит прикрыть весь мир. И маленьким-маленьким, испугавшимся стало все в природе. Под чугунной тяжестью загадочно плывущих в небе сил величавая тайга принизилась, вдавилась в землю; воздух, сотрясаясь в робком ознобе, сгустился, присмирел; ослепший свет померк, смешался с прахом, чтобы дать дорогу молниям; белые стены церкви перестали существовать для взора; сторож торопливо отбрякал на колокольне восемь раз, и колокольня пропала. Пропали дома, козявки, лошади, люди, собаки, петухи. Пропало все. Мрак наступил. Ударил тихий ливень, потом – гроза.
Кто боялся тьмы – зажигал огонь. Засветила лампу и Анфиса. Часы прокуковали восемь. Ночь или не ночь? По знающей кукушке – вечер, но от молнии до молнии кусками стоит ночь.
Прохор обещал прийти ночью, велел Анфисе у окна сидеть. Сидит Анфиса у окна. Думы ее развеялись, как маково зерно по ветру, нервы ослабели как-то, но душа взвинтилась, напряглась, ждет душа удара, и неизвестно, откуда занесен удар: может, из тучи молнией судьба грозит, может, кто-то незнаемый смотрит ей в спину сзади, ну таково ли пристально смотрит, – впору обернуться, вскрикнуть и упасть. Анфисе невыносимо грустно стало.
В это время к Прохору, крестясь на порхающий свет молний, вошел отец.
– Ну как? – настойчиво спросил он и сел на кровать. Его вид упрям, решителен.
Не окрепший после болезни, Прохор сразу же почувствовал всю слабость свою перед отцом и смущенно промолчал, готовясь к откровенному разговору с отцом своим начистоту, до точки.
– Ладно, – нажал на голос отец; припухшие глаза его смотрели на сына с оскорбительным прищуром. – Ежели ты молчишь, так я скажу. И скажу в последний раз.
Он достал вчетверо сложенный лист бумаги и потряс им.
– Вот тут подписано Анфисе все. Шестьдесят три тыщи наличных. А кроме этого, и те деньги, которые в банке, то есть твои.
– Как?! – резко поднялся Прохор.
– Как, как... – сплюнув, сказал отец. – Был как, да свиньи съели. Вот как. – Он сморкнулся на пол и вытер нос рукавом пиджака. – Я еще в прошлом годе проболтался ей, ну она и потребовала. Она деньгам нашим знает счет не хуже нас с тобой.
Прохор закусил губы, сжал кулаки, разжал, сел в кресло и хмуро повесил голову, исподлобья косясь на отца-врага.
– Я завтра еду с Анфисой в город, – продолжал отец. – Оформим бумагу и насчет развода смекнем. Одначе бумага будет в силе только после нашей с ней свадьбы. Тут, в бумаге, оговорено. Значит, ты сядешь заниматься делом на Угрюм-реку. Начал у тебя сделан там хороший, а за женой капиталы превеликие возьмешь. Я переселяюсь с Анфисой в наш городишко, а нет – и в губернию. Займусь делом, наживу мильен. Марье же, то есть ненаглядной матери твоей, остается здесь дом и лавка с товаром. При ней, то есть при лавке и при матери, – Илья. Чуешь? Кроме всего этого, твоя мать собирается в монастырь. Это ее дело. Ну, вот. Кажется, никого не обидел. Разве что тебя. Прости уж. Иначе нельзя было: Анфиса прокурором грозит. А ежели не уважить ей да она грязь подымет, и тебе Нины не видать, и сразу нищие мы стали бы, навек опозоренные. Вот что наделал родитель мой, а твой дед, Данила-разбойничек, царство ему небесное. – Петр Данилыч говорил хриплым, как у старой цепной собаки, голосом; покрытые шерстью руки его лежали подушками на рыхлых коленях, на вороте потертого пиджака блестел льняной длинный волос Анфисы.
Прохор взволнованно теребил бледными пальцами свисавший на лоб черный чуб.
– Когда видел Анфису в последний раз? – отрывисто спросил он, вскинув голову.
– Сегодня, пока ты на охоту с Илюхой ходил.
Прохор посмотрел в лицо отца сначала серьезно, затем губы его скривились в язвительную улыбку; он зло отчеканил:
– Врешь. К чему ты врешь, отец? Анфиса не могла тебе этого сказать, насчет вашей женитьбы... Не могла!
– Это почему такое?.. – И кровать заскрипела под отцом.
– А вот почему... – Набирая в сердце смелость, Прохор неверным крупным шагом прошелся по комнате, подошел к окну: черные стекла омывались черным ливнем. – Вот почему. – Он встал лицом к отцу, уперся закинутыми назад руками в холодный подоконник и, запрокинув голову, решительно сказал: – Потому, что я подлец, я изменил Нине, я хочу жениться на Анфисе. Я ей об этом сказал.
Отец сощурился, затрясся в скрипучем смехе, ему нахально вторила скрипучая кровать.
Прохор стал недвижим; его лицо густо заливалось краской, нервы готовили в организме бурю.
– Я ее люблю и не люблю! – сдавленно закричал он, глаза его прыгали. – Я и сам не знаю. Я только знаю, что я подлец... И... Дело было так... Я пришел к ней... Я говорил ей, что ты согласен на все... То есть согласен жениться на ней и все подписать ей. Она... она... она это отвергла. Тогда я сказал, что, женившись на Нине, я обещаюсь быть ее... этим, как его?.. Быть ее любовником. Она отвергла. Она... она... потребовала, чтоб я женился на ней. Категорически... Безоговорочно... Я наотрез отказался. Это ночью... На другой день... Помнишь, я бежал из дому?.. Она ехала в город, везла прокурору улики. Я догнал ее. И мне... И я... Она вырвала от меня клятву, что я женюсь на ней. Так что ж мне делать теперь?! Отец!.. Что ж мне делать?! Или ты врешь, отец, что она сегодня согласилась быть твоей, или она стерва... Нехорошая, грязная тварь... Отец!! Что ж делать нам с тобой?.. Отец... – Прохор с воем шлепнулся на широкий подоконник и припал виском к сырому косяку.
Блеснула молния, треснул раскат грома.Отец перекрестился.
– Свят, свят, свят... – и вновь засмеялся сипло и свистяще. – Дурак... Дурак! Что ж, ты думаешь, она любит тебя?.. Любит?
– Я уверен в этом... Любит... И я, подлец, люблю ее... Да, да, люблю! – весь дрожа, крикнул Прохор и, вскочив, посунулся к отцу. – Отец, я женюсь на ней!..
– Дурак... По уши дурак!.. Как же она может любить тебя, ежели она второй месяц от меня в тягостях?.. Брюхатая... – уничтожающе-спокойно сказал отец.
Это отцовское признание сразу разрубило сердце Прохора на две части. Он несколько секунд стоял с открытым ртом, боясь передохнуть. Но необоримая сила жизни быстро опрокинула придавивший его столбняк. В разгоряченной голове Прохора мгновенно все решилось, и все ответы самому себе заострились в общей точке: личное благополучие. Это утверждение своего собственного «я» теперь было в душе Прохора, вопреки всему, незыблемо, неотразимо. Картины будущего сменялись и оценивались им с молниеносной быстротой.
Вот Анфиса – жена Прохора: значит, наступят бесконечные дрязги с отцом, капитала Нины Куприяновой в деле нет, значит, широкой работе и личному счастью Прохора конец. Вот Анфиса – жена отца: значит, капитал Нины Куприяновой в деле, зато в руках мстительной Анфисы – вечный шантаж, вечная угроза всякой работе, жизни вообще. Значит, и тут личному благополучию Прохора конец. Конец, конец!
Все смертное в Прохоре принизилось, померкло. Вне себя он закричал в пространство, в пустоту, в сомкнувшуюся перед ним тьму своей судьбы:
– Беременна? От тебя?! Врешь!.. Врешь, врешь, отец!!
И крик этот не его: неуемно кричала в Прохоре вся сила жизни.
Врал, врал отец на Анфису, врал! Он врал на нее тоже ради личного своего благополучия, в защиту собственного «я», вопреки даже малому закону правды. И врал, в сущности, не он: лишенная зрячих глаз, в нем говорила все та же сила жизни.
Оклеветанная же Петром Данилычем Анфиса все еще сидела у громучего окна, смотрела в сад, в тьму, в молнию и снова в продолжительную тьму, как в свою собственную душу: такова вся жизнь Анфисы – молния и тьма.
И час, и два, и три прошло. И все забылось, и слезы высохли – не надо этой ночью грустить и плакать: этой разгульной бурной ночью в ее душе снова благоволение и мир. Ослепительные молнии теперь не страшны ей, мертвые раскаты грома не смогут приглушить в ней живую жизнь: вот-вот должен прийти он, ее властитель, Прохор.
Анфисина душа бедна словами, как и всякая душа. Не умом, не разумом человечьим скудным думала Анфиса – все существо ее охвачено волной животворящих сил.
Прохор обещал прийти ночью, велел Анфисе у окна сидеть. Сидит Анфиса возле открытого окна, а сзади, на столе, ярко светит лампа, и Анфиса в окне – будто картина в раме. Окно выходит в сад, и, кроме молнии, никто Анфисой любоваться не может. Разве что черви, выползшие из нор на теплый дождь. Но черви безглазы. А друга нет и нет.
Ты помнишь ли, Прохор Петрович, друг, ту странную ночь в избушке, когда филин свой голос подавал, помнишь ли, как целовал тогда свою Анфису, какую клятву непреложную приносил Анфисе в вечной любви своей? Вспомни, вспомни скорей, Прохор, мил-дружок, пока нож судьбы твоей не занесен: грешница Анфиса под окном сидит, безгрешное, праведное ее сердце томится по тебе... Но где же друг ее? Где радость тайной свадьбы?
Радуйся, Анфиса, приносящая нетронутую чистоту свою возлюбленному Прохору! Радуйся, что замыкала чистоту от всех: ни пристав, ни Шапошников, ни Илья Сохатых, ни даже – и всего главнее – Петр Данилыч не услаждались с тобою в похоти. Радуйся, что оклеветанная утроба твоя пуста и Петр Данилыч не смоет с себя подлой лжи своей пред сыном ни кровью, ни слезами. Радуйся, радуйся, несчастная Анфиса, и закрой свои оскорбленные глаза в примирении с жизнью!
Слушая эти мысли в самой себе, Анфиса глубоко вздохнула, и глаза ее действительно закрылись: ослепительная молния из темной гущи сада, а грома нет. Нет грома! «Чудо, – подумала Анфиса, – чудо». И не успела удивиться...
Первый час ночи. Гроза умолкла, а мелкий, утихающий дождь все еще шуршит. К комнате Прохора по коридору мокрые, грязные следы. Что-то напевая под нос, Прохор прошел в теплых сухих валенках в кухню, сам достал из печи щей и съел. Поднялась с постели кухарка.
– Дай мне есть, – сказал Прохор.
Поел каши.
– Еще чего-нибудь.
– Да Христос с тобой. Пахал ты, что ли?
– Нет ли баранины? Нет ли кислого молока?
Завернул к Илье, разбудил его, заглянули вдвоем в каморку Ибрагима – пусто, черкеса нет. Снова вернулись в комнату Ильи Сохатых. Прохор пел песни, сначала один, затем – с приказчиком. Угощались вином. Прохор звал Илью навестить Анфису. Приказчик отказался.
– Нет, знаете, гроза... Я усиленно молнии боюсь.
Окно его комнаты было действительно наглухо завешено двумя одеялами.
Вскоре пришел Ибрагим, и – прямо к себе в каморку. Он разулся, разделся, вымыл в кухне свои сапоги, насухо выжал мокрый бешмет, мокрое белье, развесил возле печки, на которой сытно всхрапывала Варвара, и завалился в своей каморке спать. Его прихода не заметили ни Илья, ни Прохор: они пели, играли на гитаре.
Илья быстро захмелел, Прохора же не могло сбороть вино. Прохор бросил песни и долго сидел молча, встряхивал головой, как бы отбиваясь от пчелы. Глаза его горели нездорово. Наконец сказал, выдавливая из себя слова:
– А все-таки... А все-таки она единственная. Таких больше нет... Люблю ее... Только ее и люблю.
– Да-с... Барышня, можно сказать, патентованная... Нина Яковлевна-с...
– Дурак!.. Паршивый черт!.. Ничего не понимаешь, – мрачно прошипел сквозь зубы Прохор.
И вновь упорное, сосредоточенное молчание овладело им: глядел в пол, брови сдвинулись, нос заострился, лоб покрыли морщины душевной, напряженной горести. Вдруг Прохор вздрогнул с такой силой, что едва не упал со стула.
– Отведи меня, Илья, на кровать, – похолодев, сказал он. – Тошнит... Устал я очень...
Устали все. Даже дождь утомился, туча на покой ушла.
А как выглянуло утреннее солнце, узнали все: Анфиса Петровна убита. Ее убил злодей.







