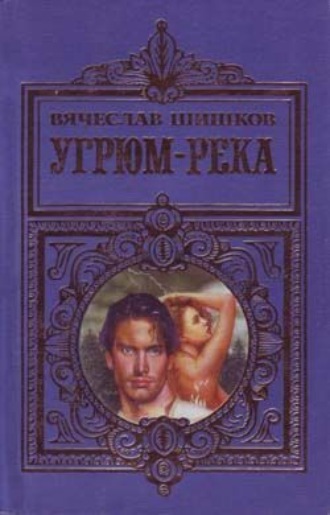
Вячеслав Шишков
Угрюм-река
IV
Хозяин уже на вышке башни. С ним Иннокентий Филатыч, отец Александр и мистер Кук. С башни видно, как два пожара, две огненные стихии, вздыбив к небесам, молча шествуют друг на друга. Сила двойного пожарища могучим поршнем всасывала воздух, сотрясала атмосферу на десятки верст: дул ветер, башня слегка поскрипывала.
– В высшей степень необычной зрелищ, – причмокивал мистер Кук. – Это, это весьма грандиозно... Колоссаль!
– А вы там были? – сквозь зубы цедит Прохор.
– О нет, о нет... Я не герой подобных приключений. Я созер... как это?.. Созерцатель. Так? – И большие уши мистера Кука от напряжения мысли задвигались. – Нет, вы обратите внимание, господа... Какие две силы. И сколько миллиард тепловых калорий гибнет очшень зря...
– Да, зря... – буркнул Прохор.
– Ужас, ужас, – повел сутулыми плечами священник.
– Фено-ме-нально... Колоссаль, колоссаль... О! – воткнул мистер Кук палец в небо и смачно почмокал, словно гастроном пред шипящими в сметане шампиньонами. – Но почему такой совсем глюпый рюсска пословиц: «Огонь не туши»?
– «С огнем не шути», – снисходительно улыбаясь, поправил отец Александр.
Чрез мутную, все еще державшуюся в воздухе дымовую пелену доносились откуда-то раскаты грома.
– А, кажись, дождиком попахивает, – огладил белую бороду Иннокентий Филатыч.
– Ты! Пророк... – сердито цыкнул на него Прохор, рассматривая пожарище в бинокль.
Но в стекле, как в зеркале, пожар чудился холодным, мертвым. На деле же было совсем не так.
Узкая полоса тайги меж огненными лавами – стихийной и искусственной – все более и более сжималась. Два огромных пламенных потока шли друг другу навстречу. Вся живая тварь в этой полосе – бегучая, летучая, ползучая – впадала в ужас: куда ползти, куда бежать?
Стада зверей, остатки неулетевших птиц, извивные кольца скользких гадов – вся тварь трагически обречена сожжению. В еще не тронутой полосе, длиной верст в двадцать и шириною не более версты, как в пекле: воздух быстро накалялся, и резко слышался гудящий гул пожара, свист вихрей, взрывы, стон обиженной земли. А красное небо, готовое придавить тайгу, тряслось.
От звуков, от дыма, от вида небес звери шалели. В смертельном страхе, утратив инстинкт, нюх, зрак, одуревшая тварь заполошно металась во все стороны. Летучим прыжком, невиданным скоком звери кидались вправо, влево, но всюду жар, смрад, огонь. И вот, задрав хвосты, высунув языки, звери неслись вдоль линии огня. Но и там нет выхода: огни смыкались. Звери безумели. Глаза их кровавы. Оскал зубов дик, в желтой пене. Звери молча вставали на дыбы, клыками впивались друг другу в глотку, хрипели, падали. Сильные разрывали слабых, в беспамятстве грызли себя, истекали кровью, шерсть на живых еще шкурах трещала от жара.
Малая белочка, глазенки – бисер, хвост пушист. Торчит на вершине высокого дерева, вправо и влево огонь. А белке плевать: ведь это игра. Чтоб прогнать резкий страх, белка играет в беспечность. Унюхала шишку – и в лапки, и к мордочке. Справа огонь, слева огонь. «Не страшно, не страшно, – бредит безумная белка, – сон, сон, сон». «Стра-а-ашно!» – каркает, ужавшись к стволу под мохнатую лапу кедра, столетний с проседью ворон; у него перебита ключица, висит крыло. Белка в испуге сразу вниз головой по стволу к земле. Но земля горит. И – вверх, головой, в страхе, к вершине. Вверх, вниз, вверх, вниз – все быстрей и быстрей носится белка. Но вдруг теряет сознание, комом падает в пламя. Пых и – конец.
Медведица бьет пестуна в темя крепким стяжком, череп молодого медведя треснул, распался. Стервятник, матерый медведь, задушив другого медведя, разворачивает с дьявольской силой пни, камни, лезет в берлогу, тяжело дышит, с языка – слюна, валится, как пьяный, на толстый пласт кишащих в берлоге скользких гадов. Их загнал сюда жар. Раздавленные гады, издыхая, шипят, смертельно жалят медведя, медведь ревет дурью, катается с боку на бок, рявкает, стонет, как человек. Дым, огонь напыхом хлынул в берлогу и – смерть.
Смерть всему, смерть всякой твари, гнусу, медведю, птице, даже мудрому филину – смерть. Смерть бессмертному вещему ворону. Всякому дереву, всякой былинке, воздуху, духу, запаху, тлению – смерть!
...Вот две стены пламени, по сотне верст каждая, идут друг на друга в атаку, в атаку, в атаку!.. Вверху воют ураганные смерчи раскаленного воздуха. Орлы и орлята, запоздало спасаясь от смерти, взлетали ввысь вертикальным винтом, но, ударившись в своды раскала, падали горящими шапками, шлепались о землю углем. Температура – тысяча градусов, сила бури – баллов двенадцать, а может, и сто...
Две стены пламени стали загибать своды синими, желтыми, красными вспышками друг другу навстречу. И вот своды замкнулись на всем протяжении. Страшный гул прогудел над тайгой, земля задрожала, и сотряслись небеса. Будто тысячи одноногих Федотычей залп за залпом грохали из всех пушек мира.
– Конец, конец... – сказали на башне, вздохнули. Каждый сказал по-своему, и по-своему каждый вздохнул.
– Конец, – сказали и рабочие внизу. Подобрав в тайге убитых, они вернулись домой.
Пожар на сотню верст кругом оградил стеной опустошенного пространства все предприятия Прохора Петровича, положив предел огню. Прохор спасен.
Пожар-разрушитель догорал бы еще целую неделю, и целую неделю воздух продолжал бы быть отравлен дымом. Но к ночи хлынул с громом проливень-дождь и, обладая несокрушимым могуществом, в одночасье вбил в землю и дым и огонь. Ни уголька, ни головешки.
– Дождевное лияние, – высокопарно заметил отец Александр.
Туча быстро ушла. Все концы неба просветлели.
– Проклятая!.. Анафема!.. – вслед уходившей туче злобствовал Прохор. – Где ты, дьявол, раньше-то была?!
Но туча ушла не совсем, ее тяжелый мрак навсегда остался в лице Прохора Громова, заполз в зрачки, объял неистребимым унынием всю его душу.
...И если зазвучит струна, то другие, включенные в аккорд струны, ей тотчас ответят. Таков закон детонации. Кэтти сидела у себя одна со своей тоской всю ночь.
Экзамены кончились, школа закрыта, весна не ждет, гроза разрядила воздух. А в душе по-прежнему все та же хандра, дым, хмарь.
Ночь. Электричество притушено красной кисеей. Поэтому комната в легком зареве. Чуть золотятся рамы картин. Нетронутая кровать печальна, одинока. Канарейка в клетке встряхнула перышки, побредила, открыла бисерный глазок на Кэтти.
– Здравствуй, девушка, – чирикнула она, но Кэтти не слыхала. Канарейка защурила свой бисерный глазок.
Кэтти посолила кусочек черного хлеба, понюхала его, выпила рюмку зубровки, широко открыла глаза, чуть наклонила голову, прислушалась, как, впитываясь в кровь, томит вино. Пожевала соленую корочку, опять налила и выпила.
Кэтти подурнела: проморщинилась кожа у глаз, губы стали невыразительны, вялы. Она – украдкой, тайно – пьет давно. Чернила, бумага, отец об этом не знают. Не знает никто. Но отпечатки каждого мига четко кладутся в ее собственном сердце и где-то в сферах эфира. Невроз сердца, нервы расшалились, покровы тела анемичны, – так сказал врач.
– Надо встряхнуться вам, барышня, – сказал он. «А как?» Врач улыбнулся, мотнул бородой и с вульгарной ужимкой развел руками.
Кэтти пьет пятую рюмку и нюхает корочку. Стоило с ним ходить в дыму, по тайге, уединяться. «Глупец! Невменяемый». Правда, поцеловал, но как?.. Так прощаются с мертвым. И хоть бы полслова о любви, о женитьбе, хоть бы признак страсти. Ну схватил бы, бросил бы, сделал бы мерзость! Она, конечно, дала бы ему оплеуху. «Но он же мужчина! Болван. Мечтает о Нине. Дурак. Он в сто раз хуже Ферапонта! Заграничный урод!»
Мистер Кук лежит на кровати. Он зверски икает. Иван подает стакан воды, говорит:
– Это кто-нибудь вас вспоминает, барин. А вы вот энтим пальцем в нёбо, а сами твердите: «Икота, икота, сойди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого...» И как рукой.
Кэтти пьет шестую рюмку, сплевывает, закрывает лицо белыми ладонями, тихо хохочет. Сквозь пальцы слезы текут. Кэтти вырывает из прически гребенки, шпильки, кидает их на пол, валится головою на стол. Резкий, пронзающий душу всхлип. Канарейка встряхивается желтым тельцем, опять открывает из дремы в дрему свой бисерный глазок. Дрема в розовом зареве. Свет лампы призакрыт вуалем.
...Рука еще раз тянется к сегодняшнему письму. Строчки милой приятны пред сном, как молитва монаху. Протасов быстро находит эти строчки.
«Андрей! Мне страшно подумать, не только сказать, но, кажется... я люблю тебя...»
Сердце Протасова дрожит, и, наверное, где-то дрожит сердце Нины.
Дьякон вернулся домой без рясы. Манечка пилит его немилосердно. Дьякон притворяется, что слушает внимательно, но думает о другом: о той снежной ночи с Кэтти. И смешливо грустит: вот если б он до того случая потерял рясу... Эх, дурак, разиня!
– Манечка!.. Влетело мне в голову расстричься... – бредит он.
– Что? Что? Спи знай.
Дьякон мямлит что-то и вскоре испускает мужественный храп.
V
Убитых лесорубов вычеркнули из списка живых, составили акт. Сделав свое дело, рабочие чувствовали себя героями. Стали терпеливо ожидать исполнения хозяйских клятв.
Проливень с громом сменился холодами. Внутренне похолодел и Прохор Громов. Моросил мелкий дождь, краски природы помрачнели. Мрачнел и Прохор Громов. Но все-таки неистребимый дух алчности подсказал ему способ извлечь пользу из несчастья.
Говорили в кабинете с глазу на глаз, тайно:
– Вот тебе адреса моих кредиторов, адреса заводов, фирм. Завтра чуть свет поезжай в Питер. Найдешь нужных людей. Заметки в двух-трех газетах. И – по четвертаку за рубль. Понял?
– Понял. Вот это по-коммерчески!.. – И Иннокентий Филатыч оскалил в широкой улыбке свои белые вставные зубы. – Два раза сам так делывал.
– Вот тебе пока чек на двадцать пять тысяч. Коммерсантам в случае удачи вышлю чеками же. Только знай! – И Прохор по-сердитому загрозил пальцем: – Носы не кусать, в тюрьму не попадаться. Вообще вести себя по-деловому...
– Как можно! – замахал руками старик. – Этакое поручение, да чтобы я... Даю крепкое купецкое слово... Образ Христа целую! – Старик торопливо прикрыл носовым платком сиденье плюшевого стула, встал на платок грязными сапогами и набожно приложился к иконе.
Прохор дал приказ выплатить рабочим жалованье не талонами, а наличными деньгами. Контора выдала людям сто тысяч.
Обогатившийся народ хлынул обогащать частных торговцев: у тех все есть и все много дешевле. На следующий день, велением Прохора, пристав закрыл все частные лавки, а купцов, своих вчерашних друзей и собутыльников, стал выселять за черту предприятий. Упорствующих хватал, сажал в чижовку.
Рабочие поняли, что, хотя одно из их требований удовлетворено, однако Громов снова загоняет их в свои магазины, хочет вернуть в карман выданные конторой деньги. Шепотки пошли, сердитое ожидание, что будет дальше.
А дальше наступила неизбежная череда событий, в круг которых своевольно ввергал себя Прохор Петрович Громов.
В сущности, неопытный взор мог бы скользнуть мимо этих событий равнодушно, – настолько они, взятые в отдельности, ничтожны, естественны. Для простого умозрения эти события, казалось, возникали случайно, на самом же деле – железный закон борьбы двух враждующих сил нанизывал их на общую нить неизбежности. А нанизав... Впрочем, предоставим все времени.
Мы склонны утверждать, что вся жизнь, все грани жизни Прохора Громова созданы им самим, и отнюдь не случайны. И поступки всех персонажей: от Нины до Шкворня, до волка, связавших судьбу свою с Прохором Громовым, сделаны им же, то есть Прохором Громовым. В это мы верим, ибо мир весь – в причинах и следствиях.
Так, Анна Иннокентьевна, мягкотелая вдова, согласилась быть женою Ивана Ивановича Прохорова, человека в больших годах. Вот вам первое следствие, а Прохор Петрович – причина. Прохор пошалил с нею, разжег ее сердце, обидел. И вот бабья месть: «На же тебе, на, хоть за старика, а выйду, назло выйду, на!» Надоело ей все, захотелось сменить декорации, чтоб начать новый спектакль своей жизни. Она, пожалуй, и не вышла бы, да настоял отец: «Обязательно выходи. Ивана Ивановича надо ублажать. А почему – вскорости сама узнаешь».
Иван Иваныч венчаться у отца Александра не пожелал: огласка неприятна. Уехал в село Медведево. И, не умри Анфиса, он не плакал бы горько у могильного креста ее, а может, женился бы на ней. И, не пожелай Прохор, чтоб его отец очутился в сумасшедшем доме, Иван Иваныч не играл бы в маскарад: он был бы не Иваном Иванычем, а, как всегда, – Петром Данилычем Громовым. И, не будь Петр Данилыч поневоле Иваном Иванычем, его новая жена Анна Иннокентьевна Громова, узнав лишь на второй день свадьбы, кто муж ее, не рыдала б навзрыд, не билась бы головой в стену и, потрясенная грехом кровосмешения, не выкрикивала б как сумасшедшая: «Стыд на мою головушку, стыд!» Беременная от сына вчерашнего мужа своего, она вся впала в душевный мрак; исхода не было, – она стала подумывать о петле.
Иначе не могло и быть. Потому что нашего Прохора родил Петр Данилыч, развратник и пьяница. Петра же Данилыча родил дед Данило, разбойник.
Яблоко, сук и яблоня – все от единого корня, из одной земли, уснащенной человеческой кровью.
Неотвратимая закономерность этого сцепления причин и следствий давала себя знать и там, у Прохора.
Приехал назначенный на предприятия Громова жандармский ротмистр Карл Карлович фон Пфеффер. С ним унтер-офицер Поползаев в помощь жандармам Пряткину – Оглядкину. И еще рота солдат «для поддержания, в случае надобности, силой оружия спокойствия и порядка». При роте два офицера: пожилой, без усов, толстяк Усачев и молодой, с большими запорожскими усами, Игорь Борзятников.
Он, вероятно, станет супругом Кэтти. По крайней мере таков замысел автора. Но что будет в жизни – автор не знает: может быть, Кэтти сойдет с ума, может быть, мистер Кук, вместе с лакеем Иваном и Филькой Шкворнем, выкрадет Кэтти из-под венца и умчит ее на тот свет, в Новый Свет, в Соединенные Штаты Америки. А может случиться и так, что Кэтти отравится ядом.
– Ах, какое несчастье, ах, какое несчастье! – деланным голосом восклицал Парчевский и с соболезнованием покачивал головой. – Вы, голубчик, Иннокентий Филатыч, поскучайте, я живо напишу. Я все уразумел из ваших слов. Может быть, коньячку выпьете или водочки?
– Ни в рот ногой... Не пью-с, – потряс бородой тороватый старец. – Лимонадцу можно-с.
– Вот боржом. – Владислав Викентьевич удобно усадил выгодного гостя за преддиванный столик, а сам сел к письменному столу и приложил к белому лбу карандаш, сбираясь с мыслями.
– И механический завод сгорел?
– И механический завод как бы сгорел.
– Ну, а новый дом Прохора Петровича, лесопильные заводы, мельница?
– И новый дом как бы сгорел, и мельница как бы сгорела, а старая лесопилка сгорела дотла, и шпалы, и тес... Ой, ой!.. Убытков страсть! – Старик прослезился и вытер глаза платком.
Владислав Викентьевич вдруг по-сатанински улыбнулся и сказал самому себе: «Ага!» Карандаш ото лба легким вольтом прыгнул на белое поле бумаги. Погоняя одна другую, строчки ложились быстро. Старик битый час рассматривал интересные альбомы с голыми девками. Статья окончена. Парчевский сиял. Он размножит ее и сегодня же сдаст в газеты. У него везде связи. Недаром же он – племянник губернатора. По протекции дяди он служил теперь в министерстве путей сообщения.
Старик, причмокивая, прослушал статью со вниманием. В статье говорилось о стихийном бедствии, о небывалом таежном пожаре, «как будто» уничтожившем все предприятия миллионера П. П. Громова. Большинство предприятий застраховано не было. Фирме «как будто» угрожает крах.
Статья написана дельно, убедительно, подтверждена дутыми цифрами; она производила впечатление корреспонденции с места. И была подписана: «Таежный очевидец».
– Очень правильно... Закатисто!.. – прищелкнул языком старик.
– Да уж я... Чего тут... – похвалил себя Парчевский, и лицо его раскололось надвое: пухлый рот и щеки улыбались: «Меня-то, мол, не проведешь, я, мол, все давно понял»; глаза же были серьезны, требовательны, будто хотели сказать: «Гони монету».
– Теперича постанов вопроса таков, – учуяв полуявные помыслы Парчевского, сказал старик, потирая руки. – Надо собрать всех кредиторов на чашку чаю, рубль ломать. Вы, дорогой мой Владислав Викентьевич, должны мне, старику, помочь. Переговорите кой с кем лично, особливо ежели с заводами. С выгоды получите один процентик-с. И, кроме сего, вас никогда не забудет Прохор Петрович.
– На какую сумму будет сделка?
– Так, полагаю, не меньше полмиллиончика...
– Тогда процент мал. Три процента.
– Что вы-с!.. Пятнадцать тысяч?! Высоко хотите летать...
– Риск... Как будто за такие дела можно и в тюрьму сесть. А впрочем... Давайте уповать на «как будто».
– На «как будто»? Вот, вот! Это самое...
И пронырливые глазки старика, подмигивая Парчевскому, утонули в смешливых морщинках, как в омуте.
– А как Нина Яковлевна? Она дома?
– Дома-с, – соврал старик и, хлопнув себя по лбу, заморгал бровями: – Ба-ба-ба! Вот старый колпак... Вот храпоидол... Ведь забыл вам поклончик от Нины Яковлевны передать... Ах, ах! – убивался, паясничал старец. – Как уезжал, она позвала меня и говорит мне: «Обязательно разыщи дорогого моему сердцу Владислава Викентьича...» И адрес дала ваш, угол Невского и Знаменской...
– Откуда ж она...
– Да уж... Сердце сердцу, как говорится... весть подает. Уж я врать не стану...
Красивое, с гордым профилем лицо Парчевского на этот раз засияло целиком.
– Ах, милый Иннокентий Филатыч!
– «И передай ему, говорит, что я его помню и, может быть, думаю о нем день и ночь...»
– Преувели-и-чиваете, – радостно замахал Парчевский на плутоватого старца веселыми руками. – Не сказала ли она «как будто думаю» и «как будто бы помню»?
Старик было тоже засмеялся, но тотчас же сбросил с себя смех.
– Поверьте, – сказал он, – Нина Яковлевна очень даже о вас тоскует. Я сразу сметил. Ну-с, до свиданьица, дорогой! До завтра. Уж вы постарайтесь...
– Дайте мне тысячи полторы.
– Зачем?
– А как же? Газетчикам дать надо, чтобы это «как будто» не вычеркнули? На личные расходы, связанные с нашим делом, надо?
Старик не прекословил: поплевывая на кончики пальцев, отсчитал деньги, оставил адреса кредиторов.
Подмигнули друг другу, расстались.
Моросил питерский дождь. Асфальты блестели.
VI
– Позвольте познакомиться с вами. Ротмистр фон Пфеффер.
Прохор поморщился. Обменялись друг с другом напряженными взглядами. Оба слегка улыбнулись: Прохор иронически, ротмистр чуть подхалимно. Высокий блондин, голубые глаза, бачки, длинная сабля катается на колесике по полу, чиркает пол.
– Его превосходительство собирается заглянуть как-нибудь к вам лично.
– Зачем?
– Интересуется.
– Вот пожар был. Прошу садиться.
– Да, дым, я вам доложу, на всю губернию. Даже у нас, – двусмысленно сказал ротмистр.
– Пожар этот стоит мне больше трехсот тысяч.
– Да что вы? – И колесико чиркает по полу.
– Пришлось сделать большие уступки этим скотам рабочим. Черт, неприятность. Черт!..
– Н-да... Я вам доложу, это н-да-а...
Теплый вечерний час. Чайный стол накрыт на веранде с выходом в зеленеющий сад. В саду над кустами малины, окапывая их, работал садовник. Ему помогали сопровождавшие ротмистра Пряткин – Оглядкин. Унтер Поползаев дежурил на кухне. Карл Карлыч один выходить опасался: новое место, глушь. Чай разливал сам Прохор Петрович. Попискивали кусучие комарики. Карл Карлыч стращал их дымом сигары.
Вдруг, вдали, с ветерком – «многолетие». Все гуще и громче. Карл Карлыч перестал брякать ложечкой.
– Что это?
– Дьякон... Купается, должно быть. Верстах в трех...
– Ах, дьякон... Ферапонт, если не ошибаюсь? Из кузнецов?
– Он самый... А вы как же это...
Карл Карлыч выпустил дым из одного, из другого уголка бритого рта, сказал:
– Списочки-с... Н-да-с...
А с ветерком долетало все гуще, все выше, все крепче:
– Благодетелю наше-е-му-у... Хозяину Про-о-охору... Гро-о-омову.
– Голос, я вам доложу, феноменальный.
Ротмистр, гремя шпорами и подергивая левым плечом, разгуливал по веранде.
– Да... Это жена все... А я... знаете... так...
– Что, неверующий? – подмигнул гость хозяину.
– Да нет... А так как-то... Знаете, дела...
– Ну-с, а вот Протасов? Он как насчет...
– Великолепный человек...
– Да, человек изумительный. С рабочими ладит, нет? И вообще...
Прохор Петрович смутился, обдумывал, боялся хитрых ловушек.
– Да, ладит с людьми, – ответил он. – Если б Протасов не умел ладить с рабочими... Я б тогда его в три шеи.
– Я удовлетворен, – сказал ротмистр двусмысленно, подняв правую белобрысую бровь.
Прохор подарил ему ящичек гаванских сигар.
– Спасибо, спасибо... Ну, что ж... Вы – это мы, так сказать, а мы – это вы. – И, щелкнув шпорами, Карл Карлыч откланялся.
Вскоре кой у кого произведены были обыски. Брошюрки, подписные листки, нелегальщинка. Кой-кто схвачен. Прохор отвел особое помещение для арестованных. Накопят с десяток – и вышлют.
Допрашивался техник Матвеев, двое-трое рабочих, десятник подрывных работ, выборный староста барака номер пять старик Аксенов и, для отвода глаз, Наденька.
Ротмистр обычно вел допросы очень мягко, нащупывал нити и всех поражал, что знает до тонкости местные условия жизни, настроение рабочих, всех крикунов, «говорильщиков», знает и Гришу Голована и Книжника Петю. Словом, у него своих собственных нитей целый клубок.
Получив острастку, «говорильщики» подтянулись, стали ловчиться, хитрить. Петя обрился и по фальшивому паспорту служит теперь на дорожных работах: вяжет фашинник, тешет колья, помалкивает.
Техник Матвеев однажды отвел Протасова в кусты; долго ходили вдоль берега, вели беседу.
– Да, пожалуй, для забастовки момент упущен, – сказал Протасов, прощаясь с Матвеевым.
– Почему?! – возразил тот. – Нисколько. Только надо учесть настроение рабочих и не расхолаживать их. Борьба так борьба...
Протасов поморщился.
Карл Карлыч – из остзейских баронов – был предан престолу российскому. Он жил вблизи церкви, в новом доме, вверху. А в нижнем этаже два взвода солдат. Жалованье получал от казны, а за особые услуги – от Прохора Громова. Сделал визиты мистеру Куку, семейным инженерам, судье, отцу Александру и приставу.
Наденька чуть не растаяла – ротмистр красив, но визит был короток: налили, чокнулись, выпили. Впрочем, Карл Карлыч сказал:
– Я очень на вас надеюсь, Надежда, простите, Петровна? Крамола, понимаете. Надо как-нибудь... Да-с.
Посетив отца Александра, подошел под благословение.
– Вы православный?
– Нет-с, протестант-с...
– Похвально, похвально, – сказал священник, а Карл Карлыч не понял: похвально ли то, что он протестант, или то, что пожелал принять благословение от простого попа.
– Ну, как существуете? Как настроение среди служащих, среди рабочих?
– Простите, полковник...
– Пардон. Я только ротмистр еще...
– Простите, Карл Карлыч... Но я ведь человек не общественный, живу замкнуто... И жизнь – мимо меня.
– Ну, а как же... Ну, например, на исповеди? Ведь должны ж они каяться, и должны ж вы, если не ошибаюсь, предлагать им вопросы: а как, мол, относитесь к государю, к установленным порядкам и прочее?..
– Но, видите ли... – болезненно замялся священник.
– Нет, нет! – воскликнул жандарм. – Вы не так меня изволили понять. Не персонально, конечно, не Петр, не Сидор, а так вообще, общее ваше мнение о здешних умах?
Отец Александр неловко вздохнул, под рыжими бровями шмыгали глазки, не знали, куда им глядеть. Шелковая ряса зачахла.
– Ну-с, так как-с? – стал жандарм издали разглядывать свои точеные ногти.
– Простите, Карл Карлыч... Но мне казалось, что вы пожаловали...
– Нет, нет, нет! – И ладони жандарма упали. – Было бы смешно, нелепо. Ничуть не допрос, ничуть не допрос, – заспешил жандарм. – Я, батюшка, гость ваш.
– Премного рад, премного... Рюмочку лафитцу. Прошу вас.
Чокнулись, выпили. Шелковая ряса хрустела.
– Да, ветер безверия, вольномыслия действительно подувает во всем мире. И не утаю от вас, как от представителя властей предержащих, что легкие веяния этого ветра залетают и сюда.
Холеное, чуть припудренное лицо жандарма сделалось серьезным, улыбнулось, стало серьезным вновь. И шпоры под креслом звякнули. Отец Александр понюхал табачку.
– По секрету скажу вам, батюшка, общее состояние дел в нашем отечестве неважно. Смутьяны рыщут по России целыми полчищами. На фабриках красненький душок... И прекрепкий...
– О Господи! – перекрестился отец Александр. – Спаси российскую державу нашу. Спаси, Господи, люди твоя.
Отец Александр чихнул, а жандарм за него посморкался в голландского полотна платок.
– Трудно-с, трудно-с, я вам доложу. Очень трудно мне служить. И трудно и опасно. Хотел бросить все. Но... Но у меня семейство...
– Да, ваша служба очень, очень...
– Что? – Ротмистр вздохнул. Его взор замутился человеческим чувством. Но вот левое плечо подскочило, задергалось, блестя серебром погона. – И вообще, уважаемый отец Александр, в своих замечательных проповедях не касайтесь, пожалуйста, острых тем. Прошу вас... Например, на тему о взаимоотношении труда и капитала, хозяина и рабочих. Мы-то с вами, конечно... Знаете, ведь в Евангелии, там прямо: «Горе богатому» и «Раздай все бедным». Это соблазн. Мы-то с вами... А в общем, что две тысячи лет тому назад было истиной, то нынче... – Жандарм запнулся, опять стал рассматривать ногти. Батюшка сильно смутился легкомысленной репликой ротмистра, хотел вступить с ним в спор, но сердце постукивало.
...Мистер Кук страшно боялся жандармов: он полагал, что жандармы приходят, чтоб обыскать и схватить. Иль пристрелить тут же на месте. О простом же визите к нему ротмистра он и мечтать не мог. Но случилось так: Карл Карлыч пошел к нему первому, – их дома почти рядом. А как на грех, вчера были обыски и кой-кого загребли. Мистер Кук трус. Сегодня воскресенье, он сидел за столом, читал Библию на английском языке, подарок матери. Читает – и хоть бы слово влетело в голову. «О нет... жандармский офицер приехал сюда неспроста, – думал он, – я иностранец... Примет, пожалуй, меня за шпиона. И в каторгу. Прямо без суда. О, я русские порядки знаю. Варварская страна. Брр...»
Чтоб перебить настроение, мистер выпил сильную дозу коньяку.
Вдруг вихрем влетел Иван:
– Барин!! Жандармы пришли!
И покажись мистеру Куку, что, крикнув так, лакей выпрыгнул из окошка на улицу. Библия брякнулась на пол.
В дверях величавый Карл Карлыч; шпоры звякнули, сабля пристукнула в пол. Мистер Кук вскочил, вскинул руки вверх, как пред экспроприатором, изо рта упала остывшая трубка.
– Позвольте представиться.
– Алло, алло, – бессмысленно бормотал мистер Кук, нижняя челюсть поплясывала. Он враз потерял русский правильный выговор: – Я вот эта, эта, эта... – хватался он за рулоны чертежей. – Я инженер... Политик не вмешайся... Революций не нада. О нет, о нет! Царь император... Алло!
Жандарм улыбнулся, все понял. Мистер Кук вытер с губ слюни, стал приходить в себя. И вскоре за третьей рюмкой коньяку у них пошел разговор на получистом английском.
– Иван! Больван!.. Адьёт! Господину барону коффэ...
...А вот у Протасова. Любезный визит и нечто вроде допроса. Оба представились. Протасов наружно спокоен. Впрочем, на левой руке дрыгал мизинец. Сели.
– Простите, Андрей Андреич. Я попросту. Угостите чайком. Дома, я вам доложу, желтая скучища. Один.
Анжелика вышмыгнула с завитой челкой; она дважды меняла туалет: гость красив, особенно губы и бачки.
Гость и хозяин долго витали околицей. Они оба знали, о чем будет речь и в какой плоскости потекут разговоры. Вечер. Самовар затянул на одной ноте грустную песню. Под этот плакучий выписк Протасову почему-то взгрустнулось. Он вспомнил Нину, ее фразу в письме: «Кажется, люблю». Самоварчик затих. Мысли о Нине, совсем неуместно пришедшие, лопнули. Ротмистр потер руки, повернул перстень на пальце камушком вверх, сказал задушевным тоном, как старому другу:
– Дорогой Андрей Андреич, милый. Вы человек крупного европейского масштаба. Вы должны и по-европейски мыслить. Вы, конечно, лучше меня знакомы с доктринами Карла Маркса. Ну-с? И что же-с? У-топия-с!.. Нет почвы-с. То есть в нашей мужичьей стране. Теперь так. Я вас, конечно, мог бы во многом уличить. Но...
– В чем же? – И Протасов ловил внутренним слухом, с какой стороны хлопнет капкан.
– Но... Я обожду принимать меры, которые мог бы принять, не откладывая.
Протасов заерзал.
– Например, так. Ночь. Дождь. Я число вам скажу после. Вас разыскивает рабочий. Кто? Скажу после. У вас фонарик. Мигалочка. Миг-миг-миг... Потом путешествие чрез лес, к заброшенному бараку. Техник Матвеев, рабочие, лекции. Что ж? Вы как расцениваете это?
– Допрос?
– Да, допрос.
Опущенные веки Протасова дрогнули, во рту стало сухо. Мелькнула неприятная мысль о провокаторе. Вспомнил, как встретил в ту ночь двух всадников: Наденьку и кого-то еще. Стало противно.
– Вы, конечно, презираете меня? – вкрадчиво промурлыкал ротмистр, вздохнув. – Разрешите снять саблю. Попросту. Можно?
Ротмистр поставил саблю в угол, к изразцовой печке, задержался у печки, наклонился, чтоб поправить сползший носок, а сам все зорко по печке, по швам изразцов, по царапинкам. Стал ходить взад-вперед. Оба молчали ненавидящим молчанием. Протасов курил. Янтарный мундштук в зубах прыгал. И неожиданно с отеческими в голосе нотками:
– Андрей Андреич, милый... Бросьте все это, умоляю вас. Успокойте мое сердце. Ну, что вам за охота пришла? Вы получаете двадцать пять тысяч. Батюшки! – всплеснул ротмистр руками. – Ведь это ж министерский оклад, ведь это ж... Я – четыре, да и то чувствую себя барином и вовсе не желаю в революцию играть. Тьфу, чтоб ей...
Протасов улыбнулся лицом, но сердце серьезилось, ныло. Подумал: «Ловко, мерзавец, капканы ставит». Мизинец дрогнул. И весь он внутренне содрогнулся, как при виде змеи.
– Дорогой Андрей Андреич! Думаете, что и мое сердце не ноет? Я вам доложу – ноет. Да и как еще! Разве я не патриот, разве я не сын нашей несчастной России? Страна темна, бесправна – это аксиома. Всякий дурак видит. Царь под скверным влиянием. Россия гибнет. Но как, как пособить?! Вы скажете – революцией, да? – попробовал поставить ротмистр капканчик.
– Нет, я не собираюсь вам это говорить.
– Ну да, конечно. – Ротмистр разочарованно дернул левым плечом, заложил руки в карманы рейтуз и на ходу стал намурлыкивать из «Синей бороды» веселый мотивчик. – Обидно, обидно... Да. Вы не хотите со мной быть откровенным. Жаль.
Сильные токи вдруг подняли Протасова на ноги.
– А знаете ли, господин ротмистр, условия, в которые поставлены наши рабочие вот здесь, здесь, у нас?
– Отчасти – да, – прищурился ротмистр, пружинно потряс головой.
– И что же?
– Хе-хе... Допрос?
– Нет, просто хочу знать ваше мнение, ротмистр.







