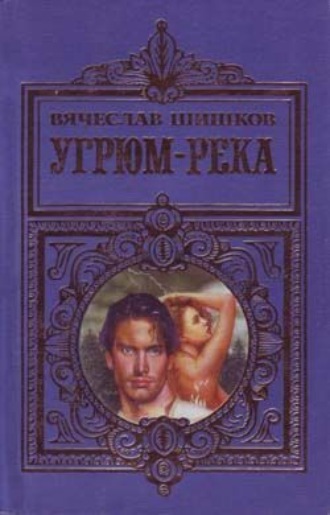
Вячеслав Шишков
Угрюм-река
– Я только одного боюсь, одного боюсь, – с силой сказала она, – как бы в тебе это не укрепилось.
– О! – вскричал Прохор и лишь открыл рот, чтоб поклясться, как возле них раздалось: «Боже, вот счастливая встреча!» – и, словно из-под земли, встал перед ними Андрей Андреевич Протасов.
Он – в белом форменном кителе с ученым значком, белой инженерской фуражке и с тугим портфелем. Он приехал сюда дня на три, на четыре по коммерческим делам. Он страшно рад встрече, а как здоровье Якова Назарыча? Были ль они на Сибирской пристани? Нет? Тогда, может быть, прогуляются вместе с ним? Отлично. И на могиле Кулибина не были?
– А кто такой Кулибин? – спросил Прохор.
– О, вам это необходимо знать, – сказал инженер. – Это ж изобретатель, гений-самоучка, и по свойству темной русской гениальности он частенько ломал голову над тем, что всеми Европами не только забраковано, но и давно забыто. Хотя кое-что им изобретено и настоящее, например: яйцеобразные часы; в них и Христос воскресает, и мироносицы являются, и ангелы поют. После этих часов Екатерина Вторая к белым ручкам своим прибрала его... Как же! В Питер выписала, место, награды, пенсии. У правительниц шлейфы всегда длинны, и кто же может с благоговением поддерживать их, кроме придворных лизоблюдов, льстецов и гениев...
– Какой вы злой! – сказала Нина.
– Ничуть! И я Кулибина вовсе не желаю опорочить. Он великолепный арочный мост изобрел, по своему собственному расчету. И я думаю, математической базой для этого расчета было русское авось. Да!.. И в этих русских самоучках-гениях – вся наша русская несчастная судьба: либо ломиться в открытую дверь, либо тяпаться головой об скалу. А поэты и кликуши сейчас же начинают вопить осанну, оды, дифирамбы и гениям и всему русскому народу: великий народ, избранный народ! В глазах же кичливой Европы, конечно, наше мессианство, якобы исключительная гениальность – гниль и чепуха!
От жарких слов инженера Прохор оживал и загорался.
– А видите, Прохор Петрович, дымок? Вон, вон... Знаете, что это? Это Сормовские заводы. Нам необходимо с вами посетить их... Там пароходы делают, землечерпалки и...
– Пароходы?! – воскликнул Прохор. – Обязательно! Да и вообще, Андрей Андреич, мне бы хотелось с вами как следует поговорить...
– Рад.
– Андрей Андреич, – ласково поглядывая в его живые глаза, сказала Нина. – А вы интересуетесь старинными иконами и вообще стариной?
– А как же. Да я ж самый заправский иконограф, икономан, как хотите. У меня на Урале целая коллекция: фряжские, строгановские, даже одна иконка Андрея Рублева есть.
– Ах, какой вы счастливый! – вздохнув, сказала Нина.
– А вы женаты? – вдруг спросил Прохор, насупясь.
– Нет.
И два взгляда – Нины и Прохора – встретились. Третий быстро рассек их:
– И не женюсь.
X
Ярмарка близилась к концу. Яков Назарыч легкомысленно заострил бороду, подстригся, купил серый щегольской костюм, пальто, сиреневый галстук, перчатки, тросточку – словом, весь преобразился, помолодел, даже излишки брюха сумел подтянуть, вобрать в себя. И гулял, как-то извивно выгибаясь, весело посвистывая и крутя в воздухе сверкающей тросточкой.
Прохор – весь в деловой лихорадке – изо всех сил помогал Андрею Андреевичу, а тот помогал ему. Ездили вместе на Сормовские заводы. Прохор решил заказать себе, по совету Протасова, небольшой, в двадцать индикаторных сил, пароходик, две помпы, паровой двигатель, части для небольшой лесопилки. Впрочем, на первоначальное оборудование золотых приисков инженер Протасов составит ему смету, и, вероятно, мало-бедно придется Прохору затратить тысяч тридцать-сорок.
Ни слова не говоря, Яков Назарыч вручил Прохору чек на пятьдесят тысяч и похлопал по плечу: «Валяй!»
Прохор разъезжал на извозчиках: ему надо купить кирки, ломы, мотыги – приценялся в двадцати местах, – ему надо самые лучшие, но подешевле, купил две палатки, походные кровати, даже брезентовую лодку.
Нина не могла побороть в себе соблазн: Андрей Андреевич такой знаток искусства. Иногда, урывками, вдвоем посещали они церкви, пригородные монастыри, он попутно читал ей лекции по иконописи и русскому зодчеству. Даже собирались съездить в Ярославль. Милый, милый Андрей Андреевич!
Прохор сперва относился к этому совершенно равнодушно, потом стал раздражаться, наконец, побросав лопаты с кирками и мотыгами, старался быть при Нине.
– Если ты, Нина, поедешь с Протасовым в Ярославль, это неприятно будет мне.
– Почему?
– Потому что неприятно. – Брови Прохора дрогнули, и дрогнул голос.
– Нина не из таких, – сказала она двусмысленно и вдруг поцеловала его.
– Ниночка, значит, любишь?!
– А как ты думаешь? Я ведь не графиня Замойская.
Под вечер Прохор возвращался на лошади в номер. Пролетка до того нагружена ящиками, тюками, лопатами, что он задрал ноги чуть ли не на плечи извозчику.
– Пра-авей!..
Навстречу шикарный лихач. В экипаже – шляпа на ухо – Яков Назарыч. Он молодецки подбоченился левой рукой, а правой обнимал красотку, нежно привалившись к ней плечом, как медведь к сосне. «Ах!» Прохор быстро отвернулся. Яков Назарыч выхватил у красотки зонтик и моментально прикрылся им.
– Эге!.. – протянул Прохор. – Графиня Замойская никак?.. – И хихикнул.
– А ведь, кажись, узнал, дьяволенок, – промямлил Яков Назарыч и, вручая зонт, вновь прильнул к красотке. – Господи Христе, до чего пышны вы, мадам. Кажись, без корсетов, а ни единого ребрышка прощупать не удается. Клянусь честью!
Номер сибиряков был большой, трехоконный. За перегородкой помещался Прохор. Беседовали втроем: Андрей Андреевич забежал проститься: он завтра – на Урал. В душе Нины что-то двоилось, и сама не знает что: ее думы как странник на распутье двух дорог. Потянет одну ниточку, потянет другую. Ниточка к сердцу инженера – золотая струнка, певучая и тонкая. Ниточка к сердцу Прохора – канат.
А те двое говорят, говорят. О чем? И к чему эти разговоры, когда при разлуке надо грустно, торжественно молчать?
– Итак, еще раз повторяю, ваш пароход будет готов к весне. В разобранном виде доставите его до Сибирского бассейна, там соберете и – прямо на Угрюм-реку. Ну-с. – Андрей Андреевич взял фуражку и подошел к поднявшейся Нине.
– Нина Яковлевна! Вы столько доставили мне чудесных минут, что... Позвольте поцеловать ваши ручки...
– До свиданья, до свиданья... Мы так все привыкли к вам, Андрей Андреич... Тоскливо будет без вас. Оставайтесь!
Он развел руками, сокрушенно потряс головой, вздохнул.
– Долг... дела, – и быстро повернулся к Прохору. – А с вами мы еще поработаем!
– Значит, решено. Ко мне.
Прохор пошел проводить его. Нина приникла к окну. Пробелел и скрылся во тьме инженер Протасов. Надолго ли? Может – навсегда.
Нина сидела грустная, в глубоком кресле, в полутемном углу. И костюм у нее темный. Серыми, немигающими глазами сосредоточенно всматривалась в будущее, ничего не видела в нем, ничего не могла понять.
Прохор крупно, твердо ходил от стены к стене, покручивая бородку; он то хмурил брови, то улыбался. Он видел будущее ясно, четко. Еще не заглохли в его ушах речи Протасова, жажда деятельности напрягалась в нем, как пружина. Только бы для начала побольше денег, и тогда сразу Прохор размахнется на всю округу. Отец вряд ли много даст: сам не дурак пожить. Но, во всяком разе, Прохор Анфису турнет: дудки, Анфиса Петровна, наживай сама! Дудки-с!
– Как долго нет Якова Назарыча. Почему это?..
Нина не ответила. Может быть, не слыхала этого вопроса.
Крепкие Прохора шаги, как молот в наковальню, в молчаливое Нинино раздумье: Андрей и Прохор. Так как же быть? Конечно, Прохор упрям, но он привязчив, из него любовью, лаской Нина может сделать все. Ах, к чему еще мечтать? Недаром же она, помолясь со слезами Богу, вынула сегодня утром из-за образа Богоматери бумажку: «Прохор».
– Ниночка, – шаги застучали в сердце. – Давай поговорим. Садись на диван. – Прохор обнял ее за талию. Нина осторожно сняла его руку, отодвинулась. – Ниночка, милая! – Он перегнулся и, глядя в пол, сцепил в замок кисти рук. – Ведь это ж не секрет, что я должен жениться на тебе?
– Не знаю, – равнодушно и холодно, как осенний сквознячок, протянула она.
Прохор повернул к ней голову.
– Вот как? Почему же? Ниночка?!
– Ты недостаточно любишь меня. Даже, может быть, совсем не любишь...
– Я?! – Прохор выпрямил спину и уперся ладонями в колени. – Кто, я?
– Да, ты, – полузакрыла она глаза. – И, кроме того... – Она отвернулась в сторону, к посиневшему ночному окну. И кроме того... У тебя было много женщин: Таня какая-то, Анфиса и... вот здесь... эта... У меня тоже был один... Может, и не захочешь взять меня... такую...
– Ты врешь?! – Прохор вскочил, брезгливо оскалил зубы и сжал кулаки.
А как же Нинин капитал? И его гордые деловые планы сразу лопнули, как таракан под каблуком.
– Врешь, врешь! – подавленно шипел он, едва сдерживаясь, чтобы не ударить, не оскорбить ее. – Не верю... Врешь...
Нина повернулась к нему и спокойно сказала:
– Ничуть не вру. Иди спать, подумай, помолись и завтра скажешь...
– Помолись?.. Ха-ха!.. Богомолка!
Он топнул и два раза с силой ударил кулак в кулак, нервно выкрикнув: «А! А!» – вытащил платок, угловато взмахнув им, и, с угрожающим стоном, пошел к себе, горбатый, с поднявшимися плечами, несчастный, маленький.
В коридоре пьяные голоса:
– Чаэк!.. Где мой номер?.. Пой, громче! Флаг по-однят, ярмар... Эй, Лукич, подхватывай!..
Прохор стоял среди тьмы, уткнувшись лицом в платок. Дрожащие руки Нины обвили его сзади, она с крепким чувством поцеловала его в затылок. Но как ветром смахнуло все: в комнате гремел, заливался на солдатский лад Яков Назарыч:
Флаг поднят, ярмарка от-кры-ы-та!..
Народом площ...
– Эй, Нинка! А Прохор гуляет?.. Здрасте, здрасте...
Флаг по-о-о...
И, держась за печку, что-то бубнил еще Лука Лукич, доверенный.
XI
Анфиса стала дородней, краше. Петр Данилыч без ума от нее. Но Анфиса – камень: не тронь, не шевельни; Петр Данилыч поседел. Покончить с ней, с проклятой, или на себя руку наложить? Пил Петр Данилыч крепко.
Как-то позвали Громовых на заимку кушать пельмени, сам отказался – болен, Марья Кирилловна уехала одна.
Анфиса погляделась в зеркало, надела цыганские серьги пребольшие, на голову – голубую шаль с длинной бахромой, перекрестилась и пошла.
«Эх, была не была!.. Видно, приковала меня судьба к дорожке темной».
– Здравствуй, Петя, – сказала она, входя.
Петр Данилыч вплотную водку пил.
– Уйди! – закричал он. – Крест на мне, уйди!..
Анфиса села. Петр Данилыч, расслабленно покачиваясь, щурился на нее.
– Ах, вот кто... Ты?! Иди сюда. Здравствуй... А я все чертей вижу. Тебя за черта принял, несмотря что ведьма ты...
Анфиса помолчала, потом проговорила распевно и укорчиво:
– Ах, Петр, Петр... Ничего-то ты не бережешь себя, пьешь все.
Она подошла к нему и, жалеючи, поцеловала его в седой висок. Он вдруг заплакал взахлеб, визгливо, мотая головой.
– А хочешь – одним словечком человека из тебя сделаю?.. Хочешь, Петя?
Петр Данилыч замолк и, отирая слезы, слушал.
А в соседней комнате тайно, скрытно слушал «черт».
– Я скоро умру, Анфиса, – проглатывая слова, сказал Петр. – Через тебя умру.
– Брось, плюнь!.. Належишься еще в могиле-то...
– Нет, умру, умру, сердце чует... – Петр Данилыч выпрямился, вздохнул и стал есть соленый огурец... – Теперь уж и к тебе не тянет меня. Все перегорело внутри. Так, угольки одни. – Глаза его пусты, бездумны, красны от вина, от слез.
Анфиса проскрипела к печке полусапожками и издали, раскачиваясь плечами, сказала:
– А хочешь, женой твоей буду, Петя? А?
Петр воззрился на нее и воззрился на ту комнату, где «черт».
– Путаешь. Петли вяжешь. Знаю, не обманешь. Ты – черт, – вяло сказал он и выпил водки. – Черт ты, черт...
– На, гляди. Черт я? – И Анфиса перекрестилась.
– Ты страшней черта. Ты, пожалуй, научишь меня жену убить?
– Нет! – быстро проскрипела к Петру полусапожками Анфиса. – Я не из таковских, чтоб душу свою в грязи топить. Это ты, Петя, убивец жены своей. Разведись, пусти ее на волю: и тебе и ей легче будет. Ведь ты ж сам в уши мне твердишь: развод, развод. Вот и разведись по-хорошему... Думай поскорей. А крадучись хороводиться с тобой не стану. Так-то, старичок.
«Черт» в соседней комнате крякнул, крикнул, двинул стулом.
А как шла Анфиса поздней ночью к себе домой, встал перед ней черт-черкес, загородил дорогу. Месяц дозорил в небе, сверкнул под месяцем кинжал.
– Это видышь? – И твердый железный ноготь Ибрагима застучал в холодную предостерегающую сталь. – Видышь, говору?! Это тэбэ – развод.
Утром Ибрагима вызвал пристав.
Допрос был краток, но внушителен. При слове «Анфиса» пристав вздохнул и закатил глаза.
– Это такое... это такое существо... И ты, мерзавец... Да я тебе... Эй! Сотский! Арестовать его!..
А два часа спустя, когда непроспавшийся Петр Данилыч узнал об этом, пристав получил от него цидулку – Илья принес. Пьяные буквы скакали вприсядку, строки сгибались в бараний рог, буквы говорили: «Ты что это, черт паршивый. Сейчас же освободить татарина, а нет – я сам приеду за ним на тройке. И сейчас же приходи пьянствовать: коньяк, грибы и все такое. Скажу секрет, черт паршивый. Приходи».
Через два дня вернулась Марья Кирилловна. Вслед за ней нарочный привез из города телеграмму:
«Нина согласна стать моей женой. Родители благословляют. Если ты с мамашей не против – телеграфируй Москва Метрополь номер тридцать семь. Зиму проведу здесь».
И Петр Данилыч и Марья Кирилловна обрадовались, каждый своей радостью. Сам – что Прохор, поженившись, наверное, будет жить не здесь, а в городе и не станет мешать отцу. Сама – что уедет к сыну, поступит к нему хоть в няньки, лишь бы не здесь, лишь бы не о бок с подколодной змеею жить, а нет – так в монастырь...
Седлает Ибрагим своего Казбека, едет в город, за сотни верст, везет ответный стафет в Москву.
Стояла цветистая золотая осень. Тайга задумалась, грустила о прошедшем лете, по хвоям шелестящий шепот шел. Нивы сжаты, грачи на отлете, в избах пахнет нынешним духмяным хлебом. Едет Ибрагим, мечтает, – свободно на душе. И вся дума его – о Прохоре. Хорошо надумал Прошка, что «девку Купрыян» берет, девка ничего, клад девка. А вернется Ибрагим и сам на кухарке женится. Цх, ловко! Только бы Анфисе укорот дать, только бы хозяйку защитить, ладно жить было бы тогда. Совсем ладно...
Подает чиновнику хозяйскую телеграмму, четко переписанную Ильей Сохатых. Смотрит чиновник – внизу под текстом каракули:
«Прошка приежайъ дома непорадъку коя ково надоъ убират зместа. Пышет Ибрагым Оглы. Болна нужен».
– Так нельзя, – сказал телеграфист, – хозяин может обидеться...
– Моя не обиделся... Зачем?
– Тогда пиши на отдельной.
Ибрагим целый час потел, сопел, но все-таки переписал и подал.
– Кого это убрать рекомендуется? – спросил чиновник.
– Какое тебе дело?.. – блеснул черкес белками глаз и белыми зубами. Потом спокойно: – Кого, кого?.. Ну, дом надо перестроить, лавку убрать другой места...
Он уехал обратно, радуясь, что вместе с хозяйским Прохор получит и его стафет. Однако потешные каракули остались здесь, в паршивом городишке; их смысл не пересек пространства до Москвы. Чиновник – большой любитель всяких «монстров»; у него, например, есть книга, куда вписывали «на память» свои фамилии замечательные люди: исправники, духовенство, учитель Филимонов, казначей, проститутка Хеся из Варшавы и другие. Телеграмму Ибрагима чиновник тоже приобщил как редкий документ. Подшивая, чиновник улыбался беззубым усатым ртом, улыбался беспечально, весело. Не знал чиновник того, что скрыто во времени, не знал – пройдет предел судьбы, и вот эти самые каракули всплывут на белый свет, заговорят, замолкнут и умрут, закончив свой тайный круг предначертанья.
...И сердце Анфисы вдруг заныло. Ну вот ноет и ноет, как болючий зуб. Не оттого ли ноет сердце, что вступила Анфиса на вихлястую лживую тропу и стоит на этой темной тропе тихая Марья Кирилловна, а сзади слышится мстительный голос Прохора, а с боков совесть укорчивые речи шепчет. Совесть, совесть, люди тебя выдумали или Бог, – и замолчишь ли ты когда-нибудь?! А если и вправду существуешь, то зачем ты дана человеку на мученье, и чьим веленьем встаешь ты прежде дел людских: нет ничего, спокой и тишина – и вдруг защемит сердце? Заныло сердце у Анфисы, неотступно ноет и день и ночь.
И, как назло, пришла сутулая Клюка-старуха, покрутила носиком, подморгнула остекленелым белым глазом.
– Слышала, девка? Прохор купецку дочерь высватал, стафет по проволоке прилетел. Свадьба скоро.
– Ну что ж, – спокойно ответила Анфиса. – На то он и жених. – Спокойно Анфиса говорила, а сердце так забилось, что прыгали глаза ее и все в глазах скакало.
Нет, врет Клюка, не может быть! Пошла, заглянула Анфиса в хоромы Громовых, и вот – Марья Кирилловна сама вынесла ей тот страшный, убойный, гибельный стафет. Заплакала Анфиса, и Марья Кирилловна заплакала, обнялись обе и поцеловались. Поцелуй матери – радость и спасение, поцелуй Анфисиных горячих губ – гроб и ладан. И если б Марья Кирилловна имела дар сверхжизненного чувства, услыхала бы Анфисин сотрясающий душу скрытый стон.
Так вот почему ныло ее глупое бабье сердце, так вот каким обухом оглушила Анфису ее жестокая судьба. «Ну ладно!.. Еще посмотрим, потягаемся!»
И прямо – к Шапошникову.
У царского преступника сильно живот болел, – не в меру наелся он хваченной инеем калины, – лежал он животом на горячей печке, и сердце его тоже ныло. Ну вот ноет и ноет сердце. Что же это – предчувствие, что ли, какое темное или совесть свой голос подает, жуткую судьбу пророчит? Совесть, совесть, и зачем ты... Чушь, враки!
А вот что, надо хорошую порцию касторки проглотить да как следует винишка выпить...
– Здравствуй, Красная моя шапочка, а я к тебе... Слыхал про телеграмму, про стафет? Утешь.
Поглядел он с печки на истомившееся Анфисино лицо, на ее трепетные, опечаленные руки.
– Как же утешить вас, Анфиса Петровна?.. Чтоб утешить, надо сначала ваши нервы укрепить.
Чуть ухмыльнулась Анфиса, посмотрела с жалостной тоской в глаза, в наморщенный многодумный лоб его, проговорила:
– Обнадежь, скажи, что еще не все пропало, что свадьбы не будет... А то... Слышишь, Шапкин? К старику уйду, погублю душу. Уж я решила.
Покарабкался проворно с печки политик; на его лице, в глазах едва переносимая боль – Анфиса возрадовалась душой: ангел Божий, а не человек этот самый Шапкин, состраждет горю ее. Еще больше исказилось лицо политика: ну, прямо невтерпеж.
И, взявшись за скобку двери и весь съежившись, он убитым голосом сказал:
– Не ходите к старику. Зачем вам старик? Царствуйте одна.
– Как царствовать? Чем жить?! Когда сердце пусто...
– Трудом, – подавленно проговорил политик, вобрав под ребра заурчавший свой живот.
– Эх, трудом!.. Я тебе говорила, Шапка, помнишь – вечером? – что зверь во мне. Жадный зверь, проклятый зверь. Ему все подавай как есть. Нет, Красная шапочка, конченый я человек... Шабаш!
– Извините, я сейчас... – И политик стремительно выбежал за дверь.
– А не бывать Прохору женатым! – вдогонку крикнула, топнула Анфиса.
А Петр Данилыч пьет и пьет: червяк в брюхе завелся, этакий большущий червячище с пунцовой мордой: давай вина!
Прохор в Москве в театры, в музеи ходит. И когда, по настоянию Нины, прикладывался он к мощам угодников Христовых в Успенском древнем соборе, вдруг ему Анфиса вспомнилась; ну вот вспомнилась и вспомнилась, неожиданно как-то, вдруг. И весь день стояла перед его глазами, а спать лег – во сне явилась, нахальная. Ничего не сказал Прохор Нине, только его думы немножко вперебой пошли: покачнулась в нем, в Прохоре, любовь к невесте, и захотелось ему отправить дражайшей Анфисе Петровне любовное письмо.
Письмо – письмом, а сердце – сердцем. Потянуло сердце туда, к ней, в темную тайгу. Зачем? – не знает. Может, убить Анфису, может, слиться с ней во едину жизнь надолго, навсегда.
И недаром, не зря, не здорово живешь всколыхнулись его думы: Анфиса дни и ночи думала о нем. Сидела Анфиса на берегу своей судьбы, бросала в океан участи своей алые, кровавые куски обворованного сердца, и, круг за кругом, за волной волна, быстро-быстро – миг, в Москве, по скрытым неузнанным законам мчались ее мысли туда, к нему, к тому берегу московскому – и прямо в его сердце, там, в Москве. Как хлестнет волна в Прохорово сердце – взбаламутится, снова затоскует сердце, и неотступно потянет Прохора туда, в тайгу, к ней, к Анфисе, – зачем? Не знает: может – убить Анфису, может – слиться с ней навеки, навсегда.
Умудренными глазами замечая все это, Яков Назарыч крепче натягивает вожжи и, подняв кнут, грозит сбившемуся в ходе рысаку.
И, как рысак, проносится быстротечно время, – пух, пыль, снеговые комья брызжут из-под копыт зимы, – сторонись, мороз! – с юга белоносые грачи летят...
– Вот, значит, такое дело... Только ты не ори, не вой.
Марья Кирилловна насторожила душу, слух.
– Значит, так... Я кой с кем сговорился в городе – аблакаты такие есть, пьяницы. Меня, значит, накроют, скажем, в номере с женщиной или, скажем, с девкой... Отец Ипат так учил. А там развод, вину на себя принимаю, тебе вольная. За кого желаешь, за того и выходи. Можешь за Илюху, мадам Сохатых будешь.
Марья Кирилловна сплюнула, потом сказала:
– Делай что хочешь, раз спился, раз образ Божий потерял. Никаких мужьев мне не надо, к сыну я уйду.
Через неделю – кувыркаются по снегу обезглавленные куры, визжит свинья. И сотня за сотней варятся званые пельмени – созвал Петр Данилыч всю сельскую знать, вплоть до Илюхи. А зачем созвал, об этом ни гугу, должно быть, на какую-то тайную затею. И, конечно, Анфиса Петровна за столом. Все здесь, всех приютил гостеприимный купецкий кров. Марьи Кирилловны не видно: овдовела при живом супруге, в своей комнате сидит, никого видеть не желает. Да и здоровье ее надорвалось не на шутку: сильнейшие перебои сердца начались.
Поздно вечером, когда изрядно все навеселе, торжественно, шумно встал Петр Данилыч – и все гости встали; поднял Петр Данилыч вина бокал:
– А званые пельмени эти вот по какому случаю, дорогие гостеньки. Как мы, в видах неприятности, с своей женой, Марьей Кирилловной, будучи намерены развестись честь по чести... И как в наших помыслах довольно укрепившись красоточка одна... – Купец взглянул на Анфису, та стояла бледная, смотрела унылыми глазами через гостей в окно.
Гости кашлянули, смущенно засопели, чей-то стул сам собой упал, у пристава заныла селезенка, в глазах – круги, Илья Сохатых вытаращил поросячьи очи, сел, опять вскочил.
Купец обвел всех счастливым помолодевшим взглядом и вдруг наморщил брови, топнул на Илюху: «Вон!» Показалось ему, что Илюха – черт, у Илюхи рога торчат, Илюха чертячьим хвостом по столу колотит. «Вон!!»
Нырнул Илья Сохатых за плотную спину пристава – от спины той дым валил, испарина.
Сказал хозяин:
– Итак, подводя общие итоги, объявляю...
Анфиса тихо перебила:
– Нет.
Спина пристава погасла, дым исчез, селезенка успокоилась, Илья Сохатых вынырнул и проржал-прохихикал жеребенком. У купца открылся рот, бокал выскользнул из ослабевших пальцев, звякнул в пол, и звякнули по-озорному шпоры пристава.
– Нет, нет, нет, – сказала Анфиса раздельно и так же тихо.
– Зело борзо, – поперхнулся батюшка, отец Ипат.
– Что-о? – грозно на Анфису взглянул купец: из ноздрей, из глаз – огонь.
И взвилась Анфиса голосом:
– Нет, Петруша! Нет! Нет! Нет!.. – упала Анфиса в кресло, ударилась локтями в стол, затряслась вся, застонала.
В это время, под ясным месяцем, по голубой месячной дороге мчался на трех тройках с бубенцами шумный поезд: на двух задних тройках – сундуки, добро, на передней тройке – Прохор, Нина, Яков Назарыч Куприянов.







