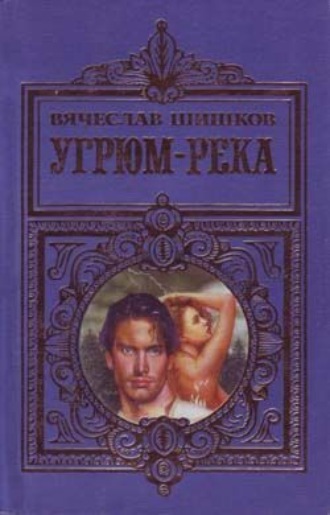
Вячеслав Шишков
Угрюм-река
– Он, кажись?
– Надо быть – он...
И нежным сказала тьма голосом:
– Андрей Андреич! Товарищ Протасов, вы?
Фонарик Протасова через сито дождя вырвал из сумрака чьи-то усы и милое личико, кажется – Наденьки. Мигнул и погас.
– Ах! Вот вам письмо... Казенное.
Протасов глубже надвинул колпак макинтоша, и оба с Васильевым круто свернули прочь, влево, увязли в недвижности, перестали дышать.
– Нет, должно быть, не он, – в досаде сказали усы, и хлюпкий топот копыт, лениво смолкая, исчез во тьме.
IX
Прохор Петрович со дня на день ожидал приезда землемера. Вскоре после разведки вдвоем с Филькой Шкворнем предприимчивый Прохор организовал вторую рекогносцировку. Она обставлена по-деловому. В нее входили: заведующий технической частью прииска «Достань» горный штейгер Петропавловский – человек пожилой, знающий, приглашенный Громовым с Урала; десятник подрывных работ Игнатьев; студент-горняк выпускного курса Образцов – талантливый геолог. Еще старик лет семидесяти, бывший старатель, дедка Нил. Еще Филька Шкворень, тоже в качестве специалиста, еще фельдшер на всякий несчастный случай и двенадцать рабочих. Прохор приглашал и Протасова: тот универсально образован и в горном деле собаку съел. Но Протасов наотрез отказался: у него и без того по горло всяческих работ, он не может бросить предприятие на произвол судьбы – он не поедет.
Поисковая партия двинулась в тайгу верхами. В поводу вели двух обреченных на заклание оленей.
Накануне отъезда, под вечер, к Прохору в башню пришел пристав.
– А меня не прихватишь с собой, Прохор Петрович?
– Нет.
– Напрасно! Я те места знаю. Меня интересует там одна вещь. Не там, а верстах в пятнадцати, в самой трущобе.
– Что такое?
Лицо Федора Степаныча стало таинственным, он почему-то прикрыл окно и подошел к Прохору вплотную.
– Эта вещь – избушечка, – сказал он шепотом и выпучил глаза.
Сердце пристава билось так сильно, что полицейские, с орлами, пуговки на форменной тужурке подпрыгивали.
– Ну? – небрежно спросил Прохор. Он знал, что перед ним враг, шантажист, негодяй, что он кончит разговор нахальной просьбой взаймы денег.
– Тайная избушечка на неприступной скале... Туда только птица залетит, – нашептывал пристав; он нарочно говорил шепотом, чтоб не дрогнул в волненье голос. – Я хотел исследовать, какой мазурик там живет.
– Я эту чертову избушку знаю. И знаю, кто там живет.
– Вот как! А я не знаю.
– Не знаешь? – прищурился на него Прохор. – А тебе-то нужно бы знать. Ты власть. И вообще ты не особенно энергичен. На твое место нужно бы помоложе кого... У меня дело расширяется, рабочие начинают фордыбачить...
– В сущности, там живет цыган... – перебил пристав; он никак не ожидал, что разговор примет такое неприятное направление. – А кто этот цыган – пока не ясно для меня. Я думаю – взять с десяток стражников, окружить скалу с избушкой да и сцапать этого разбойника!
– Цыгана?
– Да, цыгана.
– А нет ли у него цыганки? И еще – карлы?
– Ну, этого я не знаю. Какой цыганки?
– С бородавкой... Возле левого уха.
Пристав стоял, нагнувшись над Прохором и уперев кулаками в стол.
– Ты все шутишь, – вильнул он глазами, отошел к окну, открыл раму и стал глубоко вдыхать освежающую вечернюю прохладу. Плечи и спина его играли, он дрожал.
Волк лег у ног хозяина и стукнул раза три хвостом.
Федор Степаныч повернулся к Прохору и сказал надтреснутым, хриповатым голосом:
– Шутки шутить со мною, Прохор Петрович, брось.
– Я и не шучу, – спокойно ответил Прохор; он делал красным карандашом пометки в ведомости, как бы давая понять, что дальнейший разговор с приставом ему малоинтересен.
Но пристав напорист.
– Ты врываешься в мое отсутствие к моей жене, – начал он, часто взмигивая заплывшими от вина глазами. – Ты действуешь как сыщик, как последняя ищейка. Ты грозишь Наденьке каким-то дурацким протоколом... Что это такое? А? Нет, что это такое?!
– Для тебя, может быть, протокол – дурацкий, для меня не дурацкий... Стоимость двадцати фунтов золота я записал в твой счет...
– Спасибо... Спасибо... – Пристав боднул головой, закусил прыгавшие губы, правой рукой схватился за спинку дивана, левой отбросил за плечи усы вразлет. – Допустим так, допустим – я вор и мошенник. Но почему ж это золото твое?
– Оно было бы мое, – все так же спокойно, с деланным невниманием к словам пристава, ответил Прохор, упорно перелистывая ведомость.
– Ах, вот как?! Оно было бы твое, оно было бы твое? Но почему? Признайся! Ты жулик, ты грабитель, да? – палил как из пулемета пристав.
– Нет. Я просто коммерсант. Филька Шкворень принес бы его мне и продал. А теперь... – И Прохор развел руками, все еще не подымая глаз на пристава.
Овладев собой, пристав заложил руки назад и с задорной усмешечкой покачался грузным телом.
– Прохор Петрович, – сказал он официальным тоном, – я все-таки просил бы вас со мной не шутить...
– А я и не шучу, – снова повторил Прохор.
– Вы, Прохор Петрович, в моих руках...
– А вы в моих...
– Стоит мне только... Знаете что?.. И от ваших дел, от ваших предприятий пыль пойдет...
– Ну, да и вам несдобровать. – Прохор отложил ведомость, взял другую, стал класть на счетах цифры.
– Я вас продам, предам, упекарчу на каторгу.
– Я вас тоже.
– Плевать! Я своего добьюсь – и пулю в лоб...
– Я тоже... Ах, как вы мне мешаете... – сморщился Прохор.
Пристав расслабленно сел на диван – брюхо легло на колени, – согнулся, закрыл ладонями лицо и шумно вздыхал. Тогда Прохор мельком взглянул на него. Чувство превосходства над этим жирным битюгом заговорило в его сердце. Прохор сильней застучал на счетах. Пальцы холодели, работали неверно: он сбрасывал итоги, щелкал костяшками снова и снова.
– А как бы мы могли работать с тобой. Эх, Прохор Петрович...
– Что? Что ты сказал?
Пристав отер глаза платком, крякнул, высморкался и повторил фразу. Прохор поднял голову, меж бровями, как удар топора, прочернела вертикальная складка.
– Что, что?.. – Прохор поймал шмеля и оторвал ему голову.
– Работали бы дружно, душа в душу. Ни страха, ничего. Королями царствовали бы с тобой. И... шире дорогу!!
– Ни-ког-да! – Прохор с силой швырнул карандаш и встал. Волк тоже вскочил. – Оставь меня... Прошу... Прошу, – в спазме припадка прохрипел Прохор.
У пристава упало сердце. Он взмахнул рукой и, трусливо отступая к двери, никак не мог засунуть платок в карман; яростный взгляд Прохора вышвырнул врага из башни вон.
Было воскресенье. Андрей Андреич Протасов захворал. В сущности, хворь небольшая – болела голова, градусник показывал тридцать семь и три. Как жаль, что фельдшер уехал в разведку с Прохором. Доктора же в резиденции не было; как ни настаивала Нина, Прохор не желал: «Мы с тобой здоровы, а для рабочих и коновала за глаза».
Катерина Львовна одна к Протасову заходить стеснялась. Пришли вдвоем с Ниной. Анжелика, впуская их, поджала губки и с раздражением сказала:
– Андрей Андреич больны.
Протасов в меховой тужурке сидел за столом в кабинете и штудировал историю Французской революции; он подчеркивал абзацы, делал из книги выписки.
При появлении женщин он быстро встал, извинился за костюм. Катерина Львовна подала ему букет садовых цветов, Нина же быстро пришпилила к его тужурке бутон комнатной розы.
– Мне больше к лицу шипы, чем розы, – попытался он сострить; он всегда чувствовал себя неловко в женском обществе.
– Почему вы, Андрей Андреич, такой дикий? – спросила Нина. – Вот я вам невесту привела.
Катерина Львовна закатила глазки, замахала надушенными ручками.
– Ах, Нина! Ты всегда меня введешь в конфуз!..
– Ага, ага! – засмеялся Протасов. – Вы не отпираетесь? Значит, что? Значит, вы действительно невеста?
– Ах, что вы, что вы! – испугалась Катерина Львовна, окидывая стены ищущим взглядом.
– Что, зеркальце? Извольте. – Андрей Андреич выхватил из письменного стола маленькое зеркало и ловко подсунул ей.
– Нет, нет, что вы, – смутилась Кэтти и, схватившись за прическу, тотчас же влипла в зеркало.
Протасов приказал Анжелике подать кофе.
Кэтти была очаровательна: она блистала зрелой молодостью, розово-смуглым цветом щек, взбитыми в высокую прическу черными, с блеском, волосами. У ней темные глаза, строгие прямые губы, тонкий нос. Если б не холодность общего выражения сухощавого лица, ее можно бы счесть красивой. Протасов прозвал ее «Кармен». Она недоумевала – похвала это или порицание, и, когда он так называл ее, она всегда вопросительно улыбалась.
За кофе завязался обычный интеллигентский разговор с горячими спорами, словесной пикировкой. Говорили о Толстом, о Достоевском. Нина ставила неразрешимые вопросы: почему, мол, в жизни царит власть зла, почему зимой не расцветают на лугах цветы, или, безответно и наивно, она ударялась в надоедные мечты о «мировой скорби».
Протасов только лишь набрал в грудь воздуху, чтоб опрокинуть на Нину свой обычный скепсис, как Кэтти наморщила с горбинкой нос, заглянула в сумочку, сказала: «Ах!» – и, отбежав к окну, громко расчихалась.
Инженер Протасов, быстро оценив ее смущенье, тотчас же подал ей выхваченный из комода носовой платок.
– Мерси... – Щеки ее покрылись краской. – Ах, какой вы!.. Какой вы...
– Что?
– Замечательный!
Инженер Протасов поерошил стриженные под бобрик свои волосы, улыбнулся и проговорил:
– От наших ветреных разговоров вы, кажется, получили насморк.
Глаза Нины тоже улыбались, но от их улыбки шел испытующий отчужденный холодок.
– Что вы читаете, Протасов? – пересев на диван, вздохнула она.
– Историю Французской революции.
– Вот охота! – прищурившись, небрежно бросила Нина.
– Отчего ж? В прошлом есть семя будущего. – И Протасов сел. – Зады повторять не вредно.
– Я ненавижу революцию, – все еще красная от происшедшей неловкости, отозвалась Кэтти. Голос ее – низкое контральто – звучал твердо, мужественно.
– Я тоже. Я ее боюсь, – сказала Нина и закинула ногу на ногу. – Вы такой образованный, чуткий, – неужели вы хоть сколько-нибудь сочувствуете революционерам?
Протасов откинул голову, подумал, сказал:
– Простите, Нина Яковлевна... Давайте без допросов. А ежели хотите – да, я в неизбежность революции верю, жду ее и знаю, что она придет.
– Не думаю... Не думаю... – раздумчиво сказала Нина.
– А вы подумайте!
– Пожалуйста, без колкостей.
– Это не колкость, это дружеский совет. А что ж, в сущности, что же ее бояться, этой самой революции? Честный человек должен ее приветствовать, а не бояться. – Протасов вопросительно прищурился на Нину и покачивался в кресле. – Хотя вы и являетесь нашим идейным, или, вернее, нашим классовым врагом...
– Ах, вот как? Вашим?!
– Виноват. Не нашим, а моим, моим идейным врагом – ведь я ни к какой революционной организации не принадлежу и могу говорить только от себя...
– Простите, Протасов... Ваше вступление очень длинно. Вы лучше скажите, в чем же будет заключаться наша революция, наша, наша, революция дикого народа, ожесточенного, пьяного?.. Как она будет происходить?
– Примерно так же, как и во Франции. Вы читали?
– Да. – Нина размахивала сумочкой, как маятником, и от нечего делать следила за ее движением. Но сердце ее начинало вскипать.
– Был такой мыслитель, кажется – Маколей, – начал Протасов. – Да, да, Маколей. Так вот, он сравнивал свободу с таинственной феей, которая являлась на землю в страшном виде восстаний, революций, мятежей. Тот, кто не обманулся внешним видом феи, кто обласкал ее, для того она превращалась в прекрасную женщину, полную справедливого гнева к поработителям и милости к угнетенным. А вступивших с ней в борьбу она бросала на гибель.
– Утопия, утопия, утопия! – кричала Нина. Сумочка вырвалась из рук ее и, описав дугу, ударилась в печку, – посыпались пуховочки, притирочки, платочки, шпильки. – Никакой революции у нас не будет, не может быть.
Протасов, кряхтя, подбирал рассыпавшиеся по полу вещички.
– Вы, Нина Яковлевна, совершенно слепы к настоящему, к тому, что в России происходит... Еще раз простите меня за резкость.
– Ничего, ничего, пожалуйста! – Обиженная Нина по-сердитому засмеялась, вдруг стала серьезной, кашлянула и, охорашиваясь в зеркальце, сказала: – Я не верю в революцию, не верю в ее плодотворность для народа. Я признаю только эволюционное развитие общества. Возьмем хотя бы век Екатерины. Разве это не...
– Да, да, – перебил ее инженер Протасов и вновь схватился за виски: в голове шумело. – В спорах всегда ссылаются, в особенности женщины, на либеральных государей восемнадцатого века, на Фридриха II, на Иосифа II, на «золотой» век Екатерины. Но... эти правители никогда не были искренни в своих реформах: они, ловко пользуясь философскими современными им доктринами, всегда утверждали в своих государствах деспотизм.
– Позвольте!!
– Да, да... Что? Вы хотите сослаться на переписку Екатерины с мудрым стариком Вольтером? Да? Но ведь она, этот ваш кумир, переписываясь с Вольтером, беспощадно гнала тех из своих подданных, которые читали его...
Протасов с досадой почувствовал, что напрасно вступил в эту беседу с женщинами. Нина подняла на него правую бровь, и уголки ее губ дрогнули. Катерина Львовна, хмуря брови, перелистывала технический справочник Хютте.
Температура Протасова упорно подымалась. Показался резкий румянец на щеках. Нина Яковлевна готова бы уйти, но ей хотелось помириться с Протасовым на каком-нибудь нейтральном разговоре.
– Слушайте, Андрей Андреич, милый... Вы давно собираетесь рассказать нам с Кэтти про золотые промыслы...
– Ах, да! Ах, да! – встрепенулась Кэтти.
– Только с самого начала... Ну, вот, например, тайга...
– Вот тайга, – подхватила Кэтти и облизнула губы.
– Вот тайга, – сказал и Протасов.
– Вот тайга... Приходят в тайгу люди... Ну, как они определяют, что тут золото? Прочтите нам лекцию...
– Извольте. – Инженер Протасов поднялся и стал ходить, шаркая по паркету мягкими туфлями. – Золотоносное дело составляет три резко отличающиеся одна от другой стадии развития: поиски, разведки и разработка. Записали? – Он улыбнулся самому себе и сказал: – Простите. Я привык на Урале, на курсах читать...
X
Там – лекция, здесь – дело. За целый день проехали верст пять. Оставляли широкие затесы на деревьях, чтоб не забыть пути... Тучи рыжих комаров преследовали партию. Люди в пропитанных дегтем сетках отмахивались веничками. Узкая тропа, преграждаемая то валежником, то огромными, одетыми мхом валунами, часто терялась. На таких звериных тропах владыка тайги – медведь подкарауливает добычу. Бежит тропой олень или козуля, внезапно – хвать! – перешибет хребет и вспорет брюхо. Впрочем, не сразу съест: старый медведь-стервятник – великий гастроном: даст время убоинке протухнуть. Но бывает так: медведь крадется за жертвой, стрелок-тунгус метит ему под левый вздох.
Сумеречным вечером люди вышли на огромную прямую просеку, почти в целую версту шириной.
– Вот так ловко! – в изумлении воскликнул Прохор, озираясь. – Работа чистая!..
Это лет пятьдесят тому бешеный ураган хватил с вершины гольца, в мгновенье ока проложил себе раздольную дорогу. Древние, непомерной толщины деревья, даже упругий молодняк, сразу легли, как трава, вершинами от гольцов на запад, образовав непроходимый ветровал. Если лесной пожар не превратит его в дым и пепел, он будет истлевать здесь до конца веков.
Переночевали. Костер, прохлада и туман. Еще шли сутки.
На третье утро повстречали широкую падь, старый тальвег когда-то протекавшей здесь реки.
– А ведь это тое самое место, Прохор Петров, – проговорил Шкворень, – эвот и речонка. На ней хищники в тот раз робили... Поди, и клейменые столбы найдем.
– Лучше этого места нет, – ответил за Прохора семидесятилетний Нил и посверкал бельмом сквозь сетку. Он, бывший старатель, теперь служит десятником при конной бутаре громовского прииска. Он опытен в приисковом деле, про него говорят: «Дедка Нил на сажень сквозь землю видит».
Все казались оживленными и бодрыми: действительно, приметы хороши. Кони тоже всхрапывали по-веселому.
Беловолосый, в густых веснушках, студент Образцов сделал лицо умным, озабоченным и поехал вдоль бровки пади. В эту огромную падь, справа и слева, вползали глубокие распадки, бывшие долины пересохших речонок и ручьев. С северо-востока спускались обнаженные гольцы каменных отрогов. Весь тальвег пади и днища балок усеяны валунами. Утесы и скалы прожилены кварцами. Однообразные крупнозернистые граниты наверху сменялись у подножия сланцами и другими, сопутствующими золоту, горными породами.
Образцов, понукая ленивую клячу, сиял. Дедка Нил хозяйственно прикрикивал.
– Закладывай шурф вот здесь, – подал он Прохору совет.
Лопаты, кирки, ломы врезались в грудь почвы. Сажень в квадрате – шурф зарывался вниз. В стороне плотники рубили из сушняка так называемые крепи: ими будут подпираться отвесные стенки шурфа. Другая группа, в версте от этой, против устья балки рыла другой шурф.
Прохор от нечего делать посвистывал, снимал «кодаком» работу, зорко следя за землекопами. Прошло часа три напряженного, пыхтящего труда. Вдруг Филька Шкворень, ретиво работавший с тремя землекопами в первом шурфе, взглянул на Прохора Петровича, вскрикнул, упал на брюхо и со страшным стоном стал сучить ногами:
– Ой, смерть! Умираю... Братцы, сударики... Дохтура скорей!.. – Он весь дергался, хрипел, глаза уходили под лоб.
Землекопы выскочили из ямы вон. Прохор крикнул:
– Носков! Фельдшер! Где он, дьявол?.. Ребята, воды!
И все, вместе с Прохором, скрылись. Оставшийся в одиночестве Филька Шкворень заорал еще ужасней, но лицо его улыбалось. Он встал на карачки и выхватил из-под брюха вдавленный в землю золотой, фунта в три, самородок, издававший мутный желтоватый свет. Филька в радости заржал, как конь, спрятал за пазуху находку, и, когда прибежал с людьми фельдшер, бродяга сидел с закрытыми глазами на дне шурфа, протяжно, страдальчески охал. Лысый, юркий, как мартышка, фельдшер Носков стал щупать бродяге пульс, Прохор подал стопку коньяку. Филька Шкворень жадно выпил, сплюнул, сказал:
– Ох, отец родной!.. Прохор Петров... Спасибо... Это меня та самая цыганка спортила, зельем опоила. Помнишь?.. Припадки, понимаешь... Грохнусь, и пятки к затылку подводить учнет.
От дальнего шурфа кричали рабочие вместе со студентом Образцовым:
– Хозяин! Господин Громов! Сейчас начнем промывку.
Перескакивая валежник, скользя по окатным камням, Прохор направился туда.
– Эй, ребята! – командовал Образцов возле таежной речки. – Вашгерд налаживай.
А в гольце, в кварцевой жиле шел забой. Там орудовал десятник подрывных работ Игнатьев, с черными цыганскими глазами, расторопный парень.
Прохор казался ко всему равнодушным. Посвистывая, пошел с ружьем по лесу. Ему все-таки удалось найти два столба старой заявки. Он делал кинжалом меты на деревьях, ставил вешки, чтоб отыскать путь к столбам.
В шурфах появился песок-речник. На носилках и в ведрах тащили пробу к вашгерду. Это сколоченный из досок открытый лоток, длиной сажень, шириной около аршина. Он ставится на землю с легким уклоном. В верхней части вашгерда отгорожен двухстенный ящик. Сюда сыплют пробу, обильно поливают водой. Вода размывает породу, переливается через перегородку ящика и ровной неторопливой струей бежит по дну лотка, увлекая с собою песок и глину.
– Растирай, растирай комки! – покрикивал на рабочего дедка Нил и сам подхватывал особым гребком комочки глины, подымал к верхней перегородке и там растирал их. – Надо, чтоб одна муть текла... Может, в комочке – золото... – поучал он.
А новую породу все подносили и подносили в ведрах.
Вода в лотке постепенно светлела. Значит, вся глина, превратившись в муть, скатилась.
– Снимай полегоньку камушки со дна, – суетился лысый Нил.
На дне вашгерда, устланного грубым сермяжным сукном, возле поперечных деревянных пластинок осталось в конце концов небольшое количество самого тяжелого песку, с черными шлихами, то есть мелкими зернами железа и других плотных металлов, в том числе и золота. Теперь все ясно и открыто. Золотинки побольше, поменьше и вовсе маленькие впервые смотрят удивленными глазами в мир – ждут, что будут с ними делать люди. У людей замирало сердце. Люди тонкими совочками снимали этот драгоценнейший песок, сушили его и точно взвешивали.
На третий день разведки работа кипела в десяти шурфах. Золота маловато, ни то ни се, да и золото неважное, как говорится, «легкое», ожидаемой удачи нет.
– Эй, чертознай! – кричали рабочие дедке Нилу. – Ну-ка ты... На фарт!
Дед нюхом чуял, где надо рыть, с ним соглашался и штейгер Петропавловский, пожилой, бывалый человек. Но студент Образцов, выдвигая свои заумные теории, тыкал пальцем в учебник, горячился, кричал, брызгал на сажень слюной и каждый раз сбивал с толку опытных таежников.
Однако «чертознай» все-таки рискнул оказать сопротивленье:
– Рой здесь! Я фартовый. Золото сквозь землю вижу. Вот оно!
Заложили на счастье деда одиннадцатый шурф, четыре бросили. Рабочие копали землю с удвоенным усердием: уж «чертознай»-то не обманет, «чертознаю» сам леший служит, значит – рой! Спины рабочих надрывались, пот заливал глаза. Только Филька Шкворень дурака валял: три фунта золота у него в кармане – впереди разливное гулеванье, и черт ему не брат.
– Вали, вали! – подстегивали его.
А студент Образцов с апломбом разъяснял старателям:
– Наука говорит, что золото распространяется по золотоносной долине не равномерно, а только узкой полосой...
– Узкой? Ишь ты!.. – слегка трунили над ним рабочие.
– Да, да! Уж поверьте науке. Не иронизируйте, пожалуйста. А полоса эта не всегда лежит в середине долины, она ходит то к одной, то к другой стороне.
– Ходит? Ах, анафема!
– А в самой полосе своей золото никогда не бывает распространено равномерно, оно очень часто залегает гнездами или кустами. Самое крупное и богатое золото лежит обычно на постели россыпи, в самом низу.
Прохор спросил:
– А почему это?
Студент Образцов сразу постарел на тридцать лет, принял напыщенно-ученый вид и повернулся лицом к хозяину.
– Наука утверждает... – начал он, прихлопывая ладонью по учебнику. – Наука утверждает, что аномалии в залегании и сложении золотых россыпей указывают на вероятное происхождение их от ряда многих и сложных разрушительных сил природы, действовавших в разные геологические эпохи...
Рабочие издевательски заржали:
– Вот, черт, до чего понятно объяснил!.. Молодой, а с толком...
Не понял и Прохор:
– Я геологию всю забыл, надо подчитать.
Сказал так и вновь ушел с ружьем к гольцам.
– А вообще-то золотоприисковое дело есть счастливая случайность... Ведь так, дедушка? – обратился студент к Нилу.
– Ну, не скажи, молоденький барин, – и «чертознай», откинув с лица пропитанную дегтем сетку, закурил. И все закурили. – Вот послушай-ка, что старики толкуют, знатецы. Откуль на земле золото пошло? А вот откуль. Враг человеческий похитил золото у ангелов. Украл, да забоялся, что за ним погоня будет, склал золото в мешок, да и взвился по воздуху. А как летел в горах, задел мешком за скалу, мешок лопнул в уголке, трык да трык, шире – боле, и стало золото сыпаться на землю. А он летит, а он летит, не видит. Потом учухал, стал зажимать прореху лапой. В коем месте крепко ужал дыру, там и нет на земле золота, а где сплоховал – там и земля им насытилась. Вот, браток, как, вот. Ты свою гилогию не слушай да епоху свою. В книжках много врут. Ты глазком бери, а где не проймет – нюхом.
– Очень интересно, – с благодарностью улыбнулся студент и записал рассказ деда.
Прохор купался в версте от работ. Он посмотрел в бинокль вдоль речки, протекающей здесь прямым плесом. Увидал дымок, людей. «Хищники... Те самые...» – подумал он, удивляясь таежной смекалке Фильки Шкворня. Вот черная собачонка кинулась там в воду, стала плавать, взлаивать. Прохор несколько раз выстрелил в ту сторону из револьвера. Опять посмотрел в бинокль. Нет, все живы. Только бросили работать, смотрят на него. И собачонка смотрит. Один на вороном коне. Мерзавец! Конокрад, должно быть. Шесть человек. Впрочем, разве это люди – это сволочь, бродяжня, шалыганы. Они враги ему. Разве пустить зарядик из ружья?
Меж тем десятник Игнатьев пришел на стан за динамитными патронами, за бикфордовым шнуром и вновь удалился в горы.
Вскоре дед закричал:
– Порода показалась! Рой, ребята, аккуратней да благословясь.
На вашгердах беспрерывно производилась промывка.
Вот у скалы загремели взрывы. Подпалив шнуры, рабочие прятались там в пещеры. С треском и грохотом рушились камни, обнажая слой кварца. Люди искали в камне «счастливой жилы». День мерк. Стало холодать. Наверное, ляжет иней.
– Речники пошли! – опять прокричал дед и вприпрыжку, по-молодому – к вашгерду. Пока промывка давала легкое, чешуйчатое золото – плохая примета. Но вдруг под речниками обнаружился богатейший пласт. Результаты промывки поразительны: на сто пудов пробы приходилось сорок-пятьдесят золотников драгоценного металла.
– Ребята, глянь! – И все бросились из шурфов к «чертознаю».
На дне вашгерда лежала желто-мутная пересыпь золотых блесток и мелких самородков. Румяный, седобородый Нил будто опьянел: он готов пуститься в пляс. Люди ликовали: они вырвали золото из недр земли. Ну, ясное дело, и им кой-что перепадет.
О, если бы мог помыслить человек, что, может быть, думают в безмолвии своем эти первозданные золотые блестки! Люди ослепленно ликовали: «Мы покорили золото, что хотим с ним, то и делаем». Золото смеялось им в ответ: «Я покорило человека. Весь мир да поклонится моему величию и да послужит мне».
И светлый день вдруг заалел от крови. Глаза у золотоискателей красны, как у кроликов, кровь сильными ударами орошала мозг, руки тряслись, дрыгали поджилки, сладостно дрожала вся душа. Рабочих била золотая лихорадка.
– Братцы! – едва передохнул дедка Нил, великий «чертознай». – Тяжелое золото... Удача!.. Я говорил... Гаркайте хозяина. Молись, ребята, Богу!
– Хозяин! Эй, хозяин!..
Прохор быстро приближался, уверенно ступая по земле, беременной спокон веков золотой отравой.
– С золотом тебя, хозяин! – Рабочие сдернули шапки, закрестились, в пояс кланялись Прохору Петровичу.
– А вас с водкой, – хладнокровно, но весь горя внутренним огнем, сказал Прохор.
– Урра! – И шапки черными птицами полетели вверх. – Урра! Значит, ребята, пьем.
Работа закончена. Довольно. В кварцевых породах тоже оказалось жильное золото. Участок золотоносный. Все – как именинники...
Вечер ложился темный. Комар от холода исчез. Сетки с лиц долой. Люди стали людьми. Рты кривились в благодушных улыбках, глаза щурились на бочонок с вином. Развели костер. Острый нож перерезал оленю горло. Покорный олень вздрогнул и упал. Левая нога его, как бы отлягиваясь от небытия, била копытом воздух. Предсмертная слеза в глазах. Дедка Нил, взглянув на мясника с окровавленным ножом, что-то вспомнил тяжелое, вздохнул. Оленю вспороли брюхо. Олень лежал теперь смирно, как золото в земле.
На душе Прохора золотые горы: и давят, и звучат, и шепчут о волшебных замках. Тяжело душе человеческой и радостно.
Все выпили по три стопки крепкого вина. Тяжесть ушла с сердца Прохора во мрак. Мрак креп кругом, но пламя огромного костра упругими взмахами опаляло его, гнало прочь. Золотоискатели разулись, вонючие портянки сушатся на палках возле огонька. И всюду мерещится всем золото. Кончик острого носа дедки Нила и бельмо блестят золотым отливом. Вино в стакашках – золотое. Рабочим жарко. Иные сбросили рубахи. Загорелое тело в лучах костра как золото. И вскоре в темном небе блеснул золотой песок Млечного Пути. А дед Нил, попыхивая трубкой, повел таежные свои золотые сказы:
– На моих памятях было. Вернулся солдат с войны, Пётра Малышев, и сел на свою заимку у Ярого озера в тайге. Осень стояла. Пошел Петра Малышев гусей промышлять на озере. Стая плавала. Хлоп-хлоп! Стая взнялась – и в облака. Два гуся пали. А третий взлетит да сядет, взлетит да сядет. «Что за чудо, – думает Петра Малышев, – обранить я его не мог; этот гусь в стороне был, дробь не могла его стегнуть». И стал он этого гуся добывать. Ухлопал, выловил, а в зобу у гуся фунта два золота наглотано, оттого и сила в крыльях ослабела. И догадался Петра Малышев, что озеро его и вся земля кругом золотая: гуси все лето паслись тут, значит, золотых зерен наглотались тут же. И закипело дело. Через три года Петра Малышев в миллионах ходил. А на пятый год Богу душу отдал без покаяния: медведь задрал.
Оленье мясо упрело в котелках. Варево густое, с янтарным золотым жирком. Пар валил вкусный. Вино булькает и булькает в стакашки. Мрак грузнел, падал на огонь. Костер перестал пылать, сел на жар. Меж углей текли-переливались раскаленные червонцы, сотни, тысячи, миллионы миллионов. Прохор подсчитывал призрачные барыши. Думы его большие и широкие. Но кругом мрак, и нет нигде просвета: черно кругом.
– Ванька! – командует великий «чертознай»; он помолодел на десятки лет, с румяного древнего лица сползли морщины, лишь бельмастый глаз по-прежнему угрюм и стар. – Ванька! Не видишь, что ли?.. Костер на жар сел. Подживи огонь!
Щуплый фельдшер Панфил Иванович Носков быстро ослаб с вина. Ему всего тридцать с небольшим, но он лыс, озлоблен, жалок. Синенький на вате пиджачишко замазан глиной и всякой дрянью, вытянутые в коленях брючки лоснятся и все в заплатах. От него пахнет на версту аптекой. Он выпил еще одну ошеломившую его стопку водки, стал, как мартышка, кувыркаться через голову, петь песни и плясать. Потом, неизвестно для чего, покрасил дегтем свои рыжие усы. Все засмеялись, он заплакал.
– Черти, черти, черти! – кричал он и делал страшные глаза. – У меня, может быть, матери сроду не было. Ни отца, ни матери! Я подкидыш. Дайте мне, черти, кусочек матери, дайте мне какой-нибудь уют. Мучительно!.. Мучительно жить так... Тьфу на вас, черти!..
У него дрожали мокрые от дегтя усы, дрожал щетинистый подбородок, градом сыпались слезы. Он кашлял, бил себя в грудь, чихал, сморкался в чью-то грязную портянку.
– Я никого не боюсь! Никого не боюсь! Ни Громова, ни царя, ни Бога. А вот смерти боюсь, бабушки с косой...
Лопотал костер. Слышно, как конь Прохора хрупает овес. Где-то филин ухнул и захохотал.
– А вот, братцы, стория... Ну истинная быль, – прохрипел молчаливый верзила Филька Шкворень и пощупал притаившийся в кармане золотой комок. – Брел я как-то по непролазной трещобе, по тайге. То есть прямо скажу, собака не проскочит. Вот чаща! И натакался я на два мертвых тела. Душина, как от стервы, как от падали. Я нос зажал, подошел. Змея черная пырсь от них да виль-виль в трещобу. По спине у меня мороз. Окстился, передернул плечами, гляжу: оба мертвых тела ликом низ, быдто землю нюхают. Голова у одного напополам топором распластана, у другого дыра в виске – пуля до смерти поцеловала. Эге! Да ведь это Тришка Мокроус, усищи – во! Хищник он был. И намыли они золота пуда полтора с другим бродяжкой, у которого башка разрублена. И вышли вдвоем в путь-дорогу. При мне было дело, при моей, значит, бытности. Раскинул я умом, – ну, значит, ясно, не надо и к ворожее ходить. Значит, было так. Заблудились они, жрать нечего, отощали. У Мокроуса топоришко, он и замыслил убить во сне товарища, золотом завладеть и человечинкой отъесться. Вот ладно. Разрубил приятелю башку и только хотел освежевать, а ему пуля вот в это место – хлоп! Вышел лиходей чалдон из чащи с ружьецом, взял золотишко и – домой. Вот как должно быть дело. Золото, оно – ого! – грех в нем.







