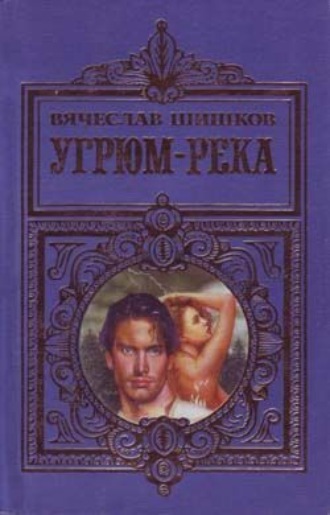
Вячеслав Шишков
Угрюм-река
XI
Бастовали целую неделю почти все предприятия. Печальный Прохор подсчитывал убытки. От невыхода на работу хозяин уже потерял около двухсот тысяч. Это наплевать! Мошенническая махинация Иннокентия Филатыча в Петербурге покрыла убытки с лихвой. Но Прохор Петрович опасался порчи рабочими заводских механизмов, оборудования приисков, поджогов. А вдруг забастовка продлится долго? Ведь тогда всем сложным делам его будет угрожать неизбежная катастрофа... Печальный Прохор старел, худел. Чувствовалось отсутствие Нины и в особенности Андрея Андреевича Протасова.
Дом его как крепость: со стороны сада, со стороны улицы по пушке. Вооруженные до зубов стражники с урядником стерегут хозяина день и ночь.
Печальный Прохор никуда не выходил.
– Любезнейший Прохор Петрович, – дрожа рыжеватыми бачками и позвякивая серебром шпор, выворачивал свою душу ротмистр Карл Карлыч. – Я должен проявить здесь, в вашем конфликте, чудеса находчивости и умения. Меня затирают по службе. Мне давно надлежало быть полковником. И я решил... да, да, решил отличиться. Я или забастовку усмирю, или кости свои сложу здесь! – Он взволнованно мигал, бачки дрожали, зловеще чиркала по полу сабля.
Генерал-губернатор в это дело почти не вмешивался. Руководящую роль играли губернатор в губернии и департамент полиции в Питере. Ротмистр фон Пфеффер только что полученным приказом был назначен начальником всей местной полиции с подчинением и воинских сил.
Рабочие толпами беспрепятственно вливались в народный дом. Здание набито людьми до отказа. Урядник Лопаткин привязал коня к дереву и, с остервенением работая локтями, стал продираться сквозь толпу к входу. Но упругая гуща взвинченного народа, пользуясь случаем, как бы невзначай, неумышленно, стала его тискать, давить, пинать из-под низу кулаками в брюхо, в бока. Лопаткин, поругавшись, уехал.
Собрание было шумное, но порядок не нарушался. Оно продолжалось до позднего вечера. Среди собравшихся – Константин Фарков. Старик по-человечески жалел Прохора, но решил пострадать с народом за правду до конца. Выступавшие члены забастовочного комитета в своих речах призывали рабочих не оскорблять ни чинов полиции, ни представителей громовской администрации, ни самого Громова.
– Товарищи, это вот почему, – поднялся из-за стола на сцене латыш Мартын. Никто не узнал его: он в черной накладной бороде и темных очках. Да и другие члены комитета тоже изменили свою наружность. – Сейчас, товарищи, мы пока ведем экономическую забастовку, то есть пробуем мирным путем, не обостряя отношений с хозяином, улучшить свое положение. И политических требований пока что не выставляем. Поняли, товарищи?
Требования рабочих заключали в себе восемнадцать пунктов. Главные из них: повышение заработной платы на тридцать процентов; введение восьмичасового рабочего дня для шахтеров и девятичасового на всех прочих предприятиях; строгое соблюдение дней отдыха; доброкачественные продукты; увольнение некоторых служащих и в первую очередь Ездакова; улучшение квартирной и медицинской помощи; вежливое обращение, выдача жалованья деньгами, а не купонами, и т. д.
Требования были законными. Почти все они касались восстановления попранных Прохором Петровичем обязательных правительственных правил.
В конце бумаги было настоятельное требование рабочих немедленно закрыть все монопольки, все пивные.
Бумагу вручили приставу для передачи Громову.
Прохор Петрович, собрав совещание, продолжал упорствовать. Резонные доводы инженеров и руководителей упирались в стену несокрушимого хозяйского упрямства. Прохор Петрович ничего не желал видеть в рабочих, кроме кровных своих врагов; он как бы оглох на оба уха и вконец очерствел сердцем. На нем сказывалось теперь влияние Фомы Григорьевича Ездакова, каторжника. Наперекор требованиям рабочих выгнать вон этого проходимца, он сделал его своим главным помощником. Прохор будто нарочно дразнил, разжигал страсти народа.
В результате совещания Прохор Петрович решил сделать кой-какие мелкие уступки, в основных же пунктах – отказал.
На другой день с утра было расклеено по всем казармам объявление за подписью жандармского ротмистра.
«Требования рабочих одни невыполнимы, другие неосновательны, а потому и незаконны. За исключением таких-то и таких-то пунктов, требования бастующих администрацией отклоняются. Администрация предлагает, с момента объявления сего, стать в трехдневный срок на работы. В противном случае всех поголовно рассчитать, прииски закрыть, шахты затопить, уволенным выдачу продуктов прекратить».
Это объявление ошеломило рабочих. Куда же они, уволенные, денутся с своими семьями – их наберется с ребятами до десяти тысяч человек? Ведь их целый месяц надо вывозить до железной дороги иль до пристани. А где же взять денег? Неужели поколевать в тайге или снова броситься в лапы Громова?
Рабочие послали мотивированную телеграмму губернатору. Приказом губернатора постановление администрации отменено и предложено вновь вступить в переговоры с народом, не обостряя течения забастовки.
Вечером прибыл из губернии прокурор, статский советник Черношварц.
Значит, представители трех ведомств – юстиции, внутренних дел и военного – съехались на защиту печального Прохора от пятитысячной массы «наглых» рабочих. Они приехали с своей правдой, основа которой – насилие. Впрочем, они приехали с тем, что подсказывал им текущий момент истории. Они и не могли приехать с чем-нибудь иным, что могло бы обрадовать тысячи трудящихся и свести на нет алчность Прохора. Они, если б даже и хотели, не могли этого сделать: они ведь ни больше ни меньше как покорные жрецы всесильного молоха.
Однако бастовавшие приезду прокурора радовались: они, по наивности своей, видели в нем высшего представителя власти; его должен побаиваться и сам жандармский ротмистр, они вручат прокурору пространное прошение, где изольют все свои жалобы на существующий порядок.
Двенадцать выборных, в том числе Константин Фарков, Доможиров и Васильев, направились к прокурору с жалобой. Черношварц слушать выборных не пожелал.
– Вы, наверно, агитаторы, – облил их словами, как помоями.
Обиженные, они стали клясться и божиться:
– Нас народ выбрал, рабочие массы.
– Я вам не верю, – сказал Черношварц. – Пусть сам народ подтвердит мне, что вы не агитаторы, а только выборные.
Узнав это, рабочие стали писать «сознательные записки и заявки», начали гуртоваться – как на отлете скворцы; табунами ходили из казармы в казарму, собирались во множестве на берегу реки, принялись сочинять всем скопом прошение на имя прокурора. За опрокинутым ящиком восседал рабочий Петр Доможиров. Пред ним бумага и чернильница. Прошение пишется и час и два. Народ угрюм. Редко-редко упадет печальная, с солью, смешинка.
– Пиши: капуста тухлая. Пиши: хлеб выдается из несеяной муки. Как-то мышь в хлебе попалась... С сором, с сучками! А был, братцы, кусок с конским калом...
– Эти куски хранятся?
– Хранятся! Все хранятся... И протокол есть.
– Пиши: мясо выдается паршивое, несъедобное, с болячками. От такого мяса мы маемся животами, а в казармах, когда его готовят, вонь, не продохнешь. Так и пиши.
Прошение пишется долго. С Петра Доможирова льет пот, пальцы деревенеют, мелкая пронизь букв сливается.
– Вот восемьдесят два прошения от женщин. – Молодая работница кладет пред Доможировым пачку исписанных листков и придавливает их камнем. – Здесь наши слезы, все мучения наши.
Так, повиливая хвостом, волочилось время. Порядок среди народа – образцовый. Пьянство сразу как отсекло. Матерщина сгибла. Помня наказ забастовочного комитета, рабочие зорко следили друг за другом, за сохранностью имущества Громова. На приисках, на всех предприятиях расставлены собственные караулы, чтоб предотвратить хищничество. Вся знать, все служащие предприятий крайне удивились вдруг наступившему порядку, какого прежде не бывало. Почти все они опасались, что вместе с забастовкой начнутся погромы, поджоги, разгульное пьянство. Но вышло так, что многотысячная полуграмотная масса, среди которой сотни преступного элемента и отпетых сорвиголов, осмысленно заковала себя в железные цепи дисциплины.
Многие, чтоб подальше от соблазна, выливали водку из бутылей прямо на землю, похохатывали, острили:
– Не стану пить винца до смертного конца. Вино ремеслу не товарищ...
Рабочие боролись за правду, за свои права; они священнодействовали. А жизнь своим порядком со всех сторон обтекала назревавшие события.
Угрюм-река текла спокойно, однако образуя у двух противоположных враждебных берегов два острова – для Прохора и стачки.
Нина бомбардировала Протасова телеграммами. Возвращался победоносный Иннокентий Филатыч из своей поездки. Под видом Ивана Иваныча вернулся со своей женой и Петр Данилыч Громов. Он скрыто поселился в новом, выстроенном Ниной домике, в пяти верстах от резиденции, в кедраче у речки. Вместе с Петром Данилычем приехал и старенький отец Ипат в гости к своей дочке, дьяконице Манечке.
Служащим делать стало нечего; служащие, как умели, веселились, устраивали пикники и пьянки. Кэтти вплотную сдружилась с поручиком Борзятниковым: очень часто гуляли в лесу; их лица от комариных укусов вспухли. Отец Ипат – толстенький, коротенький, руки назад – чинно расхаживал вперевалку по окрестностям, обозревал чужую местность...
Дьякон Ферапонт теперь не разлучался с Манечкой: вместе ходили на охоту за богатой дичью, собирали ягоды. Когда дьякон стрелял, Манечка защуривалась и крепко затыкала уши.
Однажды под вечерок встретили на речке Кэтти; она делала вид, что читает книгу, а сама все оглядывалась по сторонам: Борзятников не приходил, – должно быть, задержался дома по экстренному случаю.
– А! Здравствуйте...
Манечке эта встреча не по сердцу: она ревновала дьякона к учительнице.
– А медведей не боитесь? – загремел дьякон.
– Что вы! Тут близко от дома, тайги нет здесь: луга, кедровые рощицы. Вы домой? Пойдемте вместе. А я, знаете, немножко... – И Кэтти, указав на бутылку, захохотала.
Манечка поморщилась. Пошли тропинкой. Походка Кэтти – не из твердых.
– Я этого пижона Борзятникова скоро возненавижу, кажется. Бессодержательный, как пустая бутылка. А скука, страшная скука... Нет людей.
– Да, – сказал дьякон. – Мне даже удивительно, что вы с ним... Ведь он же убивать народ приехал.
– Ну что вы... И вы это считаете возможным?
– Всенепременно так...
– Оставьте, Ферапонт.
Манечка окрысилась:
– Он вам не Ферапонт, а отец дьякон!
– Хорошо, приму к сведению. – И Кэтти опять захохотала с тоской, с надрывом. – Хоть бы Нина скорей возвращалась... Здесь с ума сойдешь. Страшно как-то... Манечка, возьмите меня к себе на квартиру.
Манечка только плечами пожала.
Дьякон нагружен ружьями, мешками, как верблюд. На пути – разлившийся по каменистому ложу ручей. Дьякон посадил Манечку на левую руку, а Кэтти на правую. Манечка, кокетливо дрыгая коротенькими ножками, с нарочно подчеркнутой нежностью обхватила шею мужа. В сравнении с величественным дьяконом Манечка напоминала четырехлетнего ребенка, а Кэтти – подростка-девочку. Нужно идти по воде шагов пятьдесят.
– Держитесь обе за шею, – сказал дьякон.
Кэтти, улыбнувшись, как-то по-особому обняла дьякона и задышала ему в ухо винным перегаром:
– Миленький Ферапонтик мой, Ахилла...
Манечка вдруг зафырчала, как кошка, и плюнула Кэтти в лицо. Кэтти, злобно всхохотав, плюнула в Манечку, и они сразу вцепились друг дружке в косы. Дьякон потерял равновесие, поскользнулся, крикнул: «Что вы! Дуры...» – и все трое упали в воду.
– Что это там? – И ротмистр фон Пфеффер указал с коня биноклем на барахтавшихся в воде людей.
Пряткин и Оглядкин, всмотревшись из-под ладоней, сказали:
– Надо полагать, пьяные рабочие дерутся, васкородие...
Ротмистр ответом остался весьма доволен и – галопом дальше по нагорному берегу долины. За ним кучка верховых: жандармы, стражники, судья, офицер Борзятников. Им надо засветло поспеть на территорию механического завода и прииска «Достань». По дороге срывали всюду расклеенные «Воззвания рабочих к рабочим».
XII
– Что ж, на работу так и не желаете выходить?
– Не желаем, батюшка. Потому кругом обида! Так и так пропадать. Авось Бог оглянется на нас, натолкнет на правду, а обидчикам пошлет свой скорый суд.
Отец Александр сидел в семейном бараке плотников. Подумал, понюхал табачку и сказал:
– Ваше дело, ваше дело...
Бородачи-плотники самодовольно почесывали в ответ спины и зады.
– А я вот зачем... Приближается престольный праздник. Ежегодно, как вы знаете, пред этими днями совершается уборка храма, начисто моются живописные стены и потолок. Подстраиваются особые леса. Мне надо бы пяточек плотников да женщин с десяток, поломоек...
– Не сумлевайся, батюшка. Все сделаем бесплатно, Бога для, – с усердием откликнулись бабы.
На другой день с утра направилась на уборку церкви кучка плотников и женщин. Две большие артели, человек по сотне, привалили с инструментами, с краской ремонтировать народный дом и школу. Рабочие делали это по собственному почину: они считали и школу и народный дом для себя полезными. Константин Фарков – босой, штаны засучены – красит вместе с товарищами крышу школы, другая группа конопатит стены, бабы моют окна, полы, двери.
Оба священника в церкви. Бабы с подоткнутыми подолами, пять стариков плотников. Отец Александр говорит:
– Благолепие в храме навели, да и в жилищах ваших стало теперь чисто.
– Зело борзо, зело борзо... – подкрякивает дряхлый отец Ипат.
– Батюшка! – выкрикивают женщины, утирая слезы. – Как мы живем теперь согласно да чисто, так сроду не жили. Даже самим не верится.
– Когда же конец забастовке-то вашей будет?
– А вот собираемся, батюшка, прокурору подавать... Что он скажет, – говорят плотники. – Нам больше некуда податься. Разве в могилу, к червям.
– А вы бы подумали, не пора ли на работу тихо-смирно выходить. Ведь надо вникнуть и в положение хозяина.
– Эх, батюшка! – закричали вперебой плотники и бабы. – Да ежели б ты знал, как эти антихристы над нами издевались, ты бы другое стал говорить. Что мы перенесли в молчанку да выстрадали... А жаловаться боялись: выгонят вон... А ты пожалей нас.
– Жалею, жалею, братия, – нюхает табак отец Александр, и острые из-под густых бровей глаза хмурятся. – Но я враг насилия как с той, так и с другой стороны. Миром надо, братия, покончить.
– Да мы и не насильничаем. Хозяин насильничает-то. Вот ты ему и толкуй. Урезонь его, окаянную силу.
– Верно, верно, верно, – прикрякивает отец Ипат.
После обеда оба священника в синих камилавках, в новых рясах, с протоиерейскими тростями, чинно направляются к дому Прохора Петровича. Отец Александр решил круто поговорить с хозяином:
– Я ударю сей тростью в пол и крикну: «Нечестивец! Богоотступник! Доколе ты будешь, сын сатаны, забыв заветы Христа, терзать народ свой?»
– Именно, именно... – поддакивал, пуча глаза от одышки, толстобрюхенький отец Ипат. – Так и валите, Александр Кузьмич. Я тоже поддержу вас, я тоже ударю тростью, да не в пол, а Прохору по шее, зело борзо... Я его еще сопливым мальчишкой знал. Он ко мне в сад яблоки воровать лазил. Ах, наглец, ах, наглец!
У окна, в тени фиолетовых портьер, стоял притаившийся Прохор. На долгий, троекратный звонок посетителей наконец вышла горничная.
– Ах, здравствуйте, батюшки!.. – И, завиляв глазами и кусая губы, вся загорелась краской. – Прохор Петрович нездоровы. Они давно легли спать и велели сказать, чтоб их больше не беспокоили.
– Передайте господину Громову, когда он проспится... не выспится, а проспится... что к нему приходили два пастыря с духовным назиданием. Он не пожелал их принять, – за это он ответит Богу. И нет ему от нас благословения! – Отец Александр, задышав волосатыми ноздрями, стал осанисто, с высоко поднятой головой, спускаться с крыльца, ударяя посохом в ступени.
– Ах, наглец, ах, наглец! – шамкал, поспевая за ним, отец Ипат. – Яблоки воровал... белый налив. Ах, мошенник!
В тени фиолетовых портьер стоял у окна Прохор, смотрел им вслед.
Ротмистр фон Пфеффер, засветло прибыв на территорию механического завода и прииска «Достань», довольно своеобразно изучал обстановку дела: он со своей сворой ходил из барака в барак, из избы в избу, заглядывал в казармы, в землянки, всюду топал ногами, потрясал саблей, угрожал:
– Ежели не выйдете на работу, приду сюда с солдатами, буду расстреливать вас прямо в казармах, не щадя ни баб, ни ваших кривоногих выродков!
– Мы бешеные волки, что ли, чтоб расстреливать? Мы люди, ваше высокоблагородие. Мы правду ишем. Смирней нас нет, – едва сдерживая себя, миролюбиво отвечали ему холодные и теплые рабочие. А те, кто погорячей, лишь только ротмистр начинал удаляться прочь от жительства, по-озорному тюкали ему вдогонку:
– Тю-тю-тю-тю... Перец!..
Не отставали в присвистах, в гике и ребятишки. Ротмистр зеленел, путался ногами в длинной сабле.
Вечером власти и стражники куда-то уехали. А глухой ночью мировой судья, ротмистр с жандармами, урядниками и стражниками тихо подошли к холостой казарме, оцепленной прибывшими солдатами. Сипло, заполошно лаяли собаки. Небо в густых тучах. Навстречу караульный с фонарем:
– Кто идет?
– Свои.
Караульный от «своих» попятился, снял шапку.
– Доможиров, Васильев, Семенов, Марков и Краснобаев дома?
– Кажись, дома. Кажись, спят. Доподлинно боюсь сказать.
В бараке – сонная тишина и всхрапы. Электростанция бастует, свету нет, темно.
...Темно и там, вдали отсюда, в селе Разбой. Они идут на улицу. Мертвый волк в странной гримасе скалит красную пасть на них, зверушки улыбаются. Мрачное небо придавило землю, кругом – молчание, в жилищах огни давно погасли.
– Темно, – говорит Протасов.
– Да, темно. – Шапошников провожает его с самодельным фонарем. – Тут грязь, держитесь правее...
Идут молча. Протасов чувствует взволнованные вздохи спутника. Протасов думает о Нине, о ее вчерашней телеграмме:
«Верочка умирает. Я в отчаянии, я разрываюсь, пренебрегите всем, ради меня вернитесь на службу».
Протасов говорит:
– Я больше всего боюсь, что мой уход со службы рабочие могут понять, как мою трусость. Скажут: «Взял да пред самой забастовкой и сбежал». Я твердо решил вернуться. Вы одобряете это, Шапошников?
...Фонарь плывет дальше. Разбуженный Петр Доможиров вскакивает. На скамье, под брошенной рубахой, под штанами куча «сознательных записок».
– Ты арестован! Одевайся.
Фонарь, въедаясь в лица спящих, оплывает длинный ряд двухэтажных нар. Рабочего Васильева нет, Васильев скрылся. Взято пятеро.
– А за что берете?! – кричат они.
– Что, что? Кого берут?! – Поднимаются на нарах люди, скребут спросонья изъеденные клопами бока, незряче смотрят на блудливый огонек фонарика, прислушиваются к звуку удаляющихся шпор. – Эй, староста, что случилось?!
– Наших взяли.
В другой казарме взято четверо, с ними – случайно ночевавший здесь Гриша Голован. Тщательно искали гектограф и прокламации «Воззвание рабочих к рабочим» – не нашли. Не нашли и латыша Мартына и многих назначенных к аресту. Ротмистр злился. Проснувшиеся в разных углах рабочие кричали:
– Зачем вы приходите к нам ночью, да еще с солдатами? Мы мирно бастуем, никого не трогаем. Пошлите нам повестки, мы и сами пришли бы... Днем.
В бараке на прииске «Достань» взяты трое: политический ссыльный студент Лохов и два российских семейных крестьянина. Рассветало. Многие поднялись, варили чай. Шумели, подсмеивались над ротмистром, над солдатами.
В красной, ниже колен, рубахе приискатель-бородач язвительно орал с улицы в барак:
– Эй, бабы, ребятишки, старатели! Все выходи! Пускай всех забирают...
– Молчать, сволочь!! – бряцает саблей ротмистр.
– От сволочи слышу! И бабушка твоя последняя сволочь была, я ее знаю...
Масса гогочет. Зреет скандальчик. Ротмистр до боли кусает губы, молчит, боится бунта приискательской шпаны.
Двенадцать человек под конвоем увозятся в город, за четыреста верст, в тюрьму.
Губернатору и в департамент полиции летят телеграммы:
«Стачечный комитет почти весь арестован. Эксцессов нет. Настроение рабочих настороженно-выжидательное».
С утра началось сильное брожение среди рабочих. Известие об арестах взбудоражило всех. Люди собирались кучками, негодовали. Обсуждали вопрос о недостаточном пайке – люди голодали, о необходимости потребовать выдачи всех заработанных денег. Контора и в пайке и в деньгах отказала, хозяин не сдержал своего слова, хозяин не хочет идти на уступки, он не желает даже выполнять договорные обязательства и инструкцию правительства. Хозяин предатель, зверь.
– Ребята! Надо выручать своих.
Три сотни горячих голов повалили к конторе требовать в первую голову освобождения арестованных. Среди толпы Филька Шкворень, окрыленный надеждой, что будет погромишко, сладкая пожива. По ту сторону реки, за мостом, стояли под ружьем солдаты. Через мост, прямо на толпу, скакал офицер Борзятников.
– Стой, стой! – кричал он, размахивая шашкой.
– Нам по делу, – остановилась толпа. – Нас рассчитывать хотят, нам паек не дают, мы...
– Расходи-и-и-ись!.. Стрелять прикажу!
И, взметая пыль, он поскакал обратно.
– Не верь, братцы, не верь! – раздались в толпе поджигающие выкрики. – Солдаты не станут в своих стрелять.
Но видно было, как солдаты взялись за ружья. Толпа опешила и с руганью показала солдатам спины.
Под вечер из четырех бараков стали выселять, по постановлению судьи, тех рабочих, у которых весь заработок был выбран раньше. Выселением руководил пристав. Весь скарб – сапоги, сундучишки, одежду – выбрасывали на улицу. Выселяемых выталкивали взашей, волокли за шиворот. Стоял стон, вой, проклятия. Рабочие, наблюдавшие насилие, свирепели. Но солдаты и стражники грозили им нагайками, штыками.
– Ребята! Надо губернатору, а нет – так и самому генерал-губернатору жаловаться...
Уцелевшие от ареста немногие руководители движения послали экстренные телеграммы губернатору и в Петербург. Они жаловались, что арест выборных подливает в огонь масло, народ теряет спокойствие, что насильственное выселение рабочих в глухой местности, где нет жилья, – преступно, может грозить голодным бунтом и всякими бедствиями.
Выдержки из пространной телеграммы встревоженного губернатора, на имя прокурора Черношварца:
«...Если находите возможным, освободите арестованных. Выселение до полной ликвидации забастовки воспрещаю. Пристав, в случае повторения насильственного выселения, будет отдан мною под суд. Настоятельно предлагаю склонить владельца Громова к удовлетворению всех законных претензий рабочих».
Прохор Петрович по поводу этой телеграммы, скрытно от прокурора, держал совет с Ездаковым, приставом, судьей и жандармским ротмистром. Результатом совещания была телеграмма в Петербург министерству внутренних дел за подписью присутствующих:
«Нерешительная, сбивчивая тактика губернатора ослабляет наши позиции, дает рабочим опору к дальнейшим вымогательствам, затягивает забастовку, причиняет неисчислимые убытки, подрывает престиж власти. Просим дать ротмистру фон Пфефферу директивы к окончательной ликвидации стачечного комитета и производству дальнейших арестов».
Эта телеграмма возымела действие. Под нажимом Петербурга губернатор телеграфировал прокурору Черношварцу и жандармскому ротмистру, что с его, губернатора, стороны не встречается препятствий к дальнейшим арестам и прочим разумным мерам по ликвидации забастовки.
Ротмистр торжествовал: он потирал руки, предчувствуя скорый конец стачки и великие дары от Громова. Впрочем, дары были и до этого: ротмистр поручил сопровождавшему арестованных жандарму сделать в уездном городе перевод трех тысяч рублей на имя баронессы фон Пфеффер.
Ротмистр победно позвякивал шпорами, топорщил наваченную грудь. А прокурор, удивляясь разноречивым телеграммам губернатора, догадывался, что это Прохор Громов и его приспешники ведут тайно от прокурора некрасивую политику через Петербург. Прокурора это злило.
Меж тем среди рабочих – сплошное уныние; многими остро чувствовался недостаток продуктов, негде и не на что было их купить. Иные уже голодали.
К Кэтти прикултыхали два малыша: Катя с Митей, ученики ее.
– Барышня!.. Мамка с тятенькой послали к тебе... Деньжонков нет у нас. Мы голодные... Вот третий день уж.
Кэтти идет с ними в сберегательную кассу, достает последние свои гроши, отдает ребятам.
Пишет Нине письмо:
«У тебя, видимо, нет сердца. Ты только притворяешься, что любишь народ. На самом же деле жизнь Верочки тебе дороже жизни тысячи рабочих с детьми. Ты – эгоистка, ты – самка! Прости эти жестокие слова. Я теперь понимаю Протасова и понимаю и ценю его образ мыслей. Вот это человек! А ты и зверь твой Прохор – одного поля ягода. Я не могу здесь жить, мне в этой атмосфере насилия душно, невыносимо. Я помогаю восьми голодным семьям, я все свое отдала, осталась только канарейка. Я готова и жизнь свою отдать, но не умею как. Институт выбросил нас в жизнь глупыми, незрячими щенками. Я теперь только начинаю понимать роль и обязанность человека в жизни. Я дура, дура, пьяница, развратная. Будь проклята тайга и ваша алчность! Прости, Нина, милая, дорогая, славная... Прости меня, пьяную, развратную девку. Эх, пропала твоя Кэтти! Прощай. Не могу больше».
Чернильница, перо летят на пол. Письмо рвется в мелкие куски. Канарейка открывает свой спящий бисерный глазок, чивикает:
– Девушка, ты что?
Кэтти злобно, отчаянно рыдает.







