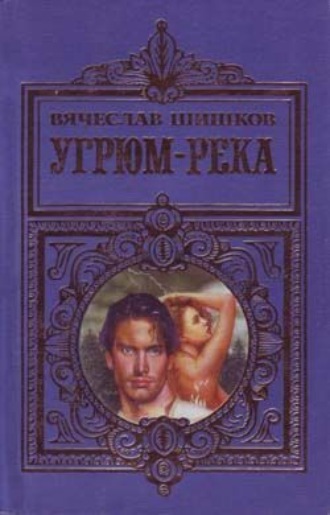
Вячеслав Шишков
Угрюм-река
XII
На другой день, разбитый физически, растрепанный душевно, Прохор проснулся поздно. Не умываясь (он редко умывался теперь), выпил водки, съел кусок хлеба с солью и с робостью поднял взгляд на портрет в золоченой раме. Но вместо жены на портрете – Анфиса, она ласково улыбалась, кивала Прохору, что-то хотела сказать. Прохор протер глаза, на портрете – Нина...
– Хм, – буркнул он, скорчил гримасу, отмахнулся рукой.
Мысленно, со стороны, Прохор Петрович стал горько подсмеиваться над собою, что вот он, такой большой и бородатый, верит в какую-то чертовщину. Он и рад бы не верить в нее, но он ясно видел, что эта несуразица так ловко оплела его со всех сторон, так искусно перепутала всю логику его суждений, что он стал чувствовать себя погрязшим по уши в болоте личного бессилия.
«Очень интересно наблюдать, как умный с ума сходит, – все так же внутренне ухмыляясь, с большой тоской в сердце думал он. – Нет, шиш возьми. Вот не сойду, назло не сойду. Дурак, пьяница. Мне действительно отдохнуть надо».
Напился чаю, написал письмо Протасову, заказал ямскую тройку (своих лошадей жалел) и, не простившись с домашними, выехал в путь-дорогу.
Он направился в село Медведево, чтобы примириться с отцом своим. Мысль о примирении встала пред Прохором резко, отчетливо. Прохор принял ее, не сопротивляясь. И еще ему надо навестить могилу матери и горько поплакать на могиле желанной Анфисы. «Анфиса, Анфиса, зачем судьба оторвала тебя от моего сердца?»
Тройка бежала скорой рысью. Путь с горы на гору, тайгой, полями, берегом реки. Прохор закрыл глаза и, покачиваясь, грезил. «Черт, до чего все усложняется. Как трудно стало жить. Как перепутались все дела мои...» – не открывая глаз, думал он. Мысленно оглядываясь в недавнее, он казался себе человеком, который по движущейся вниз лестнице старался взобраться в гору. Человек – все выше, а лестница под ним – все ниже. Человек воображал, что вот-вот взойдет на гору, но вершина горы все больше и больше возвышалась. «Да, все так, все правильно. Именно я похож на такого человека». И Прохор под заунывные звуки колокольчика начинал искать корень своих неудач. Впрочем, он четко знал, откуда эти неудачи, но ему хотелось еще раз взглянуть в наглую личину своего врага. Тогда путь путаных домыслов вновь и вновь приводил его к Нине, Протасову, Приперентьеву, отцу. Однако, желая оправдать отца и Нину, он воспаленным воображением своим попробовал искать причину зол не в земнородных существах, а в проклятой судьбе своей.
– Ведь я же открыто, при всех провозгласил тогда на пиршестве, что я – сатана, я – дьявол! – выкрикнул он так громко, что толстогубый парень, ямщик Савоська, оглянулся на него и в страхе стал двигать бровями.
– Что, не узнал?
– Не узнал и есть, – присматриваясь к волосатому прыгающему лицу Прохора, прогнусил Савоська.
– Ты думаешь, барина везешь, а я черт.
– А ты не заливай. Ты Прохор Петрович, вот ты кто.
Прохор, чтоб настращать придурковатого парня, хотел взвыть диким голосом и закатиться сумасшедшим смехом, да передумал. Достал походный ларец и выпил большой стакан водки. Савоська, ежась и заглядывая через плечо на седока, заговорил:
– А что, Прохор Петрович, правда ли, нет ли, – тебя считают в народе колдуном? Будто ты с неумытиком знаешься?
– Верно, знаюсь, – сказал Прохор. Водка всосалась в кровь. Тоска стала спадать. Прохор зарычал слегка и по-волчьи взлаял. – А мой волк, верно, леший, он по-человечьи говорит. Хочешь, и лошади твои по-человечьи заговорят?
– Брось, брось на воду тень-то наводить. Что я, маленький, что ли? Кому другому заливай. И не рычи, сделай милость, – бодрясь, загнусил дрожащим голосом Савоська. – А ты вот что говори, как бы нам не довелось в тайге заночевать. Вишь, сутемень какая, скоро ночь ляжет.
– Через пять верст Троегубинская мельница. Забыл нешто? Там и заночуем, – ответил Прохор и, проверив заряды в ружье и штуцере, осмотрелся по сторонам.
Кругом темная, мрачная тайга. В небе зажглась первая бледная звездочка.
Протасова раздражало оставленное хозяином письмо.
«Любезнейший Андрей Андреич, – читал он. – Уезжаю от вас на недельку, на две. Нездоровится. Проветриться надо мне, протрезветь. Последние события, начиная с пожара тайги, вывели меня из равновесия. Ищу точку опоры и не могу найти. Все дело поручаю вам под вашу личную ответственность. До скорого свиданья.
Прохор Громов».
Протасов собрался переводиться на Урал, и вот опять оттяжка. Ежедневно посещая контору, он установил, что служащий Шапошников отсутствует вот уже пятый день. Один из конторщиков сказал Протасову, что Шапошников, вероятно, пьянствует, что от него всегда попахивает винишком и вообще он какой-то странный.
Поздно вечером, когда кругом затемнело, Протасов заглянул в избушку Шапошникова. Избушка принадлежала глухонемой бобылке Мавре. Горела под потолком маленькая, в мышиный глаз, керосиновая лампа. На куче соломы в углу спал врастяжку, кверху бородкой, коротконогий босой Шапошников. Пахло водкой. Батарея пустых бутылок возле печки. На стене убранный хвойными ветвями портрет Анфисы.
– Шапошников!
Тот чихнул и сел, вытянув опухшие ноги.
– Ах, это вы?.. Простите... А это я. Только п-п-пожалуйста... б-без нравоучений... Я знаю, что виноват. Кругом виноват. Впрочем... – Он осмотрелся, провел рукой по лысине и горько улыбнулся. – Да, сон. Ах, это вы? Протасов? А я думал, что... Берите стул. – Шапошников встал, закинув руки за шею, и, пробежав на цыпочках, сладко потянулся, затем криворото, отчаянно зевнул, – бородища залезла на левое плечо, – сел к столу, закурил трубку. Рубаха расстегнута, выбилась из штанов.
– Слушайте, товарищ Шапошников... Как вам не стыдно валяться на соломе, бездельничать? Ведь все ваши товарищи на большой работе, народу служат... А вы...
– Милый... с-с-скука, т-т-тоска, уныние. Я удивляюсь, как в-в-вы-то не спились еще в этой дыре. Нет, надо бежать. – Он выпучил глаза и крикнул: – Да! Знаете? Стращалов бежал... Прокурор. Помните? Записку получил от него. В безопасном месте, говорит. С приятелями, говорит. Потом сбегу, говорит, в Америку. Деньги есть, говорит. Да, да. Он, черт, сильный, мужественный. А я... я... ч-ч-чучело. Милый! Когда умру, набейте меня паклей. И поставьте Прохору Петровичу в кабинет. Пусть мучается, пусть и он, стервец, с ума спятит... Я ведь тоже... тово... готов, кажись.
Протасов с жалостью во все глаза глядел на него.
– Я лягу, не могу сидеть. – Ударившись головой о стену, он кувырнулся на свое логово. – Садитесь на пол. Протасов, милый... Как бы я, как бы... желал бы... Вернуть свою молодость.
– Ну, что вы какую несете чушь!..
– Нет, нет, – засмеялся скрипучим смехом Шапошников и, как белка хвостом, закрыл бородой одутловатое от запоя лицо свое. – Мне бы только встретить Анфису...
Вошла глухонемая бабушка Мавра, хозяйка Шапошникова, поставила на стол кринку с молоком, низенько поклонилась Протасову, что-то замычала, замаячила руками.
Прохор спал. Снилась сумятица: Синильга кружилась пред ним во всем красном, вдова-тунгуска вылезала из омута и, голая, с плачем садилась на белый камень. Затем все исчезло, и снова: пустой вечер, кладбище, сорвался с березы грач, поползли туманы, отец Ипат покадил Анфисиной могиле и пропал в дыму. Колокольчики-бубенчики побрякивали.
Вдруг крики:
– Стой!
От резкого выстрела Прохор открыл глаза, проснулся:
– Что такое? Что?
Тройка напоролась на залом из сваленных разбойниками поперек дороги деревьев. Тьма.
– Ямщик!! Что?!
Хохот – и Прохор связан...
Разбойники, человек тридцать – сорок, сидели у двух костров в глухой, заросшей густым ельником балке. Кругом тьма. Неба не видно. Откуда-то сверху, из мрака, слышались выкрики иволги, всхлипы сов, посвисты, свисты. То перекликались на хребтах балки дозорные. Кой-кто спал, кой-кто чинил одежду или дулся в карты. У ближнего к Прохору костра пятеро молодцов, прихлопывая в ладоши, пели вполголоса веселую:
Там за лесом, там за лесом
Разбойнички шалят!
Там за лесом, там за лесом
Убить меня хотят.
Нет, нет, не пойду,
Лучше дома я умру!
Лихой этой песни Прохор не слышал. Строй жизни в нем помрачился, ослаб. И жизненный тон восприятий стал тусклым, незвучным, завуалированным. Он сидел на пне, как в театре пред сценой. С дробным, идущим по многим путям вниманием ждал, что будет дальше, небрежно готовился досматривать сон. А сам думал вразброд о чем-то другом, о третьем, о пятом. Поэтому Прохор ничуть не испугался подскакавшего на коне Ибрагима-разбойника. Но при свете костров успел рассмотреть его, как актера на сцене. И сразу узнал: «Да, он, он...»
За длинный срок разлуки с Прохором черкес мало изменился. Та же прямая, плечистая фигура, тот же горбатый нос, втянутые щеки, бородища с проседью. На голове красная, из кумача, чалма. Одет он в обыкновенный серенький пиджак, перетянут ремнем из сыромятины, за ремнем – два кинжала. Черкесу шестьдесят четыре года, но он принадлежит к тем людям, которым написано на роду гулять на свете по крайней мере сто двадцать лет.
В Прохоре два естества – разумное и умное, в Прохоре было два чувства. Одно естество бодрствовало, другое – воспринимало жизнь как сновиденье.
– Здравствуй, Прошка! Здравствуй, кунак! – И черкес соскочил с коня.
Прислушиваясь дремотным ухом, как дитя к любимой сказке матери, к родному, прозвучавшему из глубин далекой юности голосу черкеса, Прохор крикнул запальчиво:
– Развяжи мне руки, чертов сын! Разве забыл, кто я?!
Черкес моргнул своим, – два бородача, с бельмом и криворотый, быстро освободили Прохора. Тупо озираясь, Прохор выхватил пузырек с кокаином и сильными дозами зарядил обе ноздри.
– Я не боюсь тебя. Я на тебя плюю. Ты будешь большой дурак, если убьешь меня. У меня с собой нет денег. И ты ничем не воспользуешься.
Ибрагим стоял у костра подбоченившись, пристально всматриваясь в лицо Прохора, жутко молчал. Прохор пересел на валежину, подальше в тень.
– У меня в кибитке походный телефон. Чрез полчаса здесь будут две сотни казаков.
– Твой казак, твой справник – худой ишаки... Ха-ха!.. Адна пустяк, – потряхивая головой, поводя плечами, гортанно выкрикивал черкес. – Больно дешево ценишь мой башка... Ха-ха!.. Тыща рублей... Клади больше, кунак...
– Отпусти меня подобру, получишь десять тысяч. Иди ко мне служить. Беру тебя со всей шайкой твоей. Будешь охранять предприятия.
– Служить? Цх... К тебе?
– Да. Ко мне. Я тебя сделаю начальником...
– Ты? Меня? Цволочь... Мальчишка...
Рот черкеса взнуздался голозубой гримасой, глаза мстительно ожесточились.
– Ежели я есть убивец Анфис, убирайся к черту задаром! Твоя деньга не надо мне. Живи! Ежели твоя убил Анфис, я тебя разорву на двух частей, все равно как волк барана. Цх...
Прохор побагровел, хотел вцепиться в хрящеватое горло черкеса, но... в его вялом сознании мелькнуло: «Ведь это ж сон». Он жалостно заморгал глазами, как в детстве, и смягчившимся голосом быстро, словно в бреду, заговорил:
– Ты мне худа не сделаешь, Ибрагим. Помнишь, Ибрагим, как мы плыли с тобой по Угрюм-реке? Тогда ты любил меня, Ибрагим. И я тебя любил тогда. Ты был в то время родной. Я никого так сильно не любил, как тебя любил.
Прохор глубоко передохнул. В широко открытых глазах Ибрагима затеплился огонек. Казалось, еще момент – и черкес кинется на грудь когда-то любимого им джигита Прошки, все простит ему.
Но вот голос Прохора зазвучал вызывающе – и все в лице черкеса захолодело.
– Да, верно, я любил тебя, осла, больше всего на свете. И до самой смерти любил бы, но ты, варнак, Анфису убил... Ты, ты, больше некому! Я знал это и на суде так показал... За что ты, сатана, убил ее?
– Я? Анфис?! Адна пустяк... Ха-ха!.. Слышь, ребята?!
«Ха-ха! Ха-ха!» – загудели костры, и тайга, и мрак.
– Да, ты.
– Я?.. Слышь, кунаки?! Ха-ха!
«Ха-ха! Ха-ха!» – опять загудели костры, тайга и мрак. Лицо Ибрагима заалело, как кумач, а кумачная чалма стала черной. Из глаз черкеса брызнули снопы колючих искр, в руке сверкнул кинжал:
– Цх!
И черкес, яростно оскалив белые зубищи, было двинулся на Прохора.
«Смерть, – подумал Прохор, – надо скорей бежать, убегу, спрячусь, залезу на дерево». Но, не отрывая взора от искаженного лица черкеса, Прохор не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой: в его левую щеку кто-то хрипло дышал. Прохор с трудом повернул голову – и глаза в глаза с врагом. – «Ты!!» – Прохор откачнулся от лохматого лица, как от гадюки, и спину его скоробил холод. Он сразу почувствовал себя, как вор, схваченный на месте преступления...
Прокурор Стращалов ткнул его пальцем в грудь и – на всю тайгу:
– Ты убил Анфису!
И снова – шумнула тайга большим шумом, и вырвался клубами дым, и вырвалось пламя. И где-то стон стоит, тягучий, жалобный.
«Сон, – подумал Прохор, весь дрожа. – Надо скорей проснуться».
Но то не сон был, то была злая, взаправдашняя явь.
...Суд произошел быстро. Подсудимые и прокурор те же: сын купца Прохор Петрович Громов, ссыльный поселенец Ибрагим-Оглы и бывший коллежский советник, юрист Стращалов. Присяжные заседатели – тридцать разбойников. Зал суда – таежная, в черной ночи, балка.
Прохор судорожно раскрывал рот, чтоб вызвать лакея, дергал себя за нос, щипал свою ногу, чтоб проснуться. Но то была явь, не сон. Вот и Савоська-ямщик, проклятый свидетель, торчит тут, как сыч. Торжествующий Савоська действительно сидел у костра с разбойниками, слушал, что бормочет Прохор, курил трубку и вместе со всеми похохатывал.
«Мерзавцу всю шкуру спущу, – яро подумал про него Прохор Петрович. – Убью мерзавца».
Прокурор Стращалов – одна брючина загнулась выше голенища, в бороде хвоя, сор, зеленые, чуть раскосые, навыкате глаза горят по-безумному, длинные нечесаные волосищи, как поседевшая грива льва, – прокурор Стращалов, вытянувшись во весь рост, тряс пред Прохором кулаками, рубил ладонью воздух, говорил, кричал, топал ногами. Или медленно топтался взад-вперед, рассказывал жуткую историю.
Разбойники слушали прокурора, разинув рты. Ибрагим и Прохор Петрович тоже ловили каждое его слово с возбужденным упоением. Пред черкесом и Прохором реяли, как туманные сны, былые проведенные вместе годы. Все люди, окружавшие их пятнадцать лет тому назад, в ярких речах прокурора теперь выплыли из хаоса времен, восстали из тлена, как живые. Анфиса, Петр Данилыч, пристав, Нина, Ибрагим – вот они здесь, вот столпились они вокруг костров и, как бы соединенные пуповиной с прокурором, внимают гулу его голоса.
XIII
– Я, кажется, довольно подробно изложил всю суть этого кровавого дела. Теперь я, прокурор Стращалов, спрашиваю: это вы пятнадцать лет тому назад убили Анфису?
Вонзив взгляд в землю, Прохор напряженнейше молчал. В его униженной душе зрел взрыв негодующей ненависти к прокурору. По-турецки сидевший у костра Ибрагим-Оглы пустил слюну любопытного внимания, как перед жирным куском мяса старый дог.
– Я жду от вас ответа, подсудимый. Здесь неподкупный суд...
– Не паясничай, фигляр! – крикнул Прохор и гневно встал. С надменным презрением он взглянул на прокурора, как на последнее ничтожество. Угнетенный разум его, подстегнутый горячею волною крови, резко вспыхнул. Мысль, как мяч от стены, перебросилась в прошлое. Он заговорил быстро, взахлеб, то спотыкаясь на словах, как на кочках, то вяло шевеля языком, как в грузных калошах параличными ногами. Голос его звучал угрожающе или вдруг сдавал, становился дряблым, слезливым.
– Я знаю, прокурор, для чего ты здесь, с этими висельниками. Знаю, знаю. Чтоб насладиться моей смертью? Бей, убивай! Ты этим каторжникам ловко рассказывал басню о том, как и почему будто бы я убил Анфису... Ха-ха!.. Занятно! Что ж, по-твоему – я только уголовный преступник и больше ничего? Осел ты...
Сидевший на пне прокурор Стращалов сначала сердито улыбался, потом лицо его, заросшее бородой почти до глаз, стало холодным и мрачным, как погреб.
– Молчите, убийца!.. Я лишаю вас слова...
– Врешь, прокурор! Тут тебе не зал суда. Слушай дальше. Допустим, что убил Анфису я. Но ты знаешь ли, господин прокурор...
– Довольно! – вскочив, взмахнул рукой прокурор и обернулся к разбойникам. – Слышите, ребята? Он сознался в убийстве.
– Нет, врешь! Не сознался еще, – встряхнул головой, ударил кулак в кулак Прохор Петрович.
– А нам наплевать! – закричали у костров воры-разбойники. – Нам хоть десять Анфисов убей, мало горя... Мы и сами... А вот пошто он, гад ползучий, нашего черкеса под обух подвел? Вот это самое... Всю вину свалил на него, суд подкупил...
– Да, свалил... Да, подкупил, не спорю. Свалил потому, что передо мною были широкие возможности. Я чувствовал, что мне дано многое свершить на земле. И я многое кой-чего на своем веку сделал, настроил заводов, кормлю тысячи людей... А Ибрагиму, бывалому каторжнику, разве каторга страшна? Я знал, что он все равно сбежит. И он сбежал...
Прохор говорил долго, путано. Речь его стремилась, как поток в камнях. Струи мыслей без всякой связи перескакивали с предмета на предмет. Иногда он совершенно терялся и в замешательстве тер вспотевший, с набухшими жилами лоб.
Разбойники, поплевывая, курили, переглядывались.
– Значит, сознаешься в убийстве, преступник?
– Нет.
– Нет?
– Нет! Не зови меня преступником! – вскипел, озлобился Прохор. – Ты сам – преступник. Ты от рождения дурак и только по глупости своей считаешь себя умным... Темный ты человек! – продолжал выкрикивать Прохор, наступая на Стращалова. – Ты не подумал тогда, кого ты обвинял. Ведь я был мальчишкой тогда, мой характер еще только складывался. А ты не понял этого, ты отнесся ко мне по-дураковски, как мясник к барану... И еще... Стой, стой, дай мне!.. Что же еще? Ты осудил меня, невинного, теперь я, преступник, сужу тебя, виновного. Меня убьют здесь, но я рад, что встретился с тобой. А ты разве знаешь, каким я был в молодости? Я неплохим был. Ибрагим мог бы тебе это подтвердить. Но... Я вижу, каким лютым зверем он смотрит на меня. Ну, что ж... Валяйте, сволочи! Да, я убил Анфису, я... – Обессиленный Прохор Петрович задрожал и покачнулся.
– Смерть, смерть ему! – загудела взволнованная тьма, заорали во всю грудь разбойники.
– Смерть собаке... Пехтерь, валяй!..
Оглушительный раздался свист. То свистел, распялив губы пальцами, рыжебородый раскоряка. У него длинное туловище и короткие, дугою, ноги. На чумазом лице – белые огромные глаза. Это бежавший с Ибрагимом каторжник Пехтерь; он – правая рука черкеса. Он свиреп, он любит командовать. Его все боятся.
– Нагибай! – приказал он, взмахнув кривым ножом.
Разбойники, хрустя буреломом, подбежали к двум молодым елкам, зачалили их вершины арканами и с песней «Эй, дубинушка, ухни!» нагнули обе вершины одна к другой.
– Чисти сучья!
Заработали топоры, оголяя стволы елей. Пряно запахло смолой. По восьми человек налегли внатуг на вершины согнутых в дугу дерев, кряхтели: в упругих елках много живой силы, елки вот-вот вырвутся, подбросят оплошавшего к небу.
– Подводи! Готовь веревки!
Прохора подволокли к елям.
– Мерзавцы, что вы делаете! Я знаю! Это сон... Илья! Разбуди меня! Ферапонт! Ибрагим! Нина! Нина! Нина!
Последний крик Прохора жуток, пронзителен: мрак от этого крика дрогнул, и сердца многих остановились.
Но мстящие руки крепко прикручивали ноги Прохора к вершинам двух елей. В кожу лакированного сапога въелся аркан, как мертвая волчья хватка: костям было больно. Над левой ногой трудился Пехтерь с кривым ножом в зубах. Его грубые лапищи работали быстро.
Поверженный на землю, Прохор хрипел от униженья. Он ничего не говорил, он только мычал, плевался слюною и желчью. Жажда одолевала его.
В резком свете сознания он представил себе свое надвое разорванное, от паха до глотки, тело: половина бывшего Прохора с одной ногой, с одной рукой, без головы, болтается на вершине взмывшей в небо елки; другая половина с второй рукой, с второй ногой и с бородатой головой корчится на вершине соседнего дерева; пролетающий филин прожорно уцапал кишку, и тянет, и тянет; сердце все еще бьется, мертвый язык дрожит.
– Крепче держи! Держи елки, не пущай! – командует Пехтерь, по зажатому в зубах кривому ножу течет слюна, капает на лакированный сапог Прохора.
Разбойные люди еще сильней наваливаются внатуг на кряхтящие ели:
– Держи, держи! Эй, Стращалка! Вычитывай приговор... Чтобы хворменно...
Но Стращалова нет. Стращалов, гонимый страхом, заткнул уши, чтоб ничего не слышать, ничего не видеть, поспешно бежит вдаль, в тьму.
– Стращалов! Стращалов!!
Нет Стращалова.
– Я Стращал! – И пламенный Ибрагим быстро подходит с кинжалом к обреченному Прохору.
Униженный, распятый, Прохор с раскинутыми к вершинам елок ногами еще за минуту до этого хотел просить у черкеса пощады. Теперь он встретил его враждебным взглядом, плюнул в его сторону и сквозь прорвавшийся злобный свой всхлип прошипел: «Мерзавец, кончай!»
– Пущать, что ли? – с пыхтеньем нетерпеливо прокричали разбойники: им невмоготу больше сдерживать силу согнутых елок.
– Геть! Стой!! – Черкес враз превратился в сталь. Зубы стиснуты, в сильной руке крепко зажат кинжал, взгляд неотрывно влип в глаза Прохора. Разбойники замерли. Замер и Прохор. Мгновенье – и Прохору до жути стало жаль жизни своей. «Пощади!» – хочет он крикнуть, но язык онемел, и только глаза вдруг захлебнулись слезами.
– Ребята, пущай, – прохрипел Пехтерь жутко. – Пу-щ-а-ай!!
И, за один лишь момент до погибели Прохора, резким взмахом кинжала черкес перерезал аркан:
– Цх!.. Теперича пущай.
Елки со свистом рассекли воздух.
Дрожь прошла по всему их освобожденному телу. Прохор Петрович, разминая затекшие ноги, едва встает. Он весь в нервном трясении. Пульс барабанит двести в минуту. Глаза широки, мокры, безумны.
Черкес говорит:
– Езжай, Прошка, домой... Гуляй! Теперича твоя еще рано убивать. Када-нибудь будэм рэзать после. Адна пустяк. Цх!..
Ночь длилась. Разбойники недовольно гудели. Кто-то зло всхохотал, кто-то кольнул Ибрагима: «Вислоухий ишак, раззява!» Пехтерь, сунув за голенище кривой нож, тихомолком матерился.
Парень, ямщик Савоська, весь бледный, словно обсыпанный мукой, пробирался с Прохором к тройке. Их вел с фонарем бельмастый варнак. Варнаку дан строгий приказ: чтоб Прохор Петрович был цел-невредим.
Лишь только возвратилось к Прохору сознание, он почувствовал себя с ног до головы как бы обгаженным мерзостью. Ярко, в самых глубинах души, он запомнил слова Ибрагима, запомнил внезапную великодушную милость его. И вместо благодарности за дарованную жизнь в его груди растеклась черным дегтем жажда неукротимой ненависти к черкесу. Месть, месть нечеловеческая, какой не знает свет! Прохор никем еще не был так ужасно унижен, он никогда в жизни не казался таким беспомощным, жалким, смешным, как час тому назад. Смешным!.. Смешным, жалким, над которым хохотало во все горло это человеческое отребье, эти сорвавшиеся с петли каторжники. Над кем издевались? Над ним, над Прохором Громовым, над властным владельцем богатств... Нет, это выше всяких сил!
Мрачный Прохор, не чувствуя пути, не видя свету, пер тайгою напролом.
– Пить... Вина... стакан вина, – хрипло бормотал он, облизывая сухие, как вата, губы. Пошарил по карманам. Пузырька с кокаином не было: обронил в тайге. Плюнул.
Бельмастый разбойник сказал:
– Счастливо оставаться... До приятного виданьица. – И ушел.
Правая пристяжка, напоровшаяся ночью на разбойничий залом, издохла. Ямщик Савоська скосоротился, заплакал над павшей лошадью. Прохор порывисто вытащил бутылку водки, задрал бороду, залпом перелил вино в себя. Со всех сил ударил бутылкой в дерево, бутылка рассыпалась в соль.
Перепрягая лошадей, Савоська все еще поскуливал:
– Как я батьке-то покажусь... Лошадь поколела. Ой, что я делать-то буду?.. Ой, мамынька!
Только тут Прохор во второй раз заметил его.
– Молчи! – крикнул он, и судорога скрючила пальцы его рук. – Я помню, я помню, негодяй, как ты хохотал там.
Савоська выронил дугу и сказал, дергаясь всем горестным лицом:
– Я ржал от жути. Ведь тебя ж напополам разорвать ладили... – Лицо его вытянулось, будто парень вновь увидал разбойников, а подбородок опять запрыгал. – Ой, что же я батьке-то скажу?
– Ничего не скажешь. Я тебя в дороге кончу, – выпуская ноздрями воздух, чуть слышно буркнул в бороду Прохор. – Запрягай!
Мрак стал жиже; он синел, голубел, хоронился в ущельях. Полоса предутреннего неба тянулась над дорогою. Из разбойной балки сквознячком несло. Где-то прокаркала охрипшая ворона. В ушах Прохора липкий звучал мотивчик:
Нет, нет, не пойду,
Лучше дома я умру...
Ехали назад, в обратную. Прохор скрючился и захрапел. Ехали все утро и весь день без остановки.
Поздно темным вечером кой-кто видел, как похожий на Прохора человек бежит поселком простоволосый, бормочет на бегу, оглядывается, размахивает руками.
– Это я. Открой скорей!.. – ломился Прохор в квартиру исправника.
– Батюшки! Прохор Петрович... Что стряслось?
Прохор засунул окровавленные руки в карманы (забыл их вымыть) и, запинаясь, пробубнил:
– Было нападение... Ибрагим... Был в лапах у него. Семьдесят пять верст. Вырвался. Лошадь убита там. А потом нас опять нагнали. Здесь. Под самым поселком... Савоська убит... Ямщик. Обухом по голове. В меня стреляли. Неужто не слыхал?
– Где?
– Здесь... В лесу. В трех верстах. Десять тысяч даю.
Заработали телефоны. Чрез полчаса с полсотни всадников, под начальством исправника Амбреева, мчались за околицу ловить злодеев.
За Прохором приехал посланный Ниной кучер. Прохора уложили. Нина вся содрогалась. Прохор бормотал:
– Я не люблю свидетелей. Я не люблю свидетелей. Я их могу убить...
Нина приняла его бред на свой счет. Из глаз ее потекли слезы. К голове больного доктор прикладывал лед, ставил кровососные банки на спину.
В час ночи явился к Нине вызванный ею исправник. Рассказал про визит к нему Прохора.
– Прохор Петрович был тогда потрясен, – говорил исправник взволнованно, он весь пыльный, потный, прямо с дороги. – Ну-с... Объехали мы на десять верст окрестность. Никого. Ни разбойников, ни убитого ямщика, ни тройки. Ну-с... Вернулись домой. Я – к ямщику. Глядь – убитый Савоська дрыхнет дома в холодке в хомутецкой. Разбудил. Допросил... Ну-с... И, представьте, что он мне поведал!..
Исправник стал подробно пересказывать показания Савоськи.
– Ну-с. Прохора Петровича мучители подтащили к деревьям, чтоб разорвать его надвое. Вы понимаете, какая жуть?..
Исправник вдруг вскочил и едва успел подхватить падавшую с кресла Нину.







