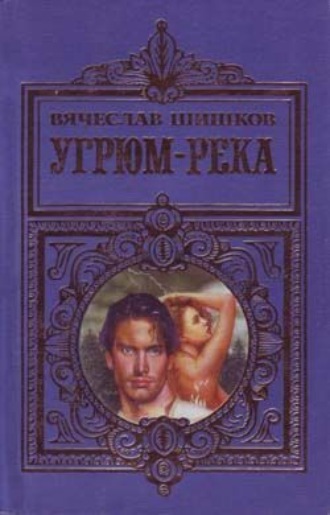
Вячеслав Шишков
Угрюм-река
XX
Первая узнала об этом потрясучая Клюка.
– Иду я, светик мой, мимо ее дома, царство ей небесное, глядь – что за оказия такая: в небе Христово солнышко стоит, а в открытом оконце у Анфисы свет, незагашенная лампа полыхает. Окроме этого оконца, все ставни заперты. Я кой-как, кой-как перелезла в сад, кричу: «Анфиса, Анфиса!» Ни вздыху, ни послушания. И пади мне в ум, уж не громучей ли стрелой из тучи грянуло. Кой-как, кой-как вскарабкалась я на фунтамен, да в окошко-то возьми и загляни. Господи ты Боже мой! И лежит моя красавица на полу, белы рученьки раскинуты поврозь, ясны глазыньки закрытые, бровушки соболиные этак по-отчаянному сдвинулись... Вот тебе Христос!.. А во лбу-то дырка невеликонька, и кровь через висок да на пол... Вот ей-Боженьки, не вру, истинная правда все, ей-богу вот! А громучей стрелы не видать нигде, только стульчик опрокинутый и бархатное сиденьице вывалилось, наособицу лежит. Я, грешница, как всплеснула рученьками, да так на землю и кувыркнулась... Убил мою горемыку праведный Господь, громучей стрелой убил и душу вынул. Вот, господин урядник, весь и сказ мой, вот...
Урядник проворно умылся, выпил наскоро чайку и – к приставу.
– Вашескородие!.. Имею честь доложить: мадам Козырева сегодняшней ночью убита при посредстве грозы в висок.
По селу Медведеву, от двора к двору шлялась-шмыгала потрясучая Клюка. Проскрипит под окном:
– Хрещеные! Анфису громом убило, – и, спотыкаясь, дальше.
А мальчишки, не расслышав, кричали:
– Анфису Громов убил!.. Анфису убили... Айда! – и неслись к Анфисиному дому.
Туда же спешил и пристав с местными властями. Церковный сторож благовестил к обедне. Отец Ипат, торопясь догнать начальство, крикнул на колокольню:
– Эй, Кузьмич, слезавай! Обедню – ша! К Господу! – и помахал рукой.
Сначала осмотрели открытое окно со стороны сада.
– Какая же это гроза?.. Это, наверно, из ружья гроза... – зло покашливая и пожимая плечами, говорил сутулый чахоточный учитель, Пантелеймон Рощин, приглашенный в понятые.
– Да, да. Факт... Скорей всего... – плохо соображая, согласился пристав; давно не бритое лицо его бледно, он, ежась, горбился, наваченная грудь нескладно топорщилась, болел живот.
Кузнец отпер отмычкой двери. Безжизненная, темная тишина в дому. Открыли ставни. Стало светло и солнечно. Зевак и мальчишек отогнали прочь.
Увидав труп Анфисы, пристав попятился, прикрыл глаза вскинутой ладонью – на солнце бриллиантик в перстне засиял, – затем присел к столу, махнул десятскому:
– Мне бы воды... Холодной.
Анфиса лежала в лучшем своем наряде: голубой из шелку русский сарафан, кисейная рубашка, на плечи накинут парчовый душегрей, на голове кокошник в бисере, во лбу, ближе к левому виску – рана и темной струйкой запекшаяся кровь.
Отец Ипат творил пред образом усердно молитву и все озирался на усопшую. Лицо его одрябло, потекло вниз, как сдобное тесто.
– Помяни, Господи, рабу твою Анфису, в оный покой отошедшую. Господи! Ежели не ты запечатал уста ее, укажи убийцу, яко благ еси и мудр...
Следователя не было – он уехал на охоту в дальнюю заимку, – за ним поскакал нарочный.
– Прошу, согласно инструкции, ничего не шевелить до следователя, – официально сказал пришедший в себя пристав.
Чиновные крестьяне тоже крестились вслед за батюшкой, вздыхали, жалеючи, покашивались на покойницу. За ночь в открытое окно налило дождя, по полу во все стороны дождевые ручейки прошли. Зоркие, ныряющие во все места глаза учителя задержались на скомканной в пробку, обгорелой бумаге. Он сказал приставу:
– Без сомнения, это из ружья пыж.
Пристав, посапывая, несколько согнулся над пробкой, проговорил:
– Факт... Пыж... – и голос его, как картон, не жесткий и не дряблый: хрупкий.
Пристав полицейского дознания не производил: завтра должен приехать следователь. Значит, можно по домам.
Чиновные крестьяне опять покрестились в передний угол, вздохнули и пошли.
– До свиданьица, Анфиса Петровна... Теперича полеживай спокойно. Отстрадалась. Ах, ах, ах!.. И кто же это мог убить?
Ставни закрыли, дверь заперли, припечатали казенной печатью. Шипящий, с пламенем, сургуч капнул приставу на руку. Пристав боли не ощутил и капли той даже не заметил. К дому убитой десятский нарядил караул из двух крестьян.
Пристав возвращался к себе один. Он пошатывался, спотыкался на ровном месте, ноги шли сами по себе, не замечая дороги. Часто вынимая платок, встряхивал его, прикладывал к глазам, крякал. Дома сказал жене:
– Анфиса Петровна умерла насильственной смертью. Дай мне вот это... как его... только сухое... – и, скомкав мокрый платок, с отчаянием бросил его на пол.
После крупного, во время грозы, разговора с сыном Петр Данилыч от неприятности напился вдрызг. Он не пил больше недели, и вот вино сразу сбороло его – упал на пол и заснул. Илья Сохатых подложил под его голову подушку, а возле головы поставил на всякий случай таз.
Петр Данилыч до сих пор еще почивает в неведенье. Спит и Прохор.
Ибрагим тоже почему-то не в меру заспался сегодня. Его разбудил урядник.
– Ты арестован, – сказал он Ибрагиму и увел его.
Илья Сохатых разбудил Прохора. Когда Прохор пришел в чувство, Илья вынул шелковый розовый платочек, помигал, состроил скорбную гримасу и отер глаза.
– Анфиса Петровна приказала долго жить.
– Ну?! – резко привстал под одеялом Прохор. – Обалдел ты?!
– Извольте убедиться лично, – еще сильнее заморгал Илья и вновь отерся розовым платочком.
Прохор вытаращил глаза и, сбросив одеяло, быстро свесил ноги.
– Ежели врешь, я тебе, сукину сыну, все зубы выну... Где отец?
– Спят-с...
– Убита или ранена?
– Наповал злодей убил-с...
– Кто?
– Аллаху одному известно-с... Ах, если б вы знали, до чего... до чего... до чего я...
– Буди отца... Где Ибрагим?
– Арестован...
– Буди отца!! – с каким-то слезливым придыханьем прокричал Прохор. Руки его тряслись. Он принял валерьянки, поморщился, накапал еще, выпил, накапал еще, выпил, упал на кровать, забился головою под подушку и по-звериному тяжко застонал.
– Петр Данилыч!.. Петр Данилыч, да вставайте же... – тормошил Илья хозяина. Тот взмыкивал, хрипел, плевался. – Да очнитесь Бога ради!.. Великое несчастье у нас... Анфиса Петровна умерла.
– Что, что? Где пожар?! – оторвал хозяин от подушки отуманенную водкой голову свою.
– Пожара, будьте столь любезны, нет, а убили Анфису Петровну. Из ружья... в их доме...
– Убили? Анфи...
Хозяин перекосил рот, вздрогнул, какая-то сила подбросила его. Правый глаз закрылся, левый был вытаращен, бессмыслен, страшен, мертв.
– Хозяин! Петр Данилыч!.. – закричал Илья и выбежал из комнаты.
Перекладывали хозяина с пола на пуховую кровать кухарка, Прохор и Илья. У Петра Данилыча не открывался правый глаз, отнялась правая рука с ногой, и речь его походила на мычание.
Илья заперся в своей комнате, на коленях усерднейше молился:
– Упокой, Господи, рабу Божию Анфису... Со святыми упокой!.. – Сердце же его радовалось: хозяин обязательно должен умереть, – значит, Марья Кирилловна, Маша овдовеет. – Дивны дела твои, Господи! – бил в грудь веснушчатым кулачком своим Илья, стукался обкудрявленным лбом в землю. – Благодарю тебя, Господи, за великие милости твои ко мне... Вечная память, вечная память...
XXI
Следователь, Иван Иваныч Голубев, приехал к вечеру. Он невысокий, сухой старик с энергичным лицом в седой, мужиковской бороде, говорит крепко, повелительно, однако может прикинуться и ласковой лисой, к спиртным напиткам имеет большую склонность, как и прочие обитатели сих мест. Он простудился на охоте и чувствовал себя не совсем здоровым: побаливала голова, скучала поясница.
Тотчас же началось так называемое предварительное следствие.
Анфису Петровну посадили к окну на стул, локти ее поставили на подоконник. Анфиса не сопротивлялась. Бледно-матовое лицо ее – мудреное и мудрое. Анфиса рада снова заглянуть в свой зеленеющий сад, не в тьму, не в гром, а в сад, озлащенный веселым солнцем, – но земная голова ее валилась. Голову стали придерживать чужие, чьи-то нелюбимые ладони, Анфиса брезгливо повела бровью, но ни крика, ни сопротивления – Анфиса покорилась.
К ране на лбу приложили конец шнура и протянули шнур дальше, в сад, чтобы определить примерный рост убийцы и с какого пункта произведен был выстрел.
– Так подсказывает логика, – пояснил следователь.
Тут вышла малая заминка: незыблемая логика лопнула, застряла между гряд. Следователь встал на гряду, в то место, куда привели его логика и шнур, и прицелился из ружья Анфисе в лоб.
– Да, – и он раздумчиво почесал горбинку носа. – При моем росте – с гряды как раз. А ежели разбойник значительно выше меня, он мог и из-за гряды стрелять. Да.
Земля на соседних грядах по направлению к забору подозрительно примята, но ливень смыл следы.
– Убийство произошло до ливня, во время ливня, но ни в каком случае не после, – уверенно сказал следователь, и все согласились с ним.
Следователь записал в книжку краткое: «Сапоги».
Определили, где перелезал злодей через забор: присох к доскам посеревший за день чернозем, видны царапины от каблуков. Вернулись в дом.
– Завтра утречком придется череп вскрыть, пулю вынуть, – приказал следователь фельдшеру Спиглазову, заменявшему врача.
Учитель обратил внимание следователя на валявшийся пыж.
– Знаю, знаю, – поморщился следователь; легонько вскрикнув и хватаясь за поясницу, он нагнулся, поднял бумажную пробку, внимательно осмотрел ее и стал осторожно развертывать. – Удивительно, как пыж мог влететь сюда. Очевидно... туго сидел в стволе...
Желтое, сухое лицо учителя покрылось пятнами.
– Газета, – сказал следователь, – оторванный угол от газеты. Урядник! Кто выписывает «Русское слово»?
– Громовы! – с радостной готовностью прокричал учитель.
– Так точно, господин следователь, Громовы! – учтиво стукнул урядник каблук в каблук.
Следователь записал: «Уголок газеты». Пошли к Громовым. Дорогой один из крестьян сказал следователю:
– Тут к ней, к покойнице, вашескородие, еще один человечек хаживал, царство ей небесное...
– К покойнице или к живой?
– Никак нет, к живой... Шапкин... У него имеется ружье. И газеты читает...
Следователь кратко записал на ходу: «Ш. руж.». У Громовых расположились почему-то в кухне. Хозяев не было, одна кухарка. Как только сели за кухонный артельный стол, Варвара сразу же заплакала.
– Не плачь, – успокоил ее следователь. – А лучше скажи, когда вчерашней ночью пришел домой Ибрагим-Оглы?
– А я, конешно, не приметила, когда... Я уже после грозы легла, уж небушко утихать стало... Его все не было.
– А когда вернулся Прохор Петрович?
– Не приметила. Только что они ночью кушали шибко много щей с кашей да баранины. Потом ушли к Илье.
Илья Сохатых давал показания сначала бодро, отставив правую ногу и легкомысленно заложив руку в карман.
– Ибрагим, по всей вероятности, прибыл к месту нахождения перед рассветом. Ночью мы с Прохором Петровичем заглядывали к нему, но обнаружения в ясной видимости не оказалось.
– Говорите проще. В чем Прохор Петрович был обут?
– В пимах-с, в валенках-с. Потом они вертоузили на гитаре, конечно.
– Не пришлось ли вам вчерашней ночью или сегодня утром мыть чьи-нибудь грязные сапоги?
– Нет-с... Как перед Богом-с.
– Умеете ли вы стрелять из ружья?
– Оборони Бог-с... Как огня боюсь... Когда Прохор Петрович производит выстрелы на охоте, я затыкаю уши. Например, вчера...
– Не приходилось ли вам стрелять когда-нибудь из собственного револьвера в цель? В лопату, например?
– Никак нет-с... Впрочем, обзирая прошлые события, да, стрелял-с...
– Принесите револьвер...
Прохор лежал в кровати. На голове компресс. Фельдшер удостоверил его болезнь.
– Давно ли хвораете? – присел следователь на стул.
– Давно... Поправился, а потом опять... Меня лечил городской врач.
– Знаю... – Следователь пыхнул дымом папироски, подъехал со стулом вплотную к Прохору и, пристально глядя в его глаза, со скрытой какой-то подковырочкой раздельно произнес:
– А не убили ль вы вчера... – и задержался.
Прохор сорвал с головы компресс и порывисто вскочил.
– Что? Кого?.. Вы что хотите сказать?..
– Лежите, лежите... Вам волноваться вредно, – ласково проговорил следователь, мельком переглянулся с учителем и приставом и положил свою руку на дрожавшее колено Прохора. – Вы думали – я про Анфису Петровну? Что вы, Прохор Петрович, в уме ли вы? Я про охоту... Вчера, днем, с Ильей Сохатых... Убили что-нибудь в поле, или ружьецо у вас чистое?..
– Вряд ли чистое... Я стрелял, убил утку, но не нашел...
– Так-с, так-с... Убили, но не нашли... Урядник, подай сюда ружье Прохора Петровича.
Пристав дословно все записывал, его перо работало непослушно, вспотычку, кое-как.
Следователь привычной рукой охотника переломил в затворе ружье и рассматривал стволы на свет.
– Да, ружьецо добро... Льеж... Стволы дамасские, один ствол чокборн... Копоть свежа, вчерашняя, тухлым яичком пахнет... А почему ж копоть в том и другом стволе? Ведь вы ж один раз стреляли?
– Один, впрочем, два... Мне трудно припомнить теперь... Голова...
Следователь достал из-под кровати сапог с длинным голенищем.
– Почему чистые сапоги? Кто мыл?
– Сам... Впрочем... Да, да, сам.
– Вы переобулись в пимы после охоты или же после того, как вчерашней ночью вернулись из сада Анфисы Петровны? – старался следователь поймать его на слове.
– После охоты, конечно, – с испугом сказал Прохор. – Да, да, после охоты, – добавил он и приподнялся на локте. – А все-таки странно.
– Что странно?
– Вы сбиваете меня... Что за... за... наглость? – Он лег, закрыл глаза и положил широкую ладонь свою на лоб. Пальцы его руки вздрагивали, в спокойном на вид, но все же обиженном лице волнами ходила кровь: лицо и бледнело и краснело.
Вполне довольный своей игрой, следователь сглотнул слюни, как пьяница пред рюмкой водки, и ласково проговорил:
– А почему? Ведь вот почему я вас про сапоги спросил: на одной из гряд в саду Анфисы Петровны восемь гвоздиков вот этих отпечаталось, что в каблуке. Не угодно ли взглянуть? – И следователь, постукивая по каблуку карандашом, поднес сапог к самому носу Прохора.
Тот открыл обозленные глаза, оттолкнул сапог и в лицо следователя крикнул:
– Убирайтесь к черту! Я не был там...
– Фельдшер! – крикнул и следователь. – Дайте ему успокоительного. А мы пока к хозяину заглянем. – Следователь чувствовал, что с каблуками немножечко переборщил, и на этот раз остался собою недоволен.
Петр Данилыч замахал на вошедших рукой и злобно что-то замычал, пошевеливаясь на кровати всем грузным телом.
Удостоверились в его болезни, в возможной причине ее и вернулись в комнату Прохора. Илья Сохатых терся тут же, ко всему прислушивался, двигал усиленно бровями, творил тайную молитву; в его руках – маленький старинный револьвер.
Прохор демонстративно лежал теперь лицом к стене.
Следователь заговорил, глядя ему в затылок:
– Ну вот, Прохор Петрович, весь допросик и закончился. Пока, конечно... Пока. Вы спите, нет? Вот что я хотел спросить... Мне бы надо позаимствовать у вас дюжинки две пыжей. У вас, наверное, и картонные и войлочные есть? Или все вышли? Может быть, пыжи из бумаги делаете?
– Илья! Дай им пыжей две дюжины... – все так же лежа лицом к стене, приказал Прохор.
Следователь взглянул на две жестянки пыжей, услужливо предъявленных ему Ильей Сохатых, и то, что пыжи нашлись в запасах Прохора, следователю было тоже не совсем приятно.
– И еще знаете что? – привстал на цыпочки и опустился следователь. – Одолжите на денечек номерка два-три «Русского слова» почитать... Где у вас газеты? Не в этом шкапчике? – Он открыл стеклянный шкаф и вытащил ворох газет.
Прохор молчал. Следователь подошел к нему, сказал официально, сухо:
– Теперь потрудитесь повернуться к следователю лицом. Вот видите ли, – продолжал он, тыча в верхний лист газеты, – тут уголок оторван. Не можете ли сказать, куда делся уголок?
– Мало ли куда? Ну, мало ли куда... Я не припомню... – смущенно пролепетал Прохор; его глаза бегали по лицам присутствующих, как бы ища поддержки.
– Извините великодушно, – выступил Илья Сохатых, держа руки по швам. – Этим уголочком я попользовался, будучи «до ветру», когда шел.
– Вы это крепко помните? – строго спросил его следователь. – Ежели этот уголок оторвали вы, то я сейчас же прикажу вас арестовать!
Илья Сохатых отступил на шаг, лицо его вытянулось ужасом, он всплеснул руками и воскликнул:
– Господин следователь! Ради Бога!.. За что же это?
– А вот за что... – Следователь вынул из портфеля прожженный в нескольких местах, смятый кусок газеты и приложил его к оборванному газетному листу. – Вот за что. Этот кусок найден в комнате, где убита была Козырева, этим куском был запыжен выстрел убийцы.
– Господин следователь! – И обомлевший приказчик повалился суровому старику в ноги. – Ей-богу, я не отсюда вырвал, ей-богу!.. Я вырвал на масленице, в прошлом году еще... Я...
– Наврал? – И следователь приказал Илье подняться.
– Наврал, так точно... Наврал, наврал. Черт подтолкнул меня...
– Молодого хозяина выгородить хотел?
– Так точно. Да.
Следователь дружески подмигнул приказчику, откашлялся и плюнул за окно.
– Ну, до свиданья, Прохор Петрович, – пожал он руку Прохора. – Ого! А ручка-то горячая у вас. Поправляйтесь, поправляйтесь. Десятский! Останешься при больном. А вы, господин Громов, пожалуйста – никуда, посидите дома денечка три-четыре. Пожалуйста. – Он вложил в портфель номер газеты, угол которой был оторван, и двинулся к выходу. От дверей сказал сухо:
– А я вам, господин Громов, серьезнейшим образом рекомендую вспомнить об этом клочке бумаги, о пыже. О сапогах тоже. Почему именно вы, вы, а не кухарка, отмыли на сапогах грязь с огородных гряд?
– Газету мог оторвать и Ибрагим-Оглы, – вяло проговорил Прохор, следя взглядом за ползущей по стене мокрицей.
– Не спорю, не спорю, – быстро согласился следователь. – Папаша мог газету взять, мамаша могла взять, кухарка могла. Меня интересует, в сущности, не это, – следователь тоже взглянул на мокрицу – мокрица упала. – Мне интересно знать, кто вогнал из этого клочочка пыж в ружье, кто Анфису Козыреву убил? – пристукнул он два раза по портфелю кулаком. – Ну, да мы помаленьку разберемся. До свиданья, господин Громов.
И все ушли.
Взволнованный, пораженный событиями, измученный допросом, Прохор лежал молча битый час. Потом, призвав Илью, приказал ему немедленно же ехать с известием к Марье Кирилловне и в город за доктором. Потом прошел к болевшему отцу, а к вечеру действительно занемог, свалился.
Следственная же комиссия от Громовых завернула к Шапошникову, завернула попутно, «для проформы», потому что опытный следователь почти был убежден, кто всамделишный преступник.
Заплеванный, с распухшим сизым носом и подбитым глазом, Шапошников лежал на кровати, привязанный холщовыми ручниками к железной, вбитой в стену скобке. Он встретил пришедших всяческой бранью, плевками, гнал всех вон, плел несусветимую ахинею.
Хозяин избы Андрон Титов сказал следователю:
– Связать пришлось: вроде помрачения ума, вроде как мозга ослабла у него, у Шапкина-то. Две недели, почитай, без передыху пил. Потом, вижу, пошаливать начал, вижу, в речах сбивается, нырка дает. А сегодня пришел к нему, гляжу – он печурку разжег и варит щи в деревянной шайке. Опрокинул я щи, а там беличье чучело лежит, куделей набитое. А он кричит на меня: «Отдай говядину! Отдай говядину!» А так он парень хороший, смирный. И ума палата. Все науки превзошел... Вчерашнюю ночь никуда не отлучался...
При больном оставили фельдшера Спиглазова. Он дал больному успокоительных капель, развязал его, напоил чаем. Шапошников спокойно уснул – первый раз за две недели.
К ружьям Прохора, Ибрагима-Оглы и револьверу Ильи Сохатых следственная комиссия присоединила для порядка и ружье Шапошникова.
В селе Медведеве коротали срок ссылки еще восемь политических. Хотя Шапошников, замкнутый и сосредоточенный, с ними дружбы не водил, однако двое из них, узнав о болезни товарища, пришли навестить его.
Сестра Марьи Кирилловны, Степанида Кирилловна, стала неожиданно поправляться. Благочестивая Марья Кирилловна относила это к Божьему благоволению и собиралась дня через два ехать восвояси. Но радости в сердце не было: дряблое, больное ее сердце томительно скучало, тонуло в безотчетно надвигавшемся на нее страхе. Животный этот страх усилился, окреп прошедшей ночью. Как стала погасать гроза, Марья Кирилловна уснула. Видела во сне: она голая, голый Прохор, голая Анфиса. Их оголил какой-то зверь, только нет у того зверя ни имени, ни вида. И грозный голос твердил ей в уши: «Кольцо, кольцо». С тем проснулась.
А поздним вечером, уже спать хотела лечь она, бубенчики забрякали, пара коней катила по дороге.
«Кто таков? Уж не от нас ли?»
Так и есть: Илья.
Ласково Илья со всеми поздровался, даже до болящей Степаниде со льстивыми речами подошел, Марью же Кирилловну совсем по-благородному чмокнул в ручку. Марья Кирилловна растерялась, сконфузилась, и, по-своему читая веселое лицо Ильи, спросила спокойно:
– Слава ли Богу у нас, Илюшенька? За мной, что ли? Ишь надушился как...
– Разрешите, Марья Кирилловна, по дорожке пройтись, с глазу на глаз чтобы, одно маленькое дельце есть.
– Дорожки теперь грязные, а пойдем в другую комнату.
Вошли. Марья Кирилловна сыпала про близких своих вопросы, он молчал. Дом был хороший, на городской манер. Илья притворил дверь, с приятной улыбкой достал из кармана футляр с колечком, опустился на колени и, не щадя новых брюк своих, пополз на коленях, словно калека, к усевшейся в угол хозяйке.
– Марья Кирилловна, Маша! – зашептал он сдавленным голосом, его душили слезы, и, как на грех, слюна заполнила весь рот. – Маша, не обессудь, прими... – Он сперва поблестел супиром перед глазами изумленной женщины, затем ловко надел кольцо ей на палец.
Женщине было приятно отчасти и не хотелось подымать в чужом доме шуму. Отталкивая льнувшего к ней со слюнявым ртом Илью, она торопливо говорила:
– Ну, ладно, ладно... Отвяжись... Я девка, что ли, для колец для твоих?
– Мирси, мирси... – вздыхая и заламывая свои руки, с чувством сказал Илья. – И вот еще что... Выслушай, Маша, рапорт. – Он поднялся, отряхнул брюки, закинул назад чуб напомаженных кудрей, откашлялся.
– Прохор Петрович... Или даже так... – начал он, подергивая головой. – Петра Данилыча... сегодня утром...
Марья Кирилловна вскочила, поймала его руки:
– Да говори же, черт! – И топнула.
– Успокойтесь, не волнуйтесь... Все мы во власти Аллаха... Значит, вчерашней ночью Анфиса Петровна застрелена из ружья. Петра Данилыча, конечно, паралич разбил, без языка лежит. На Прохора Петровича подозрение в убийстве.
Пронзительный крик Марьи Кирилловны ошеломил Илью. Надломанно схватившись за сердце и за голову, она еле переставляла ноги по направлению к двери. У приказчика задрожали колени, и мгновенный холод прокатился по спине.
– Ради Бога, ради Бога! – бросился он вслед терявшей сознание хозяйке. – Не бойтесь... Ибрагим арестован, это он убил...
Но Марья Кирилловна вряд ли могла четко расслышать эту фразу: глаза ее мутны, мертвы; хрипя, она грузно повалилась. Илья бессильно подхватил ее и закричал:
– Скорей, скорей!.. Эй, кто там!..
Марья Кирилловна Громова скончалась.
Ночью, убитый горем и растерянный, мчался с бубенцами в город Илья Сохатых. Глаза его опухли, он то и дело плакал, сморкался прямо на дорогу, шелковый розовый платочек его чист. А в кармане, в сафьяновом футлярчике, снятое с руки усопшей кольцо-супир.
Ночью же выехала подвода в село Медведево. На телеге – прах Марьи Кирилловны во временном, наскоро сколоченном гробу.
Той же ночью фельдшер точил на оселке хирургические инструменты, чтоб завтра вскрыть труп убиенной, найти пулю – явный, указующий на убийцу перст.







