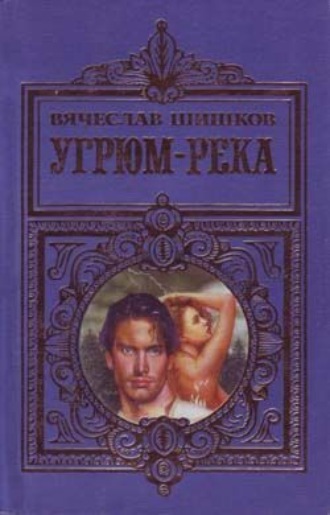
Вячеслав Шишков
Угрюм-река
– Нет, нет... Только не сейчас... Нет, нет, – звякали золотые обручи в ушах. Авдотья Фоминишна отрицательно потряхивала головой, и, чтоб не упустить бобра, она голубиным голосом проворковала: – Вы мне очень, очень нравитесь. Мне тоже ночью снился сладкий сон.
IV
Тем временем Илья Сохатых собирался праздновать день своего рождения. Он разослал по знакомым двенадцать пригласительных карточек:
«Свидетельствуя Вам и всему Вашему семейству отменное почтение, Илья Петрович Сохатых с супругой Февроньей Сидоровной приглашают Вас почтить их своим присутствием по случаю высокоторжественного дня рождения многоуважаемого Ильи Петровича Сохатых».
У него имелись также и поздравительные карточки с «Рождеством Христовым», с «Новым годом», со «Светлым Христовым воскресением». Подобные же карточки существовали и в обиходе Громовых; Прохор сотнями рассылал их по деловым знакомым всей России. Но у Прохора карточки самые обыкновенные, дешевка. У Ильи же Петровича – с золотым обрезом, с золотой короной наверху. Уж кто-кто, а Илья-то Сохатых правила высшего тона знает, у него всегда «парлеву франсе»[7] на языке.
На сей раз каверзный случай сыграл над ним трагическую шутку: завтра день рожденья, а у него все лицо горой раздуло, и глаза, как у свиньи, закрылись. Всему виной дурак дедка Нил, колдун и чертознай. Ноги ноют, опухают, застарелый ревматизм, доктора нет, фельдшер помер – к кому за помощью идти?
– А вот, сударик, – сказал ему дедка Нил, – шагай, благословясь, на пасеку, растревожь веничком пчелу, а сам разуйся и портки долой. И навалятся на голо место пчелы, нажгалят хуже некуда. И хворь как рукой.
И вот Сохатых в этакое-то время... Эх! Ведь он у хозяина на большом счету, ведь он доверенный в мануфактурной лавке, а там товару на сто тысяч, три приказчика, два мальчика. Послал Илья досматривать за торговлей свою супругу, сам весь в компрессах, а на стуле – дьякон Ферапонт.
– Я, знаете, отец дьякон, – повествует Илья, – обрадовался такому идиотскому рецепту, снял штаны с кальсонами да ну по ульям веником хвостать. Они и взвились... Я, исходя из теории, к ним задом норовлю да ноги подставляю, они на больные ноги два нуля внимания да как начали мне в морду стегать...
– Хо-хо-хо – в морду? – погромыхивал дьякон Ферапонт.
– Я, понимаете, от их щелчков прямо округовел, не знаю, куда по традиции бежать. Загнул на башку рубаху да во весь дух по лестнице домой. А там – двух девок да солдатку черт принес, девки как взвоют от голого изображения, а тут в хохот. А я уж и очами не могу взирать, оба глаза затекли... И как я не ослеп...
Дьякон раскатисто хохотал, пожирая пятый огурец, и все выпытывал у потерпевшего, не ослепли ль девки.
– Завтра день рожденья... Но это сверх возможности. А я вот что, я сделаю в дне рожденья опечатку на три дня.
Действительно, он чрез подручного разослал новые пригласительные билеты с припиской:
«Вследствие позднейших данных церковной метрики, мой день рождения имеет бытность не в понеддльник, а в четверг на той же неделе, т. е. на три дня позже».
Что ж, три дня не срок, и Прохор Петрович явился за ответом. Вместо ответа был полуответ, тире иль новый знак вопроса: тот самый «сам», зримый облик которого запечатлел на полотне искуснейший художник, задерживался на Урале дня на четыре, на пять. Она объявила это Прохору, припав пуховой грудью к его стальной груди, и притворно виноватые, но все же милые глаза ее просили снисхождения. Она сказала:
– Я постараюсь, чтоб время, проведенное в моем доме, показалось вам приятным.
Он ласково провел ладонью по ее густым рыжим волосам, закрыл и опять открыл ее глаза, всмотрелся в них, поцеловал:
– Анфиса? Нет, не Анфиса... Та совсем, совсем другая...
– Что с вами?
– Так. Прошло... – Он отмахнул назад свои черные вихры, и глубокий с хрипом вздох упал в наступившее молчание.
Был вечер. Высокая лампа под шелковым сиреневого цвета абажуром горела у стола. Воздух гостиной отдавал застоявшимся сигарным дымом. Прохор вяло спросил:
– У вас были мужчины?
– Да, вчера. Кой-кто из знакомых. Дулись в картишки. Я сейчас прикажу затопить камин...
На звонок пришла опрятно одетая горничная.
– Принесите фрукты и ликер. Затопите камин.
Прохор сидел с закрытыми глазами у стола. Мрачное настроение исподволь охватывало его, давно забытое навязчиво вспоминалось с резкой ясностью. Прохору становилось мучительно и страшно.
– Вам нездоровится?
– Нет... Так... Пьянствую все... Надо бросить.
– Подите прилягте до гостей... Будет князь Черный, граф Резвятников, еще кой-кто. Коммерции советник Буланов...
– Дайте немного коньяку.
Мадам позвонила, и резко позвонили у парадной. Вошли двое.
– Знакомьтесь... Мсье Громов, сибиряк. Лейтенант в отставке Чупрынников, статский советник Дорофеев.
Протянув руку черноусому, с брюшком, Чупрынникову, Прохор сказал:
– Я вас как будто где-то встречал...
– Не припомню, нет, – ответил тот басом и сел.
– Вы не поручик Приперентьев?
– Нимало... Ха-ха... Про такого не слыхал.
– Очень похожи, – сказал хмуро Прохор. – Дело в том, что его золотоносный участок по закону достался мне...
– Ах, вот как? Поздравляю... Ха-ха, – ответил лейтенант в отставке. – Ха-ха!.. Прекрасно. По закону, изволили сказать? Так-с.
Прохор внимательно наблюдал его, с внутренним содроганием вслушивался в его голос: «Что ж это, галлюцинация? Перестаю узнавать людей? Чего доброго, какому-нибудь обер-кондуктору нос откушу? Брошу, брошу пить, брошу». – И, противореча самому себе, он выпил стопку коньяку и потянулся к вазе за цукатами.
Лейтенант в отставке Чупрынников сидел в тени и тоже наблюдал Прохора Петровича. Статский советник Дорофеев – коротконогий, квадратный, апоплексического сложения – открыл рояль, взял несколько аккордов, затем подтянул вверх рукава темно-зеленой визитки и заиграл одну из грустных мелодий Грига.
Пришли еще двое: высокий пожилой актер драмы и вертлявая, в коротеньком, голого фасона, платьице, мадемуазель Лулу. Эта пара сразу внесла смех и общее оживление. Певица затараторила так быстро, как будто у нее четыре проворных языка:
– Послушайте, послушайте, какой скандал. Любовник прима-балерины Зизи князь Ш. влепил затрещину ее ухажеру, милому мальчику, кадетику Коко. И прелестные получены бананы, да, да, у Елисеева. У бельгийского посла вчера ощенилась сука – дог. Роды были трудные, акушеру пришлось накладывать щипцы, ха-ха, смешно... собака и... щипцы. Тенор Панов на арии «милые женщины» дал петуха, галерка свистала. Сенатору Б. в Английском клубе подменили шинель в бобрах на какой-то драный архалук.
– Ах, сибиряк? Очень, очень лестно... Вы такой же холодный, как и ваша страна?
– Да, такой же.
– Аяй, как это нехорошо. – И Лулу, как зачарованная, влипла горящим взором в бриллиант на мизинце Прохора.
– Что же, перекинемся? – с нетерпением проговорил лейтенант в отставке и прищурился в глаза хозяйки.
– Как, дорогие друзья? – спросила хозяйка. – Может быть, сначала чай?
– И то и другое... Господин Громов, вы, разумеется, играете?
– Конечно же, конечно! – ответил за него хор голосов, жадных и завистливых.
– Да, играю... – проговорил Прохор, глаза его загорелись злостью. – Мне хотелось бы сразиться с господином, с господином... – И он ткнул пальцем в черные лейтенантские усы. – Простите, с вами...
– Принимаю, принимаю, – ответили усы, радостно подкашлянув.
– Авось мне удастся оттягать у вас золотоносный участок... Вы ж сами предлагали мне эту комбинацию... Впрочем, участок и без того мой.
Левый лейтенантский ус опустился вниз, правый полез кверху, наглые глаза открывались шире, шире:
– Что вы хотите этим, милостивый государь, сказать? Господа, среди вас нет врача?
Вместо врача вошел, поводя плечами, высокий старик с надвое раскинутой седой бородой; его тугой живот весь в золотых цепях, висюльках.
– Добрый вечер, добрый вечер, – круглым старчески блеклым голосом приветствовал он на ходу гостей.
Хозяйка встала ему навстречу:
– Степан Степанович Буланов, коммерции советник. А это мой новый друг – сибиряк... Господа, прошу в столовую.
Стол богато сервирован и уставлен закусками и винами. На отдельном, с зеркальной крышкой, столике фасонистый самовар пускал пары.
– Самоварчик, дорогой мой, – блаженно закатил глаза Степан Степанович, купец. – Шумит, фырчит... Хозяюшка, а липовый медок есть к чайку? Спасибо... Да, господа, люблю все русское, все самобытное... Ведь я по убеждениям славянофил... Аксаков, Самарин, Хомяков... Да, да, кой-что и мы читали в дни юности... Ну-с, где прикажете садиться? – Купец подобрал полы сюртука и сел возле хозяйки в кресло.
Звонок телефона. Хозяйка вышла и тотчас же вернулась.
– Прохор Петрович, вас просят к телефону.
Телефон в спальне. Она плотно притворила за собою дверь, положила оголенные руки на плечи Прохора:
– Милый, дорогой, радость моя... Никто тебе не звонил... Прошу тебя, не играй по крупной.
– Я вовсе не буду играть.
– Не будешь? Почему? – И в ее прекрасных глазах промелькнула тревога. – Впрочем, да, ты прав. Тебе в карты не везет. Тебе в любви везет... – Она надолго, как спрут, впилась в его губы и, оправляя на ходу волосы, вышла..
Чай разливала горничная. Лулу хохотала, тараторила сразу с тремя гостями, чокалась, хлопала рюмку за рюмкой рябиновку, коньяк, мадеру. Купец намазал свежий огурчик медом и хрустел.
Подошли еще два франта. Гостей собралась целая застолица. И среди них, в розовом шелковом платье с искусственными незабудками у левого плеча, очаровательная Наденька. Самого пристава не было, он по делам в отъезде.
Ну что ж, причина уважительная, хотя очень жаль... И новорожденный Илья Петрович предлагает тост:
– 3а отечественного героя, знаменитого Федора Степаныча господина отдельного пристава Амбреева и вообще за русский либерализм... Урра!!
Отец Александр отсутствовал, поэтому дьякон Ферапонт, не щадя ушей собравшихся, рявкнул «ура» так, что все восторженно захохотали.
Ужин только начался. Пред каждым гостем – меню, отпечатанное в канцелярии на ремингтоне и с нарисованной пером Ильи Петровича короной.
Первым блюдом – три сорта пирогов: с капустой, с осетром и с яйцами. Вторым блюдом – пельмени а-ля Громов. Третьим блюдом – дикие утки по-бельгийски. Четвертым – какое-то крошево из оленины, сохатины, рябчиков, под названием «мясной пломбир а-ля Илья Сохатых». Потом шли кисели из облепихи, ежевики, клюквы.
– Господа! Прошу великодушно извинить, – кричал подвыпивший новорожденный. – Мороженое, как полагается в порядочных домах, теоретически не вышло, за отсутствием снега. Пожалуйте на ужин в Рождество Христово.
Дьякон подарил новорожденному собственной поковки для собаки цепь. Наденька – бисером вышитый кисет «на память». Нина Яковлевна прислала кожаный портфель с серебряной монограммой, увенчанной короной (хозяйка знала вкусы подчиненного), в портфеле поздравительная записка: «Очень извиняюсь, что лично не могу, хворает Верочка», а в записке сто рублей. Анна Иннокентьевна – три пары теплых, собственноручно связанных носков, а супруга – теплый набрюшник из заячьего меха. Илья Петрович все подарки разложил на видном месте, в переднем углу под образами.
Но самый главный дар был от насмешника-студента Образцова. Талантливый юноша, зная, что Илья Петрович завзятый любитель всяких «монстров», торжественно преподнес хозяину стариннейшую кожаную деньгу с надписью древнеславянской вязью: «О-враам адна капек». Александр Иваныч Образцов собственноручно изготовил эту редкость из ременного ушка ветхой гармошки, обкорнав его ножницами и с краев залохматив молотком. Но это ничуть не помешало ему с трогательным притворством вручить дар Илье Петровичу Сохатых.
– Монета стоит больших денег. Ей около семи тысяч лет. Времен библейского патриарха Авраама. Но она обошлась мне дешево: я выкрал ее в нумизматическом отделе Эрмитажа.
Илья Петрович открыл рот, прослезился, трижды поцеловал старый кожаный оборвыш, затем взволнованного Сашу Образцова и сказал:
– Господа! Вот дар, достойный именинника...
Вскоре после торжества каверзная проделка студента Образцова широко узналась. Огорченный Илья Сохатых получил среди знакомых кличку «О-враам».
На алюминиевой сковороде, заменяющей серебряный поднос, пачка поздравительных телеграмм и писем из больших сел, двух уездных городов и от Прохора Громова с Иннокентием Филатычем из Петербурга.
В конце трапезы, когда ударит в низкий потолок первая пробка дешевенькой «шипучки», Илья Петрович, оседлав вздернутый нос пенсне, торжественно огласит эти приветствия в честь собственной своей славы.
Но, к сведению любезного читателя и по величайшему секрету от Ильи Петровича, автор в совершенно доверительном порядке должен заявить, что все эти приветствия были заблаговременно изготовлены самим Ильей Петровичем Сохатых на разного достоинства бумаге и на телеграфных бланках, когда-то прихваченных у знакомого телеграфиста. Немало потрудился новорожденный над изысканностью и остротою стиля поздравлений и над перепиской их с черновиков левою рукою, дабы не узнан был его собственный кудрявый почерк.
Впрочем, среди этого тщеславного хлама было одно натуральное письмо, облитое солеными слезами. Писала вдова Фекла из села Медведева, где проводил свою первую молодость Илья Петрович. И просила в том письме вдова Фекла хоть сколько-нибудь денег на воспитание приблудного от Ильи Сохатых сына Никанора. И стращала в том горючем письме Фекла – в случае отказа – судом.
На торжественной трапезе это письмо оглашено, конечно, не было. Но мы слишком забежали вперед, до конца ужина еще далече – лишь подан румяный пирог с яйцами, – мы еще как следует не ознакомились с гостями, не слышали их разговоров-разговорчиков.
Присутствовали два приказчика: Пьянов и Полупьянов (между прочим, оба великие трезвенники и оба с рыжими бородками), еще громовская горничная Настя в вышедшем из моды, но великолепном платье «барыни». Она и вела себя соответственно, как барыня: на все фыркала, всех вслух критиковала, поджимала губки, разрезала пирог, картинно оттопыривая мизинчики, а когда сосед Насти, дьякон Ферапонт, нечаянно щекотнул ее в бочок, она ойкнула, лягнулась под столом, сказала:
– Пардон, пожалуйста... Не распространяйте свои кутейницкие руки...
Два великолепных жандарма – Пряткин и Оглядкин – сидели рядом возле узкого конца стола. Они, подобно Диоскурам – копия один с другого, как двойники; рыжие усы их по-одинаковому закручены колечками, синие мундиры с аксельбантами – с иголочки. Илья Петрович гордится их присутствием, но в то же время и побаивается их, стараясь высказывать самые патриотические речи:
– Господа унтер-офицеры! Корректно или абстрактно будет провозгласить тост за драгоценное здоровье их императорских величеств?
– Вполне возможно. Урра!.. Ура-ура!!
Между жандармами и горничной Настей – лакей мистера Кука, придурковатый длинноногий Иван. Он во фраке и белых нитяных перчатках; они мешают ему кушать, но он решил блистать во всем параде. Кокетничает с горничной, видимо, влюблен в нее, услуживает ей, вздыхает и закатывает глаза под низкий со вдавленными висками лоб.
– Это что за ужин... Это разве ужин? – брюзжит он в тон соседке. – Вот мы с мистером Куком устроим бал, чертям будет тошно...
– Пожалуйста, не задавайтесь, – улыбается шустрая, черненькая Настя. – Что такое ваш мистер Кук?.. Мистер, мистер, а сам голый вокруг дома бегает.
– Извиняюсь, это в видах здоровья.
– Вот мы устроим у Громовых бал, это да. Ай, не жмите ногу, ну вас!..
– А почему ж ее не жать, раз она под столом? Я, может быть, сплю и вижу вас во сне совсем голенькой.
– Глупости какие!.. Воображение. Меня даже сам Прохор Петрович только два раза без ничего видел...
Горбатый, перебитый в драке нос Ивана сразу отсырел.
– Как, в каких смыслах без ничего? – страшно задышал он и вытер нос перчаткой.
– А это уж не ваше дело. Хи-хи-хи!.. Разумеется, нечаянно...
– Исплутатор! – И ревнивый подвыпивший Иван хватил кулаком в тарелку.
Еще среди гостей обращали на себя внимание своей цветущей свежестью Стешенька и Груня, любовницы Громова на вторых ролях. Одна постарше, другая помоложе; эта попышней, а та посухощавей; эта с челкой и в кудерышках, а та с гладкой прической, как монашка. Обе сидят рядом, обе в жизни дружны, обе попросту, без всяких воздыханий делят ласки повелителя, обе имеют по маленькому домику под железной крышей, обе гадают в карты, для кого Прохор Петрович ставит еще точь-в-точь таких же два домочка, обе по-одинаковому злостно ненавидимы Наденькой, любовницей пристава. Когда появились эти девушки, она сразу надула губы и хотела уйти домой. Новорожденному больших трудов стоило уговорить ее, новорожденный страстно был влюблен и в Стешеньку и в Груню. За эту неразделенную, но часто высказываемую вслух любовь свою он всякий раз получал от собственной властной супруги трепку; тогда кудри его летели, как шерсть дерущихся котов.
Были еще гости: механик лесопилки, почтовый чиновник с супругой и тремя детьми, из коих один грудной, десятник Игнатьев и другие.
Студент Александр Иванович Образцов сидел рядом с семипудовой Февроньей Сидоровной, хозяйкой, увешанной золотыми брошками, серьгами, кольцами, часами и браслетами. Она, назло мужу, всячески ухаживает за студентом, а студент за нею.
– Кушайте икорки, подденьте на вилочку рыжичков... Собственной отварки. Выпейте наливочки... Ах, заходите к нам почаще...
– Благодарю вас... Да, геология – вещь сложная. Как я уже вам сказал, петрография есть наука о камнях.
С юным пылом знатока он рассказывает ей про осадочные и магматические породы, про силурийскую и девонскую системы, о природе золота, а сам все плотней придвигается к сдобной, как слоеный пирог, хозяйке. Та, ничего не понимая в геологии, с женским упоением ловит сладкие звуки его голоса, глядит ему в рот и нарочно громко, чтоб слышал муж, хвалит своего молодого соседа. Но муж глух, не любопытен, муж перестреливается взорами со Стешенькой и Груней.
– Представьте себе – золото... Это ж чудо! Оно самый распространенный по земному шару металл, но в малых дозах. А вы знаете, что самый большой самородок, весом в шесть пудов, был найден в Австралии? А вы знаете, на вас нанизано столько этого драгоценного металла, что можно бы на вашей груди открыть прииск...
– Ха-ха-ха!.. Какие вы, право... Очень красивые... – и на ухо: – Хотите, подарю колечко?
Публика уже изрядно напилась, когда подали в трех мисках горячие пельмени.
– Господа поздравители! – встал, постучал вилкой о тарелку Илья Петрович, и запухшие глазки его широко открылись. – Во всех менях, которые лежат перед вами, как в аристократии, пельмени названы мною а-ля Громов, в честь моего глубокочтимого патрона Прохора Петровича.
– Исплутатор! – крикнул лакей Иван. – Голых наяву видит!.. Девушков!..
– Засохни!.. Вредно, – предупредительно пригрозили ему жандармы.
– Мы с Прохором Петровичем обоюдно ознакомлены, когда они были еще прекрасный вьюнош без бородки, в бытность их папаши, Петра Данилыча, который благодаря Бога в сумасшедшем доме...
– Сплутаторы!.. – еще громче заорал лакей.
– Молчи, дурак! – топнул пьяный Илья Петрович. – Сначала привыкни произносить. Такого русского понятия нет, а есть ек-сплу... стой, стой!.. ек-спла...
– Таторы, – подсказал студент и, воспылав юной страстью, погладил под столом мясистую коленку задрожавшей всеми телесами осчастливленной хозяйки.
– Господа поздравители! Прохор Громов – это ого-го! Это мериканец из русских подданных...
– Сплутатор! – вскочил Иван и бросил свою тарелку на пол. – Ужо мы с мистером Куком... Надо бунт бунтить! Бей! Ломай! – И он ударил об пол тарелку жандарма Пряткина.
Поднялся шум. Ивану жандармы старались зажать рот. Иван мотал головой, вопил:
– Бастуй, ребята!..
И сразу хохот: дьякон Ферапонт, схватив Ивана за шиворот, молча пронес его в вытянутой руке до выхода, выбросил на улицу, вернулся, швырнул обрывки фрака к печке и так же молча сел.
Тут брякнул в окно камень, и площадная ругань густо ввалилась в разбитое стекло. Через мгновение градом посыпались стекла от удара колом в раму. Женщины, как блохи, с визгом повскакали с мест.
Через все лицо Прохора Петровича, от искривившихся губ к мутным, неживым глазам, прокатилась судорога.
– Ваша карта бита...
Где-то там, в меркнувшем сознании, свирепел хохот мадемуазель Лулу и дребезжал бряк пьяного рояля. Волны табачного дыма густо застилали воздух...
Прохор достал последние двадцать новых сторублевок, бросил на стол, сказал:
– Ва-банк!
И танцующие пары, как куклы, проплывали, вихрясь, мимо картежного столика – кавалеры, дамы, валеты, короли, тузы, дамы, дамы... Так много женщин!.. Откуда они взялись? Легкокрылая Лулу в паре с франтом. Она вся в вихре страсти, лицо ее вдоль раскололось пополам: половина в буйном хохоте, половина исказилась в страшном безмолвном вопле. От потолка по диагонали прямо к Прохору двигались скорбные глаза Авдотьи Фоминишны; они улыбались всем и никому, они взмахнули ресницами, исчезли.
Против Прохора похрустывал новою колодою карт отставной лейтенант в ермолке и сдержанно, однако ехидно ухмылялся:
– Ну-с? Вы изволили сказать: ва-банк.
Прохор прекрасно теперь знал, что это не Чупрынников перед ним, а ловко загримированный поручик Приперентьев.
– Итак, ва-банк?
– Да, поручик.
– Нет, лейтенант в отставке, если угодно...
– Приперентьев?
– Чупрынников, Чупрынников.
– Ах да, простите, – сказал Прохор сквозь стиснутые зубы. – Того мерзавца, Приперентьева, часто бьют по башке подсвечником. Он шулер.
– Не знаю-с, не знаю-с.
– Дуня! Авдотья Фоминишна! – крикнул захмелевший Прохор. – Не пускай к себе этого нахала Приперентьева; он мерзавец, он шулер... Моховая, тридцать два. Встречу – убью его... Он на содержании у своей хозяйки, немки... Амалии Карловны...
И все засмеялись.
– Милый сибиряк, – как звук виолончели, мягко молвила Авдотья Фоминишна и положила ему белую руку на плечо. – Баста играть.
– Ваша карта бита.
Прохор встал или не встал – не знает. Прохор двигался по комнате, ощущал свое тело, крепко пристукивал каблуками в пол, плыл или плясал, – не понимает, мысль отсутствовала, соображение одрябло, чековая книжка, чеки, валеты, дамы, короли, рука пишет твердо, стол тверд, четырехуголен, на мизинце бриллиант, в уши, как по маслу, змейками вползают звучащие с нуля цифры.
– Благодарю вас. Ну-с?
– Ва-банк!..
Ночь. Часы отбрякали сто раз. И грянула пушка – пробкой в потолок.
– За процветание Сибири! За мой прииск там, в тайге, – гнилозубо хихикают усы в ермолке.
– Врете, мерзавцы! Вам не отравить меня...
Часы пробили сто двадцать раз. Грянула вторая пушка.
Пропел петух. Взбрехнула на ветер собачонка. Ночь. Проходя мимо дома Наденьки, дьякон Ферапонт набрал полные легкие черной, как сажа, тьмы и страшно рявкнул по-медвежьи. Привязанная за столб верховая лошадь стражника взвилась на дыбы, всхрапнула и, выворотив столб, помчалась с ним, взлягивая задом, в сонную тайгу, в гости к настоящему медведю.







