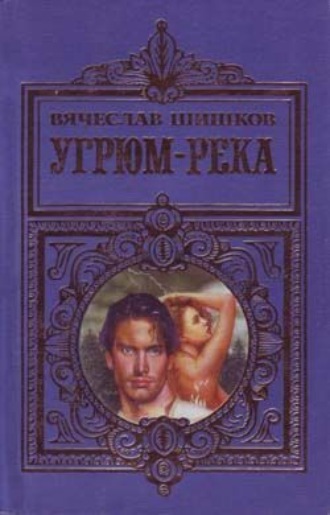
Вячеслав Шишков
Угрюм-река
XIV
И все как-то взбаламутилось, смешалось, соскочило с зарубки, сбилось. Всю эту ночь, весь следующий день шел неуемный дождь. Всю ночь до рассвета и днем плакала, ломала руки Нина.
Прохор с утра удалился в тайгу без ружья и шел неведомо куда, ошалелый. Ничего не думалось, и такое чувство: будто нет у него тела и нет души, но кто-то идет в тайге чужой и непонятный, а он, Прохор, наблюдает его со стороны. И ему жалко этого чужого, что шагает под дождем, без дум, неведомо куда, ошалелый, мертвый.
Петр Данилыч опять стал пьянствовать вплотную. Да, верно. Так и есть. Эти серьги он взял из укладки своего отца, покойного Данилы. Много кой-чего в той древней укладке, обитой позеленевшей медью, с вытравленными под мороз узорами.
Что ж, неужели Куприянов, именитый купец, погубит их, Громовых?
– А я отопрусь, – бормочет Петр Данилыч. – На-ка, выкуси!.. Поди-ка, докажи!.. Купил – вот где взял.
Марья Кирилловна про серьги, про вчерашний гвалт ничего не знает: в гостях была. Под проливным дождем, раскрыв старинный брезентовый зонт, она идет в избу к Куприяновым. Анфиса распахнула окно:
– Вы разве ничего не слыхали, Марья Кирилловна?
– Нет. А что?
– Вернитесь домой. Спросите своего благоверного.
«Змея! Потаскуха!» Но с трудом оторвала Марья Кирилловна взгляд свой от прекрасного лица Анфисы: белое-белое, розовое-розовое, и большие глаза, милые и кроткие, и волосы на прямой пробор: «Сатана! Ведьма!» Ничего не ответила Марья Кирилловна, пошла своей дорогой и ни с чем вернулась: «Почивают, не велено пущать».
– Что это такое, Петр? – с кислой, обиженной гримасой подошла она к мужу, стуча мокрым зонтом. – Что же это, а?
Петр Данилыч хрипло пел, утирая слезы:
Голова ль ты моя удалая,
Долго ль буду носи-и-ть я тебя.
Перед самой ночью весь в грязи, мокрый, с потухшими глазами вернулся из лесу Прохор. Штаны и куртка у плеча разорваны. В волосах, на картузе хвойные иглы. Он остановился у чужих теперь ворот, подумал, несмело постучал. Взлаяла собака во дворе. И голос работника:
– Что надо? Прохор Петров, ты, что ли? Не велено пущать.
Глаза Прохора сверкнули, но сразу погасли, как искра на дожде. Он сказал:
– Ради Бога, отопри. Мне только узнать.
И не его голос был, просительный и тонкий. С треском окно открылось. Никого не видел в окне Прохор, только слышал отравленный злостью хриплый крик:
– Убирайся к черту! Иначе картечью трахну.
Окно захлопнулось. Слышал Прохор – визжит и плачет Нина. Закачалась душа его. Чтоб не упасть, он привалился плечом к верее. И в щель ворот, перед самым его носом, конверт.
– Прохор Петров, – шепчет сквозь щель работник. – На, передать велела...
Темно. Должно быть, домой идет Прохор, ноги месят грязь, и одна за другой вспыхивают-гаснут спички: «Прохор, милый мой...» Нет, не прочесть, темно.
– Что, Прошенька, женился? – назойливо шепчет в уши Анфисин голос. – Взял чистенькую, ангелочка невинного? Откачнулся от ведьмы?
Прохор ускоряет шаг, переходит на ту сторону. Анфиса по пятам идет, Анфисин голос в уши:
– Ну, да ничего... Ведьма тебя все равно возьмет... Ведь любишь?
– Анфиса... Зачем же в такую минуту? В такую...
– А-а, Прошенька... А-а, дружок. Не вырветесь... Ни ты, ни батька... У меня штучка такая есть...
– Анфиса... Анфиса Петровна!
И взгляды их встретились. Анфисин – злой, надменный, и Прохора – приниженный. Шли возле изгороди, рядом. А напротив – мокрый огонек мелькал.
И так соблазнительно дышал ее полуоткрытый рот, ровные зубы блестели белизной, разжигающе пожмыхивали по грязи ее упругие, вязкие шаги. Прохор остановился, глаза к глазам. Их взор разделяла лишь зыбкая завеса мрака.
– Чего ж ты, Анфиса, хочешь?
– Тебя хочу. – Она задышала быстро, страстно; она боролась с собой, она приказывала сердцу, приказывала рукам своим, но сердце туго колотило в тугую грудь, и руки было вознеслись лебедями к шее Прохора, но вдруг опустились, мертвые, остывшие.
– Брось, брось ее!.. Я все знаю, Прошенька... Хорош подарочек невесте подарили?..
– А дальше? – прошептал Прохор. – Если не брошу? Если женюсь, положим?
– Не дам, ягодка моя, не дам! Говорю – штучка такая у меня есть... Штучка...
– А дальше?.. – Прохора била лихорадка, в ушах звон стоял.
Анфиса тихо засмеялась в нос:
– Плакали ваши денежки. Каторга вам будет... – И с холодным хохотом быстро убежала.
Голубое письмо карандашом:
«Прохор, милый мой. Голубчик! Как только исправится дорога, мы уедем. Старик непреклонен, хочет дело подымать, хочет заявить в вашем городе. А я этому не верю, хотя на сережках действительно имя моей бабушки. Старик глазаст, рассмотрел. Как это все ужасно! Но при чем тут ты, я, наше счастье? Вообще... Милый, не падай духом! Это испытание, посланное Богом. Не забывай меня! Я верую, что все наладится. Если не теперь, то после. Всю ночь буду молиться о тебе, о всех нас.
Твоя Н.
Р. S. В тайгу не уезжай. Жди телеграммы. Упрошу, укланяю. Надеюсь на влияние матери. Н.»
Читали двое. В сущности, читал один Прохор, а другой – мешал читать: похихикивал, что-то бормотал, взмахивал дымной пеленой меж желтым светом лампы и голубым письмом.
В голове Прохора ширились лесные шумы, позванивали, журча, таежные ручьи, ныло сердце.
К кому ж идти? Мать спит. К отцу не пойдет он. Прохор разделся, сорвал взмокшее под дождем белье и, голый, лег. Дрожал. Накрылся шубой. Дрожь стала донимать еще сильней. Голова тяжелела. Сознание падало не то в сон, не то в бред...
– Ну? Чего ты?
– Ибрагим, это ты?
– Я. Ну?
Гололобый черкес, в красной рубахе, в подштанниках, босиком, дымил трубкой, сидел возле него на стуле. Чернели густые брови, чернела борода его. Черкес прищурился, о чем-то думал, глядел Прохору в мозг, в душу. Желтая лампа подбоченилась, надвинула зеленую шапку на глаза и тоже смотрела Прохору в душу, тоже думала, приготовилась слушать, о чем заговорят люди.
– Что ж мне делать? – горячим, но тихим, утомленным голосом спросил Прохор и закашлялся. – Ты, пожалуй, единственный... Пожалуй, самый верный. Да, Ибрагим... Все кончено... Нина уезжает.
– Кончено, Прошка... Цх!.. Жалко, Прошка... Девку жалко!.. Тебя жалко!..
Лампа слушала. Люди молчали. Лампа слушала, лампа понимала, о чем они молчат. Прохор всхлипнул и замигал.
– Зачем тайгам ходил? Мокрый... Хворать будэшь...
Черкес низко опустил голову. Весенняя муха сорвалась с потолка, села на голый желтый череп черкеса.
– Укусит, – сказал Прохор. Дыхание его было горячее, прерывистое.
– Завтра баню, редькам тереть, парить.
– Да, – сказал Прохор. – Прикрути лампу: больно глазам.
Огонек запрыгал, лампа заломила шапку и пустилась в неподвижный пляс, прищелкивая желтым языком.
Темно. Жарко. Скрипнул стул. Легла на голову прохладная рука.
– Ну, ладно, Прошка. Твоя молода, я свое время отгулял. Не горуй... Спи!..
Все переплелось, заострилось, стало четырехугольным и – кресты, кресты. Мелькали желтые, в траурных, черных рамах окна, и сидела в углу лысая заря, сияющая, немая. И угловатые люди подымали Прохора, усаживали его, давали пить. Вот фельдшер Нил Минаич; он без ног, без туловища – угловатая голова, как жерди руки, а рот – прямая щель. Вот отец Ипат: «Зело борзо», – говорит он и благословляет. Его наперсный крест из огня, и ряса дымится. «Жар, – говорит фельдшер. – Зело борзо...»
– Мама, – пробует свой голос Прохор. – Почему ты смеешься? А где Ниночка?
Нина плакала. И слезы ее – как тупые стрелы.
– Ну ладно, – сказал Прохор, – мне больше ничего не надо.
А потом его разобрали на части, голову отвинтили и спрятали в стеклянный шкаф.
Когда все смолкло, Прохор встал, подошел к зеркалу и потянулся. «Дураки», – подумал он. Из зеркала ему улыбался здоровый смуглый парень. Прохор узнал его. Прохору стало легко и радостно. Он накинул на плечи венгерку, взял подушку, спички и, крадучись, пошел было к ней, к милой, ласковой, но дверь его спальни заперта. «Караулят, дураки». Прохор подошел к окну, выбросил спички – она поймала спички, выбросил подушку – она поймала подушку, выбросился сам. Она притянула его к своей груди, поцеловала.
– Я хвораю, – сказал он.
Голубая ее спальня. Желтая заря в углу, тихая, лысая, мертвая. Огонек же у Спасителя живой. Кивнул ему красный огонек. Спаситель на него очи перевел, задумался. Прохору лень перекреститься. Прохор лениво сказал:
– Здравствуй, Господи!
– Здравствуй, сокол, – сказала она.
И оба опустились на пуховую кровать, под мягкое голубое одеяло.
– Я спать хочу, – сказал Прохор. – Я спать хочу. Конечно же, я люблю тебя больше жизни.
И горячими, сладкими губами она усыпляет его, такая милая, родная. Заря покатилась по полу с плескучим блеском, села у него в ногах, на голубое одеяло, закрыла его белым облаком, стала сказывать не то сказку, не то быль.
XV
– Что же, вы все сошли с ума? – говорила Анфиса Шапошникову. – Петр до чертиков допился, все переломал в доме, в амбар Ибрагим запер его... Становой писульки пишет, сегодня опять прийти сулил. Илюха тоже повеситься грозит. Да что вы, ошалели, что ли?
Шапошников, наклонив голову, смотрел поверх очков в упор на Анфису, на губы ее, на подбородок, на щеки с двумя улыбчивыми ямочками; он слушал ее голос, но ничего не понимал.
– Слышишь? Почему молчишь? Шапка!
– Я думаю... – печально ответил он и почесал под бородкой. Встал, прошелся, смешной, низкорослый. Кисти его шерстяного пояса висели жалко. – Я думаю о вас и о себе. Моя и ваша дороги разные. И люди мы с вами – разные. Трагическая вы какая-то, Анфиса Петровна, то есть как вам сказать проще? Ну... не знаю как... Не могу сосредоточить мысли. То есть за вами бродит некая мрачная тень, рок, что ли... Вот я и думаю... Плохо кончите вы, пожалуй...
– Говори, говори, Красная шапочка, говори... – Анфиса равнодушно щелкала орехи, а возле губ и возле носа недавние складочки легли.
– Надо бежать, Анфиса Петровна... Да... То есть мне... Надо бежать. Куда? Не знаю. К черту! Я уж, кажется, говорил вам на эту тему. Надо мне от себя бежать... – Последние слова он произнес расслабленно и безнадежно и закрыл глаза, как сонный.
Густые темные занавески в Анфисиной светлой комнате спущены. Белые, штукатурные стены загрустили; они о чем-то догадываются, чего-то ждут. И зеркало в точеных колонках на туалете наклонилось вперед с тревогой. В зеркале отражаются встревоженные, нетвердые ноги гостя, и носки стоптанных сапог вопрошающе закурносились. Свет лампы через голубой абажур – полусонный и таинственный, как на кладбище луна.
– Плохо, – падает голос гостя в тишину. – И так плохо, и этак плохо. Кого ж вы любите, Анфиса Петровна, сильно, по-настоящему, не по капризу, а по...
– Прохора.
– Так, так. И что ж из этого выйдет? Конечно, в вас этих чертовых чар много, но, надо думать, не захотите же вы губить девушку?
– А разве я знаю, чего хочу? Смешной ты, Шапкин. Может, завтра тебя захочу. Может, навсегда твоей буду.
– Нет, Анфиса Петровна. Вы опасная! Вы очень опасная, Анфиса Петровна! Я помню ту ночь вашу, когда вы, милая, милая, на меня надели свой Божий образок, иконку. Уж вы простите меня, иконку за ненадобностью я отдал своему хозяину: выменял на два фунта луку. Дак вот... После той ночи я неделю лежал в каком-то душевном параличе, в потолок глядел и все думал. Я тогда, в ту ночь вашу, сумасшедший был, и мне стыдно. Я, помню, плакал, как последний дурак, я унижался, я ползал у ваших ног. И в ту ночь вы отравили мою душу смертельным ядом. Зачем же мучить так людей? Я не завидую ни Прохору, ни Петру Даниловичу. Так людьми играть нельзя.
– Дак что ж мне делать-то, проклятый?! – звонко, надрывно крикнула Анфиса и целую горсть кедровых орехов швырнула в хмурую бороду гостя.
Шапошников вздрогнул. Орехи рассмеялись по чистому полу дробным смехом, зеркало подмигнуло и качнулось, задремавшие стены выпрямились, стали бодро, как солдаты, каблук в каблук.
Два орешка засели в бороде. Шапошников неспешно раскусил их, съел. Потом заговорил, заикаясь и отойдя подальше, к разрисованной печке в углу.
– Волноваться вредно, – сказал он. – Испортится цвет лица. Значит, здраво рассуждая, Прохора вы должны оставить в покое. Что касается Петра Данилыча... Я бы сказал так...
– Жуй, жуй жвачку!
– Существует в мире некая мораль. Да. Впрочем, вам это... Словом, вы ставите на карту судьбу Марьи Кирилловны.
Анфиса злобно усмехнулась.
– Неужто все такие царские преступники, как ты? Эх ты, телятина!
Шапошников кривоплече и обиженно, руки назад, зашагал по комнате, сбивая тканую полосатую дорожку.
Анфиса села, повернулась к зеркалу, зеркало заглянуло ей в лицо. Лицо Анфисы взволнованное, темное. Анфиса молчала. Шапошников кашлянул, сел на стул неслышно. Он потянулся к миске за орехами, рука раздумала, опустилась сама собой. Молчали.
– Про серьги слыхал? – наконец спросила Анфиса зеркало.
– Слыхал, – ответили стены, борода, морщинистый залысевший лоб. – За давностью лет улика эта равна нулю. И установить факт преступления почти невозможно.
Анфиса подошла к зеркалу, гребнем оправила прическу.
– А хочешь, я тебе штучку одну покажу, бумажечку одну... Ежели, к примеру, прокурору представить – крышка Громовым.
Анфиса запустила руку за кофту и достала привязанный к кресту заветный ключ.
Этим же вечером Ибрагим-Оглы вошел в квартиру Куприяновых. Он вошел не обычной своей легкой кавказской ступью, а неуклюже и придавленно, точно нес на себе тяжелый груз. Яков Назарыч, утомленный и расстроенный, сидел на рваном просаленном диване, отдыхал. Нина готовилась к отъезду, укладывала вещи.
– Что, знакомый, скажешь? – спросил купец.
Черкес размашисто, неумело перекрестился на икону и вдруг упал в ноги Куприянова.
– Мой убил твой матка, твой батька. Моя! – прокричал черкес рыдающим голосом, вскинул брови, сложил руки на груди.
Купец не сразу понял и сердито переспросил его:
– Чего ты бормочешь? Что?
– Моя убил твой родитель... Моя!
Нина выронила мельхиоровую сахарницу, и глаза ее округлились.
– Ты?! – вскочил Яков Назарыч и, как большой толстый кот на мышь, выпустил когти. «Подкупили, – подумал он. – Подкупили, мерзавцы».
– Врешь, паршивый черт... Под каторгу себя подводишь, – негромко сказал он, багровея.
– Чего хочешь делай, хозяин... Я...
– Где убил? Когда? Какие они из себя? – грузно топал в пол Яков Назарыч, то вскакивал, то садился, распахивал и запахивал полы халата. – Врешь, негодяй, варнак, каторжник проклятый!..
Черкес повернулся на коленях лицом в передний угол и, потрясая рукой перед иконой, гортанно хрипел:
– Моя крещеный... Батюшка макал... Вот Бог, Исса Кристос!.. Алла!.. Божа мать... Я убил...
Нина, припав головой к печке, вся тряслась.
– Встань, черт, собака!.. Пошел к двери, говори... Стой, стой! Говори!
У черкеса голос треснул, завилял:
– Моя с каторги бежал, в тайге гулял. Жрать надо, жрать нет. Глядым – тройка. Ямщика крошил, старика крошил, старуху крошил...
– Какие они из себя? В чем одеты? – выкрикнул купец, схватился рукой за сердце.
Ибрагим потер холодной ладонью вспотевший лоб, густые черные брови его заскакали вверх, вниз.
– Слушай, хозяин... Моя не врал... Слушай...
Черкес, путаясь, заикаясь, напряженно, как бы припоминая, рассказал. Светившееся вдохновением лицо его покрывал крупный желтый пот, воздух вырывался из груди тяжело, со свистом. Яков Назарыч, тоже потный, взбудораженный, не помня себя, рывком сдернул штуцер со стены и пнул все еще стоявшего на коленях черкеса ногою в грудь:
– Ну!.. Марш к двери!..
Нина с визгом бросилась к отцу, тот грубо оттолкнул ее. «Уйди!!» – она выскочила на улицу.
– Моя не врал... Стреляй! Только в самый сердце...
Черкес встал с полу, прислонился лопатками к дверному косяку и прикрыл глаза широкой кистью руки, проросшей ветвистыми вздувшимися венами. Лицо его сразу осунулось, обвисло, посерело.
И вот курок взведен. Еще мгновение – и бешеный порыв толкнет купца на самосуд, обычную расправу в глухих углах страны.
Нина бежала улицей, отчаянно крича. Ступеньки громовской лестницы быстро пробарабанили тревогу, Нина кинулась на грудь Марьи Кирилловны, и обе бегут в обратный путь и крестятся, бегут и крестятся.
– Убьет, убьет его!.. Убьет... – едва выговаривала Нина. И когда были в трех шагах от дома, там ударил выстрел.
– Господи, убил!!
Где-то нехорошо завыла собака. Туман стоял. Тусклые огни мерцали в избах.
Из калитки вынырнул работник.
– Где стреляют?
И Прохор выскочил, там, у себя, больной и бледный.
– Где стреляют?
И было так. Якова Назарыча оставляли силы, он отшвырнул штуцер, курок сам собой спустился. Яков Назарыч от выстрела вздрогнул, расслабленно сел на диван, к столу. Ему вдруг стало стыдно дочери, самого себя, черкеса, стен. Он хотел лишь разыграть роль палача, хотел помучить, нагнать ужас на черкеса, но игру не рассчитал, безумно поддался зверскому порыву, едва не окровавил своих рук. Тьфу ты, окаянная сила! Сколь сильна ты в бессильном человеке! Заныла мозоль на купеческой ноге, заныло возле сердца. Купца охватила гнетущая тоска. Он вытянул отяжелевшие, как в водянке, ноги, уперся руками в диван, затылком в стену, закрыл глаза; по мясистому багрово-красному теперь лицу катился пот. Борода прыгала вместе с дрожавшей челюстью; он прикусил нижнюю губу и застонал в нос странным, как мычанье, стоном.
Когда открыл глаза, пред ним, все так же сложив руки на груди, стоял на коленях Ибрагим.
– В каторгу!.. – ожесточенно прошептал Яков Назарыч.
Рядом с Ибрагимом стояли на коленях Марья Кирилловна, Нина и впереди всех – Прохор. Глаза Прохора лихорадочные, на правой щеке и через висок узорчатые складки зарозовевшей кожи – отлежал; он в пальто, в шапке, в валенках, в одном белье.
– Прошу вас, очень прошу! – умолял Прохор; он положил руку на мягкое колено Якова Назарыча и заглядывал в голубые, мокрые, мигающие глаза его. – Пощадите Ибрагима – он в тайге спас мне жизнь. – И когда произносил эти простые слова в защиту человека, глубокая, ликующая радость затопила его сердце и сознание: все засияло впереди, кругом, глаза горели.
Яков Назарыч шумно передохнул, поднялся, нетвердо пошел за перегородку. Посморкался там, вышел, сказал, ни к кому не обращаясь:
– А серьги?
Черкес запыхтел, ударил себя по сердцу:
– Мой продал Даниле-старику. Мой собственный...
Яков Назарыч сел, жадно выпил ледяной воды.
– Ничего тебе, разбойник, не скажу сейчас. Пшел вон, стервец! И ты, Марья Кирилловна, ступай, и ты, Прошка. Идите... Завтра...
Последнее событие сразу отрезвило Петра Данилыча, сразу вернуло ему прежнюю деятельную, бодрость, сообразительность.
Он целый день провел с глазу на глаз с Яковом Назарычем. Все закончилось благополучно: потомство Громовых оправдано, черкес прощен, свадьба состоится.
Решено свадьбу править в Крайске предстоящим летом, а послезавтра отслужить заупокойную литургию в память родителей купца Куприянова, убиенных якобы неведомым злодеем.
Вечером, возвращаясь от Куприяновых, Петр Данилыч призвал в свою комнату черкеса, запер дверь, валялся у него в ногах, целовал холодные, вонючие, пропитанные дегтем сапоги его. Потом вынул сторублевую бумажку, подал Ибрагиму. Черкес поблагодарил, но денег не принял – Исса Бог велел всех любить; вот черкес любит Прохора – только пусть не подумает Петр Данилыч, что руки Ибрагима в крови, – нет, нет, Ибрагим-Оглы не разбойник.
Болезнь Прохора усилилась. Илья Сохатых успел смахать в город за доктором. Нина и Марья Кирилловна не отходили от постели больного. Впрочем, Марья Кирилловна часто заглядывала в каморку Ибрагима; придет, поплачет, скажет:
– Какой ты хороший, Ибрагимушка! – и снова – к Прохору.
Наступил видимый мир и тишина. И если б не болезнь Прохора... Но доктор сказал, что опасности нет, сильный организм молодого человека быстро одолеет эту немощь.
О признании черкеса перед Яковом Назарычем никто не знал – решено держать в строжайшей тайне.
И в сфере обманной тишины открылся простор для всяческих возможностей. Предстояли две свадьбы: Нины с Прохором и кухарки Варвары с Ибрагимом-Оглы.
Илья же Сохатых лелеял мечту сочетаться браком с самой Марьей Кирилловной – он будет богат и знатен, и черт бы побрал эту проклятую Анфису!
Исключительно для обольщения Марьи Кирилловны он купил в городе фрак, пенсне накладного золота, белые перчатки, поношенные лакированные штиблеты с бантиком и трикотажные кальсоны сиреневого цвета. Цилиндра в городке не оказалось, похоронного бюро с оцилиндренными факельщиками здесь тоже не было, но он все-таки сумел купить эту пленительную принадлежность туалета у расторопного парикмахера, отдававшего напрокат маскарадные костюмы. Он также не забыл приобрести для Марьи Кирилловны золотой сувенир – колечко – и решил сняться в фотографии. Он долго выискивал перед зеркалом в вульгарном своем лице черты снисходительной величавости и строгой красоты. Снимался в пенсне, в цилиндре. Пенсне куплено случайно, не по зрению, если долго пользоваться им – начинало ломить глаза, но Илья Петрович всем этим пренебрег, лишь бы первоклассно выйти на портрете.
– Мне бы хотелось походить на лорда из Америки, – стараясь не шевелить губами, прошепелявил он.
– Замрите! Не мигайте, – сказал фотограф. – Лорды носят одноглазый монокль в видах шика. Оботрите, пожалуйста, рот: в углах губ – слюни. Улыбайтесь слегка. Снимаю... Готово. Благодарю.
– Мирсите, – учтиво поклонясь, поднялся Илья Петрович с кресла, небрежно сбросил пенсне и снял цилиндр. – Только размер, пожалуйста, чтоб самый большой был, в рамке.
У бравого пристава тоже была своя мечта: во что бы то ни стало сделаться любовником, а может быть, и мужем очаровательной Анфисы. Но как, но как?
Не на шутку размечтался примерно на ту же тему и царский преступник Шапошников.
Прошел вечер, день и ночь. Звонарь ударил в большой колокол, началась траурная неурочная обедня. Народу мало, но приятели Петра Данилыча все в сборе. Недоставало лишь Анфисы Петровны Козыревой и болеющего Прохора. Молящиеся одеты скупо, скромно, по-обыкновенному. Илья же Петрович Сохатых – новое темно-зеленое пальто внакидку, фрак, пенсне, в руках цилиндр, на рукаве черный, из дешевой марли, креп. Сам припомажен, надушен, чуть подпудрен, чуть-чуть подрумянен; на лице трагическая скорбь. Он поместил свою особу с таким расчетом, чтоб быть на виду у Марьи Кирилловны. Когда запели «со святыми упокой», он, как и все, опустился на колени, благочестиво осенил себя крестом, с сокрушением кивал иконостасу кудрявой головою. И все-таки не стерпела любопытная его рука, – достал Илья Сохатых из жилетного кармана прекрасное кольцо-супир, украдкой взглянул на самоцветный камушек; сердце сладко замерло, обернулся Сохатых, окинул взором умильно-ласковое лицо Марьи Кирилловны, ее крепкий стан, подумал: «А ей-богу, бабенка хоть куда!» – и стал размышлять о том, как вручить при всей деликатности Марье Кирилловне подарок.
Новокрещенный Ибрагим молился впереди всех, на солее, возле самых царских врат. Всю службу простоял он на коленях, истово крестился, гулко ударял лбом о половицы.
За панихидой по убиенным рабам Божиим Назаре и Февронии никто не плакал, прослезился лишь отец Ипат, и возгласы его были со слезою. Это очень тронуло молящихся, пристав же предположил в душе: «К новой рясе, кутья, подлизывается».
Так и вышло. Яков Назарыч подарил священнику на рясу пятьдесят рублей и внес в церковь три сотни на вечное поминовение родителей. Не отстал от будущего родственника своего и Петр Данилыч Громов: благоговея перед десницей Божьей, что чудесно отвела от его дома великий скандал и срам, он пожертвовал в церковь триста двадцать пять рублей, то есть на четвертную больше против Якова Назарыча.
Нина Яковлевна Куприянова выпросила у отца сто рублей, разменяла их на пятерки и, в сопровождении кухарки Варвары, обошла двадцать беднейших изб села Медведева, раздавая деньги неимущим.
Ибрагиму Нина сказала:
– Как только я сделаюсь женой Прохора, вы, Ибрагим, займете у нас исключительное положение. Вот увидите. Я буду очень беречь вас. Очень, очень!
– Барышня Куприян! Твой глаз насквозь видит. Веришь мне?
– Верю. Знаю все. Понимаю.
– Больше нэ надо! Молчи, молчи. Ибрагишка тоже понимайт. Цх!.. – И растроганный черкес стал порывисто целовать руку девушки, одновременно прикасаясь к руке горбатым носом и губами.
На следующее утро двое Куприяновых выехали из села Медведева.







