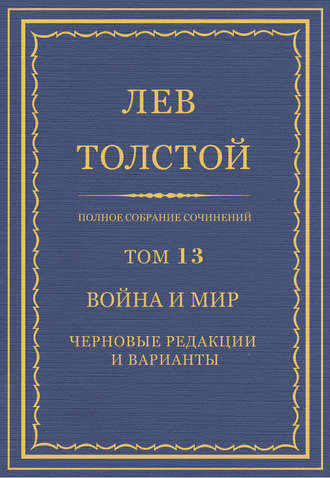
Лев Толстой
Полное собрание сочинений. Том 13. Война и мир. Черновые редакции и варианты
– Ну, угадайте, господа, что я тут несу?
– Две трети жалованья? – закричал кто то.
– Нет.
– А не жалованье, так всё равно.
– Вот что, С. И., генерал приказал вашему и Альфонса Карлыча эскадронам выступить к Вишау. Багратион вас просил в свой авангард.
– Я напишу сейчас приказ.
– Генералу угодно, чтоб Бенцель командовал дивизионом. Он хоть и моложе по старшинству, да так угодно генералу, а коли вы не хотите, так он назначит 4-й.
С. И. задумался.
– Оох немцы! – сказал он с комическим, пьяным и искренно грустным вздохом.
– Эй! послать Назаренко!
– Что же, пойдете?
– Известно, пойду. Ну, господа, завтра выступать, доплясывайте скорее, я пойду к себе.
С. И. обстоятельно отдал приказания Назаренко о выступлении, Назаренко обошел коновязи, палатки, приказал[489] переменить колеса в двух фурах, вспомнил о больных, отдал починить свою шинель портному, выкурил трубку, прикурнул на один час и встал опять до света. Всё это не стоило ему ни малейшего труда, ни усилия. Все умственные силы его были поглощены этим делом, ничего не оставалось лишнего. Когда он курил, он вспоминал, что нужно.
Пляска у офицеров кончилась, поговорили о предстоящем, должно быть авангардном деле, но кутеж возгорелся с новой силой. Пристали к адъютанту прислать музыку. Он отказывался, офицеры собирались депутацию послать просить музыку у полкового командира. Потом опять сели играть. Толстой стал проигрывать. Борис, не прощаясь, уехал к себе.
<Толстой до самого[490] дела при Вишау три дня играл безостановочно. Он засыпал по утрам, обедал в три и опять садился за карты. Против него образовалась партия из трех человек, после разных перемен счастья к концу третьего дня до последнего гульдена объигравших его. Уже в новом лагере С. И., у которого Толстой занял денег, объяснил ему, что они были шулера,[491] и что это ему был урок.
– Так они украли у меня? Я так этого не оставлю.
– Чтож ты сделаешь?
– Изобью его. – И в самом деле Толстой пошел с <кабурным пистолетом к одному из своих игроков и бог знает, что у них было, только на другой же день офицер этот отказался от дуэли, подал рапорт о болезни и уехал в вагенбург в гошпиталь.[492] Но Толстой всё остался без денег и находился в ночь перед 15-м в том особенно мрачном настроении, с особенной решимостью и ясностью мысли, в которой бывают проигравшиеся люди. Женщин не было, и он мучался и искал. Он ездил за двадцать верст в городок и пробыл там три дня. Приехав оттуда, он одиноко и смирно сидел в палатке, написал письмо домой, доброе, нежное, которое много радости доставило семье, написал записку Борису, которого он не видал с тех пор, чтобы он прислал ему хоть пятьсот рублей, и сидел у С. Ив.[493] молча, когда принесли приказ и диспозицию при Вишау.
– Ей богу, стану служить, С. И., это всё свиньи люди, – произнес он эту решимость и это суждение, имевшие в его понятии самую определенную связь.
Борис, выехав от Толстого, поехал в Ольмюц к Волхонскому, до которого он имел дело.[494] Дело состояло в том, что богатая связями и светским уменьем княгиня писала сыну, что Кутузов получил о нем рекомендательное письмо и что ему стоило только явиться к Кутузову, чтобы напомнить о себе. Он не знал, прилично ли бы было это сделать. Князь Василий писал к Кутузову: «C'est un jeune homme de beaucoup de distinction qui a bien fait ses études et qui promet sous touts les rapports. Malgré la conviction que j'ai de la grande quantité de prières de ce genre qui vous accablent, je vous prie de faire quelque chose pour ce jeune homme qui est le fils de la princesse Anne K. que vous avez dû connaître. Tout ce que vous ferez pour lui, vous le ferez pour moi».[495] Князь В[асилий] был[496] почти первым лицом в Петербурге и потому такая рекомендация имела значение. Но ловко ли было итти напоминать о себе Кутузову? Это было противно Борису. Он знал, что это нехорошо, но он надеялся, что Волхонский докажет ему, что его сомнения – пустяки и что надо итти, и что он пойдет, и что вследствие этого он будет иметь скоро случай быть в деле и отличиться, тогда как гвардия, бог знает, попадет ли еще в дело. По дороге к Ольмюцу Борис рассматривал эти сады, виноградники, каменные заборы, вдали деревни с крутыми черепишными кровлями, линию Альп вдалеке, встретил несколько жителей, одну женщину на осле и <особенность> ее говора (он спросил у ней дорогу), ее одежды и убор так странно поразили его, только что выехавшего из вполне русского мира гусарского эскадрона, что он не понимал, как это этот иностранный, особый мир не отзовется на русском, а русской на иностранном, тогда как они так близко друг от друга. Он тоже заметил, что жители недоброжелательно смотрели на него, на русского офицера.
Он не застал дома Волхонского и вернулся к Бергу. Через два дня он поехал опять. Генерал, у которого Волхонской был адъютантом, стоял почти в лучшем доме Ольмюца, принадлежавшем коменданту, и занимал с пятью товарищами, ординарцами и адъютантами, огромную залу, в которой прежде танцовали, а теперь стояли пять кроватей, разнородная мебель, столы, стулья и клавикорды, вынесенные откуда то. Два адъютанта были посланы, один у окна в персидском халате писал письма, другой был нездоров и разговаривал по немецки с доктором, присевшим к нему на постель.
– Что вам? – спросил писавший. – Князя? Сейчас придет дежурный.
– Нет, мне князя Волхонского.
– А! Он дежурный. Посидите. Хотите курить? – Он учтиво пошевелил стулом и продолжал писать.
У генерала в гостиной происходил случайный почти военный совет, т. е. сошлись самые значительные люди армии и говорили о том, что занимало всех. Тут были два русские генерала, один француз, другой немец, один русский флигель-адъютант и австрийской знаменитый генерал генерального штаба, и хозяин, который любил Волхонского и позволил ему остаться. Пили чай.
Волхонской был в приемной, генералы были в кабинете. В приемной, кроме дежурного адъютанта Волхонского, из входящих, проходящих и выходящих постоянно было человек пять или шесть. То генерал квартирмейстер, то начальник артиллерии, то старший адъютант, то начальник отряда, то обер провиантмейстер, то начальник собственной канцелярии, то адъютант, ординарец, флигель адъютант и т. п. и т. п. Всё это почти без исключения говорило по французски. Австрийской полковник, облокотясь у окна, разговаривал с Волхонским, который таким же, как всегда, распущенным, хотя и застегнутый на все пуговицы, сидел на окне. Волхонской, не вставая, закивал головой Борису, подзывая его к себе, и подал ему руку.
– C'est un cousin et un ami discret,[497] – сказал он австрийцу, который было замолчал, но, видимо успокоившись молодостью и благовидностью Бориса, продолжал на своем, с немецким произношением, но правильном французском языке.[498]
– У меня до тебя дело, – сказал Борис.
– Сейчас. – Полковник желал видеться с Кутузовым и объяснить о весьма важных сведениях, полученных им из французской армии, только он желал видеть главнокомандующего одного.
– Очень хорошо, – сказал Волхонской так небрежно и уверенно, что честолюбивого юношу Бориса поразила уверенность и важность своего cousin. – Я доложу нынче же вечером, подождите здесь. – Он отошел с Борисом, и лицо его из официального приняло то дружеское и детски кроткое [выражение], которое обвораживало всякого.
Борис рассказал свое сомненье и спросил совета, итти ли к главнокомандующему или нет?
Волхонской подумал. Он, видимо, был усталый. Он не спал эту ночь, ездивши с приказаниями на аванпосты. Он был так же бел, нежен,[499] и как всегда, маленькие усики его и волоса были так же прибраны волосок к волоску, но он в день, который не видал его Борис, как будто похудел от сильной болезни, и глаза его блестели лихорадочным блеском, хотя движенья были так же вялы и женственны. Это с ним часто бывало. Он говорил нынче так живо и одушевленно, как не видал еще его Борис. Он подумал и начал:
– Ежели теперь ты явишься к Кутузову и я скажу ему, я ему напомню непременно, он наговорит тебе кучу любезностей или промолчит – какой час найдет. Но ничего не сделает, ты видишь, что это здесь – ярманка.
– Потруди[те]сь подождать, я доложу, – сказал он в это время, почти на ципочках и на вытяжк[у] вошедшему старому генералу, в орденах и с солдатским подобострастным выражением затянутого воротником багрового лица. Генерал улыбнулся и уселся, играя темляком. Борис начинал понимать, что, кроме субординации и дисциплины, есть другая дисциплина и субординация, более важная для успеха. – Он ничего не сделает, потому что во-первых теперь все заняты и растеряны, как никогда. Немецкая партия требует наступления. Им всё равно, разбиты ли мы будем или нет. Им даже приятно, очень приятно бы это было. Они подводят всё и работают всеми силами. Ты знаешь,[500] нынче приехал в главную квартиру[501] Вейротер, – прибавил он, но Борис, хотя и сделал вид, что оценяет всю важность этого известия, решительно не знал, что[502] Вейротер был[503] австрийской генерал, от которого ждали всего в главной квартире. – Ну так видишь ли. У нас с утра до вечера то шпионы, то лазутчики. И верить им надо и поверить – может быть беда, каждый верит тому, чему ему хочется верить, (два теперь в кабинете), то спор о том, кому чем командовать. Все хотят побольше славы в будущей победе над Наполеоном. Австрийцы хотят захватить дела, нарочно путают наши диспозиции, бог знает что выдумывают на наши отряды. Каждую минуту нам запросы из главной квартиры государя. Мы не успеваем отписываться. Потом награды войску. Споры, обиды, рапорты, все недовольны, все обижены. Потом проэкты, писанья, нет конца. Что ни немец, то план, как разбить Бонапарта. Вот этот полковник, с которым я говорил, глупее моего Ивана, тоже с проэктом. И нельзя гонять их, надо приличия соблюдать. Главное наше горе – это фланговое движенье. Выдумали немцы, что Бонапарт выигрывает сражения только фланговым движением. Stratégie[504]… и не дают минуты покоя. Ежели бы они были одни, Михаил Иларионович мог их прогнать, а теперь нам их присылают из главной квартиры. Там они надоедят, pour s'en défaire on les envoie chez nous. Le général est d'une humeur de chien et pour ça, mon cher, ce n'est pas le moment.[505] Я тебе говорю, как есть. Я знаю, что ты честолюбив. Не отказывайся, это так надо. Ежели бы ты не был честолюбив, я бы никакого участия в тебе не принял.
– Ну, так лучше оставить, – сказал Борис. – Только скажи, есть надежда, оставшись в гвардии, быть в деле? – У Бориса голова шла кругом от нового мира, который он узнавал. Чтоб еще больше поразить и спутать Бориса, Волхонской, находившийся в особенно оживленно говорливом состоянии духа, сказал ему поразительные для Бориса слова.
– Да, ты думаешь, что мы (он разумел главную квартиру) можем тут что нибудь сделать. Главное, что мы ничтожнейшие теперь люди, мы не только для общего дела, мы прапорщика произвести не можем. Мы – ничто. Да, вся сила там, около государей. Адам, Долгорукий – вот это всё. Ах да, ты должен знать Петра Долгорукова. Твоя мать его очень знала. Пойдем к нему. Это сильнее Кутузова. Там делается и зачинается всё, а мы чернорабочие.
– Да мне ничего не нужно, – сказал Борис, краснея. – Ты меня ставишь в положенье какого то искателя, мне нужно было узнать, требовало ли приличие явиться к главнокомандующему после письма maman. Я только боялся быть неучтивым. А ты…
– Нет, пойдем к Долгорукому, я и так хотел и обещал зайти к нему вечером. – И таким тоном, которой не позволял возражения, он повел с собой Бориса. – Я зайду, скажу князю, что ухожу.[506] – Он оставил Бориса и вошел в затворенную дверь, прежде для Бориса казавшуюся входом в святилище власти, и теперь, после разговора с Волхонским, значительно упавшую в его глазах. Через пять минут он вышел оттуда. Генерал все еще должен был дожидаться.
– Пойдем, – сказал он Борису и после молчания, улыбаясь, покачал головой.
– Что? – спросил Борис.
Они вошли в адъютантскую комнату.
– Ну что? – спросил адъютант, писавший письма.
– Четыре немца на плане рассказывают: Бозевиц, Раузниц und endlich[507] Клаузевиц sammt Austerlitz,[508] – сказал, улыбаясь и доставая шляпу, Волхонской, передразнивая немцев (слово Аустерлиц тогда еще не имело другого значения, как всякое слово, кончающееся на иц), – а князь закрыл глаза и спит. Его позовут, обратятся к нему, он откроет глаза и знаешь: – да, да, да. Ohne Zweifel![509] – Адъютант засмеялся. – Не слыхал, курьер скоро едет?
– Должно быть в ночь. – Другой адъютант был граф Б., такой же аристократ, как и Волхонской.
Здесь в первый раз Борис видел знаменитого впоследствии Ермолова. Они только выходили, как вошел огромного роста, полный, с короткой шеей и огромными волосами артиллерийский офицер, с замечательно резким и красивым лицом.
– А князь! – сказал он Волхонскому голосом, который показался неестественным Борису, и с улыбкой, которая показалась еще притворнее Борису. – Мне вам два слова нужно.
– Что прикажете? Вы ко мне или к генералу?
– И к вам, и к генералу, – отвечал Ермолов с иронической и злой, как показалось Борису, улыбкой. – У вас, я знаю, решаются дела Европы, это хорошо. Но ежели моя рота (он командовал конной батареей, называвшейся тогда конной ротой) в предстоящем походе участвовать должна, то ей необходимо укомплектование лошадьми и корм для тех, кои остались. (Разговор происходил по русски). Я писал шесть рапортов о том же предмете ко всем своим ближним начальникам. Доложите, что я получить разрешение желаю.
– Я докладывал генералу, – отвечал сухо Волхонской, – и нынче он вечером приказал сделать распоряжение.
– Сделать распоряжение, – повторил Ермолов с той злою ирониею, которую Борису потом не раз случалось встречать между фронтовыми и штабными офицерами. – А могу ли я узнать, сделана ли диспозиция.
– Я ничего не могу сказать, – отвечал Волхонской сухо и с тем почти французским выговором или французской неловкостью говорить по русски, с которой он говорил невольно и многие говорили притворно.
– Затем имею честь кланяться, милостивой государь, – сказал Ермолов. – Я пройду к генералу.
– Там есть ординарец, – сказал Волхонской. – Вот человек, – прибавил он, – который сделает карьеру, но неприятный.
– Нет, славное лицо, – сказал Борис.
Они перешли только через два дома и вошли в дом, где жила в комнатах с дверьми на коридор свита государя. В коридоре этом они встретили, покуда прошли до крайней двери Долгорукова, человек пять, всё спешивших[510] людей. В том числе встретился светлый блондин и красавчик в адъютантском мундире, которого знал Борис. Это был брат В[олков]ых.
– Bonjour,[511] – радостно сказал Борис. Всегда, особенно в чужом месте и где робеешь всего, как робел Борис, [приятно] встретить старого знакомого. – Как вы здесь, давно-ли?
– Bonjour, bonjour, – отвечал, торопливо пожимая руку, Волков. Он пожал очень крепко руку. Это была его привычка. Он всем, хоть бы и самым ничтожным людям, жал крепко руку, чтобы не могли упрекнуть его в[512] пренебрежении; но он был очень важен нынче и так сказал Борису «а, и вы тут», что Борису показалось, он не узнал его. Борис в простоте души напомнил о себе, но это не изменило тон В[олк]ова.
– Очень рад. Вы куда? – и, не дожидаясь ответа, он прошел, гремя саблей.
– Ты знаешь, что с ним, отчего он так тебя третирует en dessous jambe,[513] – сказал Волхонской. – Государь ему сказал нынче несколько слов. Я это люблю наблюдать. Человек, как человек. Вдруг смотришь, совсем испортился. Я всегда уж и добираюсь – кто из царской фамилии с ним говорил.
– А сестра его какая милая! – сказал Борис.
– Sophie de Volkoff, – иронически сказал Волхонской, – m-me de Staël Moscovite,[514] как же знаю.
– Мой приятель Толстой был влюблен в нее.
– О! у него дурной вкус.[515]
Они вошли к Долгорукову. Он стоял у стола с немцом жидом над картой.
– А Волхонской! – закричал он, скорый, живой, здоровый, румяный, молодой, ни секунду не задумывавшийся и, очевидно, очень занятой чем то. Он не дослушал еще, кого с ним знакомили, или скорее представляли (потому что Борис не мог не заметить, что и Волхонской с Долгоруковым был иначе, чем с другими) и тотчас же пожал руку, и обильной речью обратился к Волхонскому и изредка к Борису. Борис своей милой, тихой наружностью сразу внушил доверчивость и симпатию.[516]
– Вот что, mon cher.[517] Наш авангард Багратион стоит у Вишау, Бонапарт бежит – с'est clair.[518] Его отряд у Вишау прикрывает отступленье, этот отряд не больше двух эскадронов. Его надо снять. Понимаешь? Вы понимаете, что это должно быть тайной, – обратился он к Борису. – Вот этот немец привез донесенье. Он был уже у Кутузова, ему не поверили, или не знаю что. Багратион доносит то же самое. Я не понимаю, об чем они думают: оставить убежать Бонапарте. Это я беру на себя. Я доложу нынче государю, не знаю, как решат и, ежели мне только поручат отряд, я отвечаю за всё. Хотите взять сотню лейб казаков?
Волхонской молчал, посмотрел на карту.
– Нет, я верю, мой старый дядя говорил: никуда на войне не напрашивайся, ни от чего не отказывайся.
– Я не понимаю, не понимаю, что с нами делают, – продолжал Долгоруков, садясь. – Можете итти, – прибавил он немцу. – У нас 190 тысяч войска (он прибавил тысяч 20). Мы ждем подкреплений из Венгрии, эрцгерцог в четырех переходах от нас, а мы ждем бог знает чего? Того, чтоб он ушел.
– Государь вас просят, – сказал вошедший камер лакей. Долгоруков докончил еще свою речь, пожал руки обоим, застегнулся и пошел. Придворная память напомнила ему, что он ничего не сказал Борису. Он повернулся к нему и просил заходить и передать поклон матери.
– Постойте, постойте, два слова. Ведь я зашел узнать о курьере. Пожалуйста, дайте знать, когда поедет, мне нужно писать домой, необходимо. – Долгоруков остановился на минуту в двери.
– Хорошо, непременно! – И они вместе вышли. Долгоруков однако вспомнил план и забежал взять его с собой. Во всем существе этого человека видно было много добродушия, непосредственности и легкомыслия.
Бориса волновала мысль о той близости к высшей власти, в которой он чувствовал себя. Он сознавал, что тут около него были те пружины, которые руководили все те громадные массы, в которых он участвовал и которые изменяли, так называемые, судьбы народов.
В коридоре они встретили красивого молодого человека, который выходил с лестницы от государя. Это был князь Адам Чарторижский. Он не знал Волхонского и Бориса. Он оглядел их равнодушно оскорбительным взглядом.
– Eh bien votre expédition, mon prince, est elle à flot? – спросил он y Долг[орукова]. – Je vous souhaite beaucoup de succès[519]….. – И он прошел спокойно и величественно. Дальше Борис не расслыхал, что они говорили. Один вышел, другой взошел к государю. Борис чувствовал себя в самом низу той лестницы, из которой Волхонской занимал 1-ое звено, Долгоруков 2-е, князь Адам 3-е, [4-е] должно быть сам государь, к которому шел теперь Долгорукой. Все эти люди, видимо, были чем то заняты, озабочены. Борис чувствовал в себе червяка честолюбия, еще больше расшевелившегося при близости места власти, но ему казалось, что у этих людей на верху почестей были, кроме честолюбия, другие интересы.
– Вот эти люди, – сказал Волхонской, как будто угадав его мысли, – уже не одними крестиками занимаются. Тут[520] интересы другие, важнее. Не люблю я этого князя Адама.
– А славное лицо! – сказал Борис.
– Да, это едва ли не самый замечательный человек из всей этой компании.
В покоях, занимаемых дипломатами, шел между тем жаркой спор о том, как адресовать ответное письмо Бонапарту. «Au général Bonaparte»[521] было отвергнуто. «Au premier consul»[522] было тоже невозможно. «L'empereur des français»[523] было противно желанию государя. «A l'ennemi du genre humain»[524]… шутил один из дипломатов. «Messieurs, il faut quelque chose qui, sans blesser Bonaparte et sans nous compromettre, ne lui accorda point le titre d'empereur».[525]
– Bonaparte – tyran et usurpateur,[526] – опять сказал шутник.
– Messieurs, ce n'est pas le moment…[527] И долго спорили об этом вопросе.
Свидание Бориса с Волхонским кончилось ничем. Он вернулся домой только с неприятным и неловким чувством, как будто он что то сделал нехорошее, и с новым для него недовольством и презрением к тому полковому миру, с которым он сжился уже шесть месяцев. Гвардейский полковой мир был совсем особенный от того гусарского, в котором жил Толстой. В Семеновском полку почти не бывало кутежей, играло только несколько офицеров и то всегда на чистые деньги. Обеды давались парадные. Пьянства совсем не было. Товарищества было гораздо менее, чем у гусар. Не говорили друг другу «ты», иногда по месяцам не видались с офицерами других рот. Дисциплина была строже, много занимались фронтовой службой, опрятность и даже щегольство в одежде были в моде. Многие офицеры занимались военными науками и математикой, в том числе и Борис, и вообще образование было значительно более распространено и значительно выше, чем теперь. Борис занимался математикой и писал свой дневник. 14-го ноября было записано у него: «Никакого ответа на письмо. Я останусь во фронте. Мне очень жалко, что я был у Волхонского. Я люблю славу, но я ничего не сделаю для того, чтобы искать власти, а буду ждать ее. Встречался с австрийцами. Они все мне невыносимо противны. Толстой прислал просить у меня пятьсот рублей, я отдал ему последние. Боюсь, что он кончит дурно. Берг невыносим своей глупостью и эгоизмом. Я никогда не слыхал от него слова и мысли, которая бы не касалась его. Вчера получил письмо от maman и отвечал. Она пишет, что Наташа очень скучна. Для нее только я хочу славы и власти. Сейчас узнал, что великий князь и даже все полковые командиры поехали на военный совет в главную квартиру. Говорят, что завтра будет сражение. Мне страшно, но я только для этого служу, и потому я готов сделать всё, что могу, и от всей души».[528]
<Так наступило 15 число ноября, день выступления армии из Ольмюца. Накануне в военном совете, в котором присутствовали оба императора, было решено итти вперед и атаковать Бонапарта там, где его застанут. Боялись одного, чтобы он не ушел от нас. Как происходил этот военный совет, что говорилось в нем, есть дело военной истории. Как действовал и говорил приснопамятный русским еще со времен Суворова обер гоф кригс рат в лице гениального полковника Вейротера и других ученых, гордых и неприступных австрийцев, как подумали немцы, отчего бьет всех Бонапарт, подумали, анализировали, вникнули и нашли и решили, что всё дело в фланговом движении и в стратегии (тогда это было новое, только что выдуманное немцами слово), и как все поверили этому, как и что думал Кутузов, соглашаясь на всё и притворяясь спящим, как и кто обдумывали вопрос о том, уничтожив Бонапартия, оставить ли ему трон Франции или отдать его Бурбонам, – всё это останется навсегда неизвестным. Дело исполнено было: итти догонять и бить Бонапартия, но решено дело вовсе не было. Те, которые говорили, что надо ждать соединения с эрцгерцогом и решения вопроса о союзе Пруссии, так и остались при своем мнении. Разъехались из совета поздно, кто веселый, достигнув цели и надеясь на победу, кто грустный, не достигнув цели и боясь победы, кто веселый, ожидая поражения, кто убежденный в измене.[529] Мы не пишем военной истории, но наше странное убеждение то, что вопрос о том, наступать или нет, решил в положительном смысле не Вейротер, не Долгоруков, не император, но Ольмюц, великолепный смотр при ясном солнце.
Только все разъехались и молва о выступлении разнеслась в тот же вечер по войскам и подействовала различно. Волхонской в адъютантской, услыхав новость, швырнул на пол красивой разрезной ножик и сказал, что мы будем расколочены, и потом никому не хотел объяснить своих слов и принялся за книжку романа. Корчаков никакого не составил себе мнения о предстоящем и сходил вечером к полковому командиру послушать, что говорят, вернулся, стал укладываться, осмотрел свои вьюки, расчелся с хозяевами и стал сам оттачивать свою шпагу. Берг пошел к батальонному командиру чего то требовать для своей роты, уравнивавшему его с другим ротным командиром. Толстой обрадовался, очнулся и пошел к товарищу и, после проигрыша, в первый раз пропил до утра. Ермолов[530] читал Тацита, лежа в палатке. Пехотный армейский капитан ругался с деньщиком. У фелдвебелей и вахмистров на всю ночь пошла забота о том, что взять и что оставить, солдатики не жалели уже дров и жгли всю ночь заборы и двери, натасканные прежде. Кое какие шалаши они оставляли в наследство немцам, смеялись, слушали сказки и, голые, выпаривали вшей из рубах.[531] Редкой кто знал из вновь пришедших, с кем дерутся. Молодые солдаты сбивались, называя французов туркой, только старые кутузовские знали и по своему объясняли стратегические планы начальников. Один говорил, что как до Моравского берега (какой?) дойдем, так ему (кому) шабаш. Тогда на австрияка пойдем. Другой говорил, что француз в горах жил, что его Суворов растревожил из гор, с тех пор и пошло.
– Ну, брат, с нами не то, что с Макой справляться, – говорил четвертый. Толковали и об Вишау, который знали пришедшие с Кутузовым и знали, что там француз, сам Бонапартий стоит.
– Что у него там крепость разбита на всю гору, страсть. Боялись, что турка к нему подойдет, тогда беда, – и тем объясняли поспешность похода. Говорили и что пруссак с поляком бунтуют и австрияк бы туда же, да не смеет, его окружили, значит.
Они в полной уверенности были, что Австрия завоевана, и потому грабили и истребляли везде, сколько могли, и только постоянным присутствием офицеров можно было остановить их. Когда мы отступали, мы истребляли все, чтобы не оставлять провиант неприятелю, теперь мы наступали, но им казалось все таки лучше сжечь, как бы не досталось, хоть не французу, но австрияку, который тоже был виноват, и чем лучше была штука, тем больше он был виноват. Политика и дипломация тут была своя и мотивы этой политики и дипломации были те же, которые и обсуживались в военном совете при двух императорах. Все даже было справедливо. Сущность была: австрияк изменник. Поляк и пруссак мешают. Одно было особенно, что никто из этих шестидесяти тысяч человек не то что не сомневался в победе, но не задавал себе вопроса: будет ли победа или пораженье. Никто не спрашивал себя, что лучше: так или этак? И никто не боялся за себя. А каждый был рад перемене. Надоел уж этот Гольмуцкой лагерь и это бездействие, и этот недостаток провианта. В ночь скакали адъютанты, квартирмейстеры. Писари писали бумаги уже не красивыми, но скорыми разгонистыми почерками. Ординарцы и казаки, которых разобрано по штабам огромное количество, разъезжались по частям войск. Коляски, брички и дрожки, кухни главной квартиры занимали огромные пространства и невольно обращали внимание. Как в главной квартире была своего рода непризнанная законом, но сильнейшая субординация, так и между этими господами: флигельадъютантской обоз отнимал место у генеральского.
– Я генералу скажу.
– Испугал меня генерал, – отвечал другой. – Разве может из императорской квартиры отстать от царских колясок, дурак! Откормленные лакеи важных господ сидели в колясках, покуривая сигары, приказывали состоящим при них казакам и перешучивались или бранились, были дерзки даже с офицерами и снимали шапки только, когда подъезжали их господа.
На другой день рано утром рассвет застал все русское войско в пяти колоннах во строю, дожидавшихся приказания к выступлению. Русские пять колонн вели: 1) немец Вимпфен, 2) француз Ланжерон, 3) поляк Пржебышевский, 4) немец Лихтен[штейн], 5) немец Гогенлое. Высшие чиновники, приближенные к власти, были, как я сказал, разнородных, но определенных мнений о походе. Одни шли с надеждой на поражение, другие с страхом и уверенностью в нем, и редкие с надеждой на успех. Средние офицеры были в сомнении и заняты другими, более честолюбивыми интересами, низшие – солдаты особенно, были твердо уверены, что идут и больше ничего. Куда, зачем? они и не интересовались этим и никто не позаботился сказать им этого. Для тех, которые были бы [в] сомнении о предстоящих успехах, сомнение бы это исчезло, как скоро все увидали друг друга. Громадные массы, стройно стоявшие под ружьем и при встрече выехавшего государя прокричавшие «ура». Колонны двинулись[532] по команде в ногу, с развевающимися знаменами и с музыкой. Государь проехал мимо гвардии и присоединился к передней колонне Пршебышевского, шедшей впереди. Скоро загремела музыка, песни. Войско весело шло на свою погибель. Борис, узнав, что они идут в резерве, испытал первое чувство радости за то, что они не скоро еще будут в деле, второе чувство было досада и раскаянье в том, что он не пошел к Кутузову и не выпросил себе адъютантского назначения. Первый переход был верст пятнадцать. Авангард с Багратионом стоял против Вишау. Толстой находился в эскадроне, посланном туда.
У него было дело с полковым командиром за отлучку. Ему был сделан выговор и хотели посадить под арест. Он принадлежал к русской партии и хотел доказать, что он не послушается, и угрожал прибить полкового командира. Казначей полка донес это полковому командиру и требовал объяснений. Толстой говорил, что он даст это объяснение только самому полковому командиру и кулаком по роже.[533]
15 ноября вечером <Толстой> имел триумф, которого он не ожидал. Полковой командир, проходя мимо его палатки, сам подошел к нему и сказал:
– Господа, теперь не время спорить. Граф Толстой, вы будьте осторожны в словах, а я ничего не слышал и ничего не знаю. – Полковой командир был немец.
– И я, ваше превосходительство, ничего не слышал и не знаю, – отвечал Толстой, – я только полагаю, что объяснений никаких не нужно для вашего спокойствия. Что?
– Ну, ничего, ничего, – сказал полковой командир. – Господа, надо быть готовым, мы завтра будем в деле. – Полковой командир, хотя было только два эскадрона, приехал сюда, чтобы получить награду. – Нынче приедет князь Долгоруков, ночует здесь и завтра поведет наш отряд на Вишау, я надеюсь, господа. Да, – и он пошел дальше. 2-й эскадрон стоял на скате горы в винограднике. Подле него направо была палатка Багратиона, налево коновязи конной роты, спереди были офицерские палатки, сзади коновязи. Палатка Толстого была прямо обращена лицом к неприятелю. Гусары, любившие его, сделали ему лавочки, он сидел на них с офицерами, пили [1 неразобр.] и в трубу, принесенную артиллеристом, рассматривали конные разъезды неприятеля.
Был ясный вечер, сбиралось замораживать. Налево расстилались горы Моравии, сливаясь с Альпами, не доходя видны были две деревни с церквами, немного правее было местечко Вишау, в версте расстояния направо вид загораживался рядом палаток.







