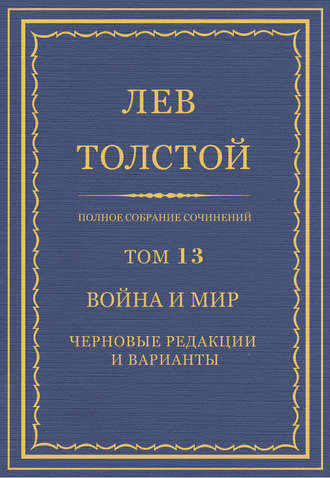
Лев Толстой
Полное собрание сочинений. Том 13. Война и мир. Черновые редакции и варианты
– Да, подъехать… да что же, вместе, – отвечал Nicolas, вглядываясь в Ерзу и в черного кобеля дядюшки, не в силах скрыть волнения, что приходит минута поровнять своих собак с чужими, особенно с Илагинскими, славившимися своей резвостью, и чего ему еще ни разу не удалось сделать. «Ну, что как с ушей оборвут мою Милку».
– Матерый? – спрашивал Илагин, подаваясь к месту и не без волнения оглядываясь и подсвистывая Ерзу. – А вы, Михаил Никанорович, – обратился он к дядюшке. Дядюшка ехал, насупившись.
– Что мне соваться, ведь ваши по деревне плачены собаки. Ругай, на, на, – крикнул, – Ругаюшка, – прибавил он, невольно этим уменьшительным выражая свою нежность и надежды, возлагаемые на этого красного кобеля. Наташа чувствовала то же, что и другие, и не скрывая волновалась, и вперед уже чувствовала и выражала даже ненависть ко всем собакам, которые смеют поймать зайца вместо ее Завидки.
– Куда головой лежит. Отъезжай, отведи гончих, – крикнул кто-то; но не успели еще исполнить этих распоряжений, как русак, чуя мороз к завтрашнему утру, не вылежал и вскочил,[3489] сначала приложив одно ухо. Гончие на смычках, преследуемые доезжачими, понеслись за ним. Борзятники со всех сторон, так везде было, выпустили собак. Почтенный спокойный Илагин под гору выпустил свою лошадь, Nicolas, Наташа и дядюшка летели, сами не зная как и куда, видя только собак и зайца и боясь только потерять хоть на мгновение их из вида.
Заяц попался матерый и резвый. Он лежал на жнивах, но впереди были зеленя, по которым было топко. Нетерпеливая Наташа была ближе всех к зайцу. Ее собаки первые воззрились и поскакали. Но к ужасу ее, она заметила, что надежная ее Завидка стала мастерить, взяла в сторону, две молодые ее стали придвигаться, но еще далеко не достали, как из-за них вылетела краснопегая Ерза и приблизилась к зайцу на собаку и стала вилять за ним, вот вот обещая схватить его. Но это продолжалось мгновение. С Ерзой сравнялся Любим и даже высунулся из-за нее.
– Любимушка! батюшка! – послышался торжествующий крик Nicolas. Наташа только визжала без слов. Казалось, сейчас ударит Любим и там и другие подхватят, но Любим догнал и пронесся. Русак отсел и отделился, опять насела красавица Ерза и повисла над хвостом русака, повисла, примеряясь как будто, как бы не ошибясь схватить за заднюю ляжку.
– Ерза, матушка! – послышался плачущий не свой голос Илагина. Но Ерза не вняла его мольбам, она на самой границе зеленей дала угонку, но не крутую, русак вихнул и выкатил на зеленя; опять Ерза, как дышловая пара, выровнялась с Любимом и стала спеть к зайцу, хотя уже не так быстро, как по жнивам.
– Ругай, Ругаюшка.[3490] Чистое дело марш, – закричал в это время голос, и Ругай, утопая по колена, тяжелый, грузный, красный кобель, вытягиваясь и выгибая спину, стал с первыми двумя выступать из-за них, обогнал их, наддал с страшным самоотвержением уже над самым зайцем, и только видно было, как он кубарем, пачкая спину в грязь, покатился и звезда собак окружила его. Через минуту все стояли над зайцем. Один счастливец дядюшка слез и, отпазанчив и потрях[ив]ая зайца, чтоб стекала кровь, тревожно оглядывался, бегая глазами и не находя положения рукам и ногам, говорил, сам не зная с кем.
– Вот это собака… вот вытянул – чистое дело марш, – говорил он, задыхаясь, как будто ругая кого-то, как будто все были его враги, все его обижали и наконец он оправдался. – Вот вам и тысячные, чистое дело марш. Ругай, на̀ пазанку, —говорил он, кидая лапу с налипшей землей, – заслужил, чистое дело марш. Что прометался.
– Он вымахался, три угонки дал один, – говорил Nicolas, тоже не слушая никого и не заботясь о том, слушают его или нет, и забыв свое старание казаться всегда равнодушно спокойным. – А это что же впоперечь?
– Да, как осеклась, так с угонки всякая дворняшка поймает, – говорил также в одно время Илагин, красный и задохшийся от скакания.
Наташа визжала в одно [и то] же время, не переводя духа, так что в ушах звенело. Она не могла не визжать всякий раз, как при ней затравливали зайца. Она, как какой-то обряд совершала этим визгом. Она этим визгом выражала всё то, что выражали и другие охотники своими единовременными разговорами. Дядюшка сам второчил русака, перекинул его ловко и бойко, как бы упрекая всех этим перекидыванием, и с видом, что он и говорить ни с кем не хочет, поехал прочь.
Все, кроме него грустные и оскорбленные, разъехались и только долго после могли притти в прежнее притворство равнодушия, но долго еще поглядывали на красного Ругая, который с испачканной землей горбатой спиной, с спокойным видом победителя шел рысцой за ногами лошади дядюшки, слегка побрякивая железкой.
«Что ж я такой же, как и все, когда дело не коснется до травли. Ну, а уж тут держись, всем очки вотру».
Когда долго после дядюшка подъехал к Nicolas и просто заговорил с ним, Nicolas был польщен, что дядюшка после всего, что было, еще удостоивает говорить с ним.
В угори нашли мало, да и было уже поздно. Охоты разъехались, но Nicolas было так далеко итти домой, что он принял предложение дядюшки оставить охоты ночевать у него (у дядюшки) в его деревеньке Михайловке, бывшей от угори в двух верстах.
– И сами бы заехали ко мне, чистое дело марш, видите погода мокрая, – говорил дядюшка, особенно оживляясь, – отдохнули бы, графиню бы отвезли в дрожечках.[3491]
Охота пришла в Михайловку, и Nicolas с Наташей слезли у маленького, заросшего садом, серого домика дядюшки.
[Далее со слов: Человек пять больших и малых дворовых… кончая: Но она была очень счастлива. – близко к печатному тексту. T. II, ч. 4, гл. VII.]
Уже подъезжая к дому, она вдруг запела мотив песни «Как заутра выпадала», мотив, который она ловила всю дорогу и наконец поймала.
– Отлично, – сказал Nicolas.
– Ты об чем думал теперь, Nicolas? – спросила Наташа. Они любили это спрашивать друг у друга.
– Я, – сказал Nicolas, раздумывая, – а вот видишь ли, сначала я думал, что Ругай, красный кобель, похож на дядюшку и что ежели бы он был человек, то он дядюшку всё бы еще держал у себя за лады,[3492] дядюшку. Как он ладен, дядюшка, а? – Он захохотал.– Ну, а ты?
– А я ничего не думала, а только всю дорогу твержу про себя: ich bezeuge dich, mein lieber Pumpernikel, ich bezeuge dich, mein lieber Pumpernikel,[3493] – повторила она и еще звучнее захохотала Наташа.
– А знаешь, – вдруг сказала она, – я знаю, что никогда уже я не буду так счастлива, спокойна, как теперь.
– Вот вздор, глупости, врешь, – сказал Nicolas и подумал: «что за прелесть эта моя Наташа, такого другого друга и товарища у меня нет и не будет».
«Экая прелесть этот Nicolas», думала Наташа.
– А, еще огонь в гостиной, – сказала она, указывая на окна Отрадненского дома, краси[во] блестевшие в мокрой темноте ночи. – Ну, уж зададут тебе. Мама велела…
* № 126 (рук. № 89. T. II, ч. 4, гл. VIII, IX, XIII).
<Секрет Наташи о ее отношениях с Андреем, о взаимном, связывающем [его], но не связывающем ее обещании, как и должно было предполагать, был секретом только в том смысле, что, говоря про это, все говорили, что это секрет. Все в доме знали про это. Наташа не могла удержаться и рассказала про это брату и Соне. Графиня не могла не сказать мужу.
В продолжение восьми месяцев было получено одно письмо из Тирасполя. Князь Андрей писал графине почтительно и несколько холодно, как показалось Наташе. Он просил передать Натали, что считает дни и часы, отделяющие его от назначенного срока свидания, просит верить, что, ежели чувства его изменились, то только в том, что они стали сильнее, обещался писать еще один раз и просил Натали в конце года написать ему только одно короткое слово: «приезжайте», которое сделает его счастливым, или другое слово «не приезжайте», которого он ожидает, не считая себя достойным руки дочери графини, и которое он примет безропотно – своей навеки преданности и любви к Наташе.
Прочтя это письмо, Наташа долго, ничего не говоря, сидела с письмом в руках (это было еще до приезда Nicolas) и потом разрыдалась до истерики озлобления, как это почти всегда с ней бывало[3494] Она детски сердито кричала на мать, чтоб ее оставили в покое, что она несчастна, и что никто этого не понимает. Как балованный ребенок, которому не дали сейчас в руки игрушку, она плакала и не верила, что когда-нибудь эта игрушка будет ее. Еще почти год! Это легко было сказать тому, кто прожил пятьдесят таких годов, но для нее год это был такой же длинный и полный впечатлений, чувств и изменений взглядов период, как и вся ее молодость, с шестнадцати до семнадцати лет. «И что за дурацкие опыты? Что он хочет испытывать? Нечего испытывать. Ежели бы он любил меня так же, как я его. Целый год!.. Нет, он гордый человек, я его ненавижу… Целый год… А вот я на зло влюблюсь в кого-нибудь – вот он и будет знать – целый год», говорила она сквозь слезы. Потом сквозь слезы же она стала улыбаться, вспоминая бал Нарышкиных, вспоминая его таким, какой он был на другой день. На другой день, проспавши ночь над своим горем, Наташа перестала думать о нем. Она не то, чтобы помирилась с мыслью ждать его целый год. Этого она не могла. Ежели бы она старалась это сделать, она бы только всё больше и больше раздражалась – она забыла – нарочно забыла и не думала об этом. Она с одной стороны слишком сильно чувствовала для того, чтобы быть в состоянии долго чувствовать, с другой стороны она так сильно чувствовала, что боялась отдаваться этому сильному чувству, и способна была увлекаться беспрестанно всеми теми радостями, которые ей представлялись.>
* № 127 (рук. № 89. T. II, ч. 4, гл. VIII, IX, XIII).
Поздней осенью получено было еще письмо от князя Андрея, в котором он писал, что здоровье его совсем хорошо, что он любит свою дорогую невесту больше, чем когда-нибудь, и считает часы до счастливой минуты свидания, но что есть обстоятельства, о которых не стоит говорить, которые мешают ему приехать раньше определенного срока. Наташа и графиня поняли, что эти обстоятельства было согласие отца. Он умоляет Наташу не забывать его, но с замиранием сердца повторяет прежнее, что она свободна и всё таки может отказать ему, ежели она разлюбит его и полюбит другого.
– Какой дурак! – закричала Наташа со слезами на глазах. В письме он присылал свой миниатюрный портрет и просил Наташин. «Только теперь, после шести месяцев разлуки, я понял, как сильно и страстно я люблю вас. Нет минуты, в которую бы я забыл вас, нет радости, при которой бы я не подумал о вас». Несколько дней Наташа ходила с восторженными глазами, говорила только про него и считала дни до пятнадцатого февраля. Но это было слишком тяжело. Чем сильнее она любила его, тем страстнее отдалась она мелким радостям жизни.[3495]
Она опять забыла и, как она говорила Nicolas, никогда в жизни она не испытывала, ни прежде, ни потом, той свободы, того интереса к жизни, который она испытывала в эти восемь месяцев. Зная, что вопрос о замужстве, о счастьи жизни, о любви решен, сознавая (хотя и умышленно не думая об этом), что есть мущина, лучший из всех, который любит ее, – в ней исчезло это прежнее беспокойство, тревога при виде каждого мущины и потребность[3496] нравственно присвоить себе каждого, весь мир с своими бесчисленными радостями, не заслоненный уж этой кокетливой тревогой, открылся перед нею. Никогда не чувствовались ею ни красоты природы, ни музыки, ни поэзии, ни прелесть семейной любви, дружбы с такою ясностью и простотой. Она чувствовала себя проще, добрее и умнее. Она редко вспоминала и не позволяла себе углубляться в мысли об Андрее и не боялась забыть его. Ей казалось, что это чувство так сильно вкоренилось в ее душе. С приездом брата начался для нее совершенно новый мир товарищеской, равной – дружбы, охоты и всего того коренного,[3497] природного и дикого, связанного с этого рода жизнью. Старый вдовец злодей [?] Илагин, пленившись Наташей, стал ездить и через сваху сделал предложение. Прежде бы это польстило Наташе, она забавлялась бы и см[еялась], но теперь она оскорбилась за князя Андрея. «Как он посмел?» думала [Наташа.]
* № 128 (рук. № 89. T. II, ч. 4, гл. VIII—XIII).
Граф Илья Андреевич вышел из предводителей, потому что эта должность была сопряжена с слишком большими расходами, и, не имея больше надежды получить место, остался на зиму в деревне. Но дела всё не поправлялись, часто Наташа и Nicolas видели тайные, беспокойные переговоры родителей и слыхали толки о продаже богатого родового московского дома и подмосковной. Лучшие знакомые, соседи уехали в Москву, без предводительства не нужно было иметь такого большого приема, и жизнь отрадненская велась тише, чем в прежние года, и от этого еще приятнее. Огромный дом и флигеля всё таки были полны, за стол всё таки садилось больше двадцати человек, но всё это были свои, обжившиеся в доме, почти члены семейства. Такими были музыкант Димлер с женой, Иогель с семейством, барышня Белова, жившая в доме, и еще другие. Не было приезда, но ход жизни велся тот же, без которого не могли граф с графиней представить себе жизни. Та же была, еще увеличенная Nicolas, охота, те же пятьдесят лошадей и пятнадцать кучеров на конюшне, тот же сказочник слепой рассказывал на ночь графине сказки, те же два шута в золотых бахромах приходили к столу и чаю и получали полоскательные чашки с чаем, с сухарем и так же говорили свои заученные, мнимо смешные речи, которым из снисходительности улыбались господа. Те же учителя и гувернеры для Пети, те же дорогие друг другу подарки в имянины и торжественные на весь уезд обеды. Те же графские висты и бостоны, в которых он, распуская веером всем на вид карты, давал себя каждый день на сотни объигрывать соседям, смотревшим на право составлять партию графа Ильи Андреевича, как на самую выгодную аренду. Берг настоятельно и холодно, учтиво, с каждой почтой писал, что они находятся в затруднении и что нужно получить все деньги по векселю. Граф, как в огромных тенетах, ходил в своих делах, стараясь не верить тому, что он запутался, и с каждым шагом всё более и более запутываясь и чувствуя себя не в силах ни разорвать сети, ни осторожно, терпеливо приняться распутывать ее. Графиня никак бы не умела сказать, как она смотрит на это дело, но она любящим сердцем чувствовала, что дети ее разоряются, что граф не виноват, что он не может быть другим, что он сам страдает, хотя и скрывает это. Графиня искала средства и с своей женской точки зрения нашла только одно, женитьбу Nicolas. Она с своей апатией и ленью искала, думала, писала письма, советовалась с графом и наконец нашла, и нашла, по ее понятиям, такую счастливую, во всех отношениях выгодную партию для Nicolas, что она чувствовала, что лучше этого найти нельзя и что ежели от этой откажется Nicolas, то надо навсегда отказаться поправить дела. Партия эта была Жюли[3498] Корнакова, известная с детства Ростовым, отличного семейства, дочь прекрасной, добродетельной[3499] матери и теперь богатая невеста по случаю смерти последнего из ее братьев. Графиня писала прямо к[3500] А. М. в Москву и получила от[3501] А. М. благоприятный ответ и приглашение Nicolas приехать в Москву. С этой стороны всё было хорошо, но графиня чутьем понимала, что Nicolas по его характеру отвергнет с негодованием брак по расчету, и потому она, изощряя всю свою дипломатическую способность, несколько раз с слезами говорила Nicolas о ее единственном желании видеть его женатым, о том, как бы она легла в гроб спокойной, ежели бы это было, о том, какая есть прекрасная девушка у нее на примете. В других разговорах она хвалила Жюли Ах[расимову] и советовала Nicolas съездить в Москву на праздники повеселиться. Nicolas догадался очень скоро, к чему клонились разговоры, он вызвал ее на откровенность, и когда она сказала ему, что вся надежда поправления дел теперь в его женитьбе, он с жестокостью, которую сам не понимал, спросил мать, неужели бы, ежели бы он любил девушку без состояния, она бы потребовала, чтоб он пожертвовал чувством и честью для состояния. (Nicolas испытывал в это время то же чувство, как и Наташа, спокойствия, свободы и отдохновения в несложных условиях жизни. Ему было так хорошо, что он ни в каком случае не желал менять своего положения и потому менее чем когда нибудь мог спокойно думать о женитьбе.) Мать ничего не отвечала и расплакалась.
– Нет, ты меня не понял, – говорила она, не зная, что сказать и как оправдаться.
– Маменька, не плачьте, а только скажите мне, что вы этого хотите, и вы знаете, что я всю жизнь свою, всё отдам для того, чтобы вы были спокойны, – сказал Nicolas, но графиня, хотя и верила ему, чувствовала, что весь план ее рушился.
«Да может быть я и люблю бедную девушку», говорил сам себе Nicolas и с этого дня, хотя он прежде был совершенно равнодушен к Соне, стал более и более сближаться с ней.
«Жертвовать своим чувством я всегда могу для блага своих родных», говорил он сам себе, «но чувству своему я не могу приказывать, коли я полюблю ее».
После охоты начались длинные зимние вечера, но Nicolas, Наташе и Соне было не скучно. Кроме волкобоен для Nicolas, для них всех: троек, катанья, горы, затем театров, музыки, дружеской болтовни, громкие чтения (они прочли «Corinne» и «Nouvelle Héloïse») счастливо и вполне занимали их время.
Nicolas сидел по утрам в своем накуренном кабинете с трубкой и книгой, хотя ему и нечего было делать отдельно, но так, потому что он был мущина. И барышни с уважением нюхали этот запах табаку и судили об его этой отдельной, мужской жизни, во время которой он либо читал, либо куря лежал и думал, то о будущей женитьбе, то о прошедшем службы, то о Карае и его будущих щенках и гривастой лошади, то о Матреше, сенной девушке, то о том, что Милка всё таки косолапа. Но зато тем веселее была их жизнь вместе, когда он к ним присоединялся и особенно когда за фортепьянами или просто в диванной с гитарой они засиживались за полночь[3502] за такими разговорами, которые для них одних имели смысл. Обыкновенно у Наташи каждый день бывала какая-нибудь новая поговорка или шуточка, которой нельзя было не смеяться, то «éch[appement] à cilyndre»,[3503] то «остров Мадагаскар», которые она говорила с особенным чувством. Потом,[3504] когда расходились, она вскакивала на спину Nicolas и требовала, что[бы] он так нес ее наверх спать, и там задерживала его, сближая его с Соней и радостно сощуренными, сонными глазками изредка поглядывая на их любовное шушуканье.[3505]
–
Пришли святки. Кроме парадной обедни, на которой в первый раз пела Наташа с Nicolas, дьячком и охотниками разученные духовные песни, торжественных и скучных поздравлений соседей и дворовых, ничего особенного, ознаменовывающего святки не было. Так прошел тихо и грустно первый, второй и третий день праздников. А в воздухе, в солнце, в рожественском, безветренном, двадцатиградусном морозе, в холодном лунном свете, в блестках снега, в пустоте передней и девичьей, из которых отпрашивались погулять и, запыхавшись и принося мороз, красные прибегали из дворни, во всем этом было то поэтическое требование ознаменования праздника, которое делает грустным тишину во время праздников.
После обеда Nicolas, ездивший утром к соседям, вздремнул в диванной. Соня вошла и вышла на ципочках. Свечей не подавали, и в комнату отчетливо ложились тени и лунный свет рам. Наташа пела, после обеда посидела с задремывавшим папенькой, потом пошла ходить по дому. В девичьей[3506] никого не было, кроме старух. Она подсела к ним и выслушала историю о гаданьи и о том, как в баню подъехал суженый и при крике петуха рассыпался, потом пошла к Димлерам в комнату. Музыкант с очками на носу читал что-то перед свечкой, жена шила. Только что они подвинули ей стул и выразили удовольствие ее видеть, она встала и ушла, внушительно проговорив:[3507] «остров Мадагаскар, остров Мадагаскар»[3508] Димлеры не обиделись. Никто не обижался на Наташу. Потом она пошла в переднюю и послала одного лакея за петухом, другого за овсом, третьего за мелом, но как только они принесли ей это всё, она сказала, что не надо, и велела отнести. И лакеи, даже старики почтенные, с которыми старый граф обращался осторожно, никогда не сердились на Наташу, несмотря на то, что Наташа беспрестанно помыкала ими, мучала посылками, как будто пробуя, «что рассердится, надуется он на меня? Достанет у него духа».[3509] Горничная Дуняша была самый несчастный человек: ни минуты она не имела покоя от своей барышни, которая, ежели не требовала то того, то другого, растрепывала Дуняше косу или портила ее платье, вместо того чтобы дарить ей, и несмотря [на это] Дуняша умерла с тоски, как она раз, заболев, прожила две недели на дворне без барышни, и пришла служить еще слабая и больная. Из передней Наташа пошла в гостиную. Найдя там мать с барышней Беловой за круглым столом, раскладывающую пасьянс, она смешала ей карты, поцеловала в душку и пошла велеть подавать самовар, хотя это было вовсе не время. Самовар велели унести.
– Уж эта барышня, – сказал Фока, унося самовар, не в силах и не желая рассердиться.[3510] Наташа засмеялась, глядя в глаза Фоке, и за этот-то смех никто не сердился на нее.
– Настасья Иваныч, что от меня родится? – спросила она проходя у шута.
– От тебя блохи, стрекозы, кузнецы, – отвечал шут. Наташа спросила только у шута, но не слушала его ответа, она редко смеялась шуту и не любила говорить с ним. Как будто обойдя свое царство и испытав свою власть и убедившись, что все покорны, Наташа пошла в залу, взяла гитару, села в темный угол и стала в басу перебирать струны, выделывая фразу, которую она запомнила из одной оперы. Для посторонних слушателей на гитаре у нее выходило «ту-ить, ту-ить», не имевшее никакого смысла, но в ее воображении из-за этого «ту-ить» воскресал целый ряд воспоминаний[3511] Она сидела в уголке и, с серьезной улыбкой устремив глаза, слушала себя и вспоминала – всё вспоминала. Она находилась в состоянии воспоминания. Сначала звуки этой толстой струны напоминали ей целый ряд впечатлений из прошлого, но когда она перевспоминала всё из того времени, ей нечего было вспоминать, но всё таки хотелось находиться в этом полугрустном состоянии воспоминания. И вдруг ей представилось, что она вспоминает настоящее, что то, что она сидит теперь с гитарой в углу, и в щель буфетной двери падает свет, что это было, и еще прежде было, и было, что она вспоминала, что это было. Соня зачем-то прошла в буфет, в конец залы. И это было точь в точь так же.
– Соня, что это? – крикнула Наташа, делая свое «ту-ить, ту-ить» на толстой струне. Соня подошла и прислушалась.
– Не знаю, – сказала она, как всегда робея перед теми странными разговорами, которые бывали между Nicolas и Наташей о разных бессмысленных тонкостях, которых она, Соня, не понимала. А ей особенно больно это было перед Nicolas, который, она видела, особенно ценил эти непонятные разговоры.
– Не знаю, – сказала она,[3512] – буря! – сказала она, робко угадывая, боясь ошибиться. Соня всегда, когда заходили такие разговоры, испытывала совсем особенное от Nicolas и Наташи поэтическое удовольствие. Она не понимала, в чем они находят удовольствие и в этих разговорах и в музыке, но она чувствовала и верила, что тут совершается что-то хорошее, и с любимым Nicolas Соня[3513] старалась усвоить себе это отражение. «Ну вот точно так робко она улыбнулась тогда, когда это уж было», – подумала Наташа, «и точно так же…».
– Нет, это хор, разве не слышишь: «ту-ить», «ту-ить»? – и Наташа допела, чтобы дать понять.
– Ты куда ходила? – спросила Наташа.
– Воду в рюмку переменить, я срисовываю узор мамаше. – Соня всегда бывала занята.
– A Nicolas где?
– Спит, кажется, в диванной.
– Поди, разбуди его, – сказала Наташа. – Я сейчас приду.[3514]
Она посидела, подумала, что это значит, что всё это было, и, не разрешив этого вопроса и нисколько не сожалея о том, что не разрешила его: «Ах поскорее бы он приехал. Я так боюсь, что этого не будет. А главное: я стареюсь, вот что. Уж того, что теперь есть во мне…» <Она> встала, бросила гитару и пошла в гостиную.
Все домашние сидели уж за чайным столом; из гостей был дядюшка. Люди стояли вокруг стола. Наташа вошла и остановилась.
– А, вот она,– сказал Илья Андреевич. Наташа оглядывалась кругом.
– Что тебе надо? – спросила мать.
– Мужа надо. Дайте мне мужа, мама, дайте мне мужа, – закричала она своим грудным голосом, сквозь чуть заметную улыбку, точно таким голосом, каким она за обедом ребенком требовала пирожного. В первую секунду все были озадачены, испуганы этими словами, но сомнение продолжалось только одну секунду. Это было смешно, и все, даже лакеи и шут Настасья Иваныч, рассмеялись. Наташа знала и злоупотребляла даже тем, что она знала, что не от того она будет мила и приятна, что она то или другое сделает, но что всё будет мило, как только она, что бы то ни было сделает или скажет.
– Мама, дайте мне мужа. Мужа, – повторила [она], – у всех мужья, а у меня нет.
– Матушка, только выбери.[3515]
Наташа <не ответила>, она поцеловала отца в плешь.
– Нет, не надо, папа. – Она присела к столу (она никогда не пила чай и не понимала, зачем это притворяются, что любят чай) и поговорила рассудительно и просто с отцом и дядюшкой, но скоро ушла в диванную, в любимый их с Nicolas уголок, в котором всегда начинались задушевные разговоры, принесла брату трубку и чай и уселась с ним.[3516]
Nicolas с улыбкой потягиваясь смотрел на нее.[3517]
– Отлично выспался, – проговорил он.
– Бывает с тобой, – начала Наташа,– что тебе кажется, что ничего не будет – ничего. Что всё, что хорошее, то было. И не то, что скучно, а грустно?[3518]
– Еще как! – сказал он. – У меня бывало, что всё хорошо, все веселы, и тут мне придет в голову, что ничего не будет и[3519] всё вздор. Особенно, когда я бывало в полку издалека слышу музыку…
– Еще бы! знаю, знаю, – подхватила Наташа.—Я еще маленькая была, так со мною это бывало. Помнишь, раз меня за сливы наказали? И вы все танцовали, а я сидела в клас[сной] и рыдала. Так рыдала, никогда не забуду. Мне и грустно было, и жалко было всех, и себя, и всех, всех жалко.
– Помню, – сказал Nicolas.
Наташа подумала (она всё находилась в состоянии воспоминания).
– А помнишь ты, – сказала она с задумчивой улыбкой, – как давно, давно, мы еще маленькие были, папенька нас позвал в кабинет, еще в старом доме, и темно было, мы пришли и вдруг там стоит…
– Арап, – докончил Николай с радостной улыбкой, – как же не помнить? Я и теперь не знаю, что это был арап или это мы во сне видели или рассказали.
– Он серый был, помнишь, и белые зубы – стоит и смотрит на нас…
– Вы помните, Соня? – спросил Nicolas.
– Нет, не помню, – робко отвечала Соня.
– Я ведь спрашивала про этого арапа у папà и мамà, – сказала Наташа. – Они говорят, что никакого не было. А ведь вот и ты помнишь.
– Как же, как теперь помню его зубы.
– Как это странно, точно во сне было. Я это люблю.[3520]
[Далее со слов: – А помнишь, как мы катали яйца в зале… кончая: Разговор шел теперь о сновидениях. – близко к печатному тексту. T. II, ч. 4, гл. X.]
Наташа рассказывала, как она прежде часто летала во сне, а теперь редко.
– Ты как, на крыльях? – спросил Nicolas.
– Нет, так, ногами. Усилиться надо немножко ногами.
– Ну да, ну да, – улыбаясь говорил Nicolas.
– Вот так, – сказала быстрая Наташа, вскочив на диван стоя. Она выразила в лице усилие, протянула вперед руки и хотела полететь, но спрыгнула на землю. Соня и Nicolas смеялись.
– Нет, постой, не может быть, непременно полечу, – сказала Наташа. Но в это время Димлер начал играть. Наташа соскочила, опять взяла свечу, вынесла ее и, вернувшись, тихо села на свое место. В их углу было темно, но в большие окны падал на пол холодный, морозный свет месяца.
– Знаешь, я думаю, – сказала Наташа шопотом, придвигаясь к Nicolas и Соне, когда уже Димлер кончил и всё сидел, слабо перебирая струны, видимо в нерешительности, оставить или начать что-нибудь новое, – что когда этак вспоминаешь, вспоминаешь, всё вспоминаешь, до того довспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете.
– Это метампсикоза, – сказала Соня, которая всегда хорошо училась и помнила историю египтян, [которые] верили, что наши души были в животных и опять пойдут в животных.
– Твоя я знаю в кого пойдет душа.
– В кого?
– В лошадь?
–Да?
– А Сонина?
– Была кошка, а сделается собакой, шарло.[3521]
[Далее со слов: – Нет, знаешь, я не верю этому… кончая: …дурак, – закричала она на брата, подбежала к стулу, упала на него и заплакала. – близко к печатному тексту. T. II, ч. 4, гл. X.]
Но тут же вскочила, поцеловала Петю и побежала навстречу наряженных: медведей, коз, турок, баринов, барыней, страшных и смешных. Дворовые с балалайкой ввалились в залу и начались песни, пляски, хороводы и подблюдные песни. Через полчаса в зале между другими наряженными появились еще: старая барыня в фижмах – Nicolas, ведьма – Димлер, гусар – Наташа, черкес – Соня и турчанка – Петя. Всё это было затеяно и устроено Наташей. Она и придумывала наряды и разрисовывала пробкой усы и брови. Она была теперь веселее и оживленнее, чем обыкновенно. После снисходительных удивлений, неузнаваний и похвал со стороны ненаряженных, молодые люди нашли, что костюмы так хороши, что надо было их показать еще кому-нибудь. Nicolas, которому хотелось по отличной дороге прокатить всех на своей тройке, предложил, взяв с собой из дворовых человек шесть наряженных, ехать к дядюшке, который[3522] только что уехал к себе. Через полчаса были готовы четыре тройки с колокольцами и бубенчиками и в неподвижном, морозном, пропитанном лунным светом воздухе, по не только скрипящему, но свистящему от двадцатипятиградусного мороза снегу, тройки с наряженными покатили[3523] к дядюшке.[3524]
–
[Далее со слов: Наташа первая дала тон того святочного веселья… кончая: Его не расслышали, но всё равно засмеялись. – близко к печатному тексту. T. II, ч. 4, гл. X.]
Бог знает, рад ли был[3525] дядюшка всему этому веселью – даже первое время он казался смущен и ненатурален, но те, кто приехали к нему, и не замечали этого. После плясок и песен начались гаданья. Nicolas снял свои фижмы и надел дядюшкин казакин, барышни оставались в своих костюмах, и всякий раз Nicolas надо было прежде вспомнить, что это Соня и Наташа, когда он смотрел на них с их пробкой начерченными усами и бровями. Особенно Соня поражала его и, к радости ее, он беспрестанно внимательно и любовно смотрел на нее. Ему казалось, что он нынче только, благодаря ее усам и бровям, узнал ее в первый раз. «Так вот она какая, а я-то дурак», думал он, глядя на ее блестящие глаза и счастливую, восторженную из-под усов улыбку, делающую ямочки на щеках, которые он не видал прежде.[3526]







