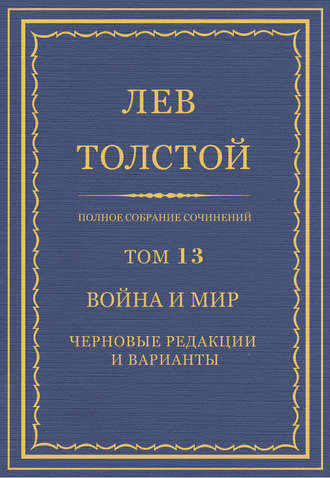
Лев Толстой
Полное собрание сочинений. Том 13. Война и мир. Черновые редакции и варианты
Теперь, возвращаясь, князь Андрей вспомнил о дубе, совпадающем с его мыслями о самом себе, и он взглянул вперед по дороге, отыскивая старика с его голой, избитой рукой, укоризненно протянутой над смеющейся и влюбленной весной. Старика уже не было: пригрело тепло, пригрело весеннее солнце, размягчилась земля и не выдержал старик, забыл свои укоризны, свою гордость, все прежде голые, страшные руки уж были одеты молодой сочной листвой, трепетавшей на легком ветре, из ствола, из бугров жесткой коры вылезли молодые листки, и упорный старик полнее и величественнее и размягченнее всех праздновал и весну, и любовь, и надежды.
– Молодец [?], – подумал князь Андрей.
[3018] В первых числах апреля государь приехал к войску и, как говорила Анна Павловна и все в Петербурге, с свойственным ему величием души, он не хотел дать повода повториться упрекам за Аустерлиц и, живя подле армии, перенося все труды лагерной жизни, как частный человек, только одушевляя войско своим присутствием и предоставляя полную власть Бенигсену, назначенному главнокомандующим на место сумашедшего Каменского.
Государь жил в Бартенштейне.[3019] Армия стояла у Фридланда.
Павлоградский полк, находившийся в той части армии, которая была в походе 1805 года и, укомплектовываясь в России, опоздала к первым действиям, стоял теперь в разоренной польской деревне. Денисов был не из тех офицеров, несмотря на свою известную храбрость,[3020] которые успевают по службе; он по прежнему командовал и тем же эскадроном гусар, которые, хотя и переменившись больше, чем наполовину, так же, как и прежние, не боялись его,[3021] но чувствовали к нему детскую нежность.
Nicolas был тем же субалтерн-офицером, хотя и поручиком, в эскадроне Денисова.
Когда Nicolas вернулся на перекладной из России и застал Денисова в его походном архалуке, с его походной трубкой, в избе, с раскиданными вещами и по старому грязного, мохнатого и веселого, совсем не такого припомаженного, каким он его видал в Москве, и они оба обнялись, они поняли, как не на шутку они друг друга любят. Денисов расспрашивал о домашних и особенно о Наташе. Он не скрывал перед братом, как нравилась ему его сестра. Он прямо говорил, что влюблен в нее, но тут же (как ничего неясного не было с Денисовым) прибавлял:[3022]
– Только не про меня, не мне, старой вонючей собаке, такую прелесть назвать своею. Мое дело рубиться и пить.[3023] А люблю, люблю, и всё тут, и вернее рыцаря не будет у нее, покуда меня не убили. За нее готов изрубить всякого и в огонь и в воду.[3024]
Nicolas, улыбаясь, говорил:
– Отчего же? Коли она тебя полюбит.
– Вздор, не с моим рылом. Стой, б’ат, слушай. Я тут один жил – скука! Вот ей стихи сочинил. И он прочел:[3025]
Волшебница, скажи, какая сила
Влечет меня к покинутым струнам,
Какой огонь ты в сердце заронила,
Какой восторг разлился по перстам?
Давно ли я, убитый, безотрадный,
В жестокой грусти тайно изнывал,
Давно ль, к тебе бесчувственный и хладный,
Твой чистый дар с презреньем отвергал.
Вдруг весь волшебный мир воображенья
Открыла мне в прелестнейших мечтах,
И пробудилась жажда песнопенья,
И вспыхнул огнь на радостных струнах.
В горящих нервах вымыслы родятся
И думы роем вьются надо мной,
Мелькнут… исчезнут… снова вдруг толпятся.
Забыто всё… сон, пища и покой.
Пылает кровь в порывах вдохновенья.
Я в исступленьи день и ночь пою!
Нет сил снести восторгов упоенья,
Они сожгут всю внутренность мою!
Спаси меня, склонися к сожаленью,
Смири волненья страстных чувств моих,
Нет, нет, волшебница, не верь моленью!
Дай умереть у ног твоих!
–
Nicolas, пристыженный своим последним поступком, приехал с ошибленными [?] крыльями, с намерением служить, драться, не брать ни копейки из дома и загладить свою вину. Он в этом расположении духа особенно живо почувствовал дружбу Денисова и всю прелесть этой уединенной, философской и монастырской жизни эскадрона, с ее обязательной праздностью, несмотря на водку и карты, и с наслаждением в нее погрузился.[3026]
Был апрель месяц, ростапель, грязь, холод, реки взломало, дороги провалились, по нескольку дней не давали провианта. Люди посыпались по жителям отыскивать картофель, но ни картофеля, ни жителей не было. Всё было съедено и всё разбежалось. Те же жители, которые не убежали, были хуже нищих и отнимать у них или нечего уж было или даже маложалостливые солдаты не имели на это духа. Павлоградский полк почти не был в делах, но от одного голоду убавился наполовину. В гошпиталях умирали так верно, что солдаты, больные лихорадкой и опухолью, происходившей от дурной пищи, предпочитали нести службу, через силу волоча ноги во фронте.
С открытием весны солдаты, хитрые на выдумки, нашли показывавшийся из земли корень, который они называли почему то Машин сладкий корень, и рассыпались по лугам и полям, отыскивая сладкий корень (который был очень горек), саблями выкапывали его и ели, несмотря на приказы не есть этой травы. Солдаты начали пухнуть в руках, ногах и лице и полагали, что от этого корня. Но, несмотря на запрещенье, солдаты ели корень, потому что уже вторую неделю им обещали провиант, а выдавали только по одному фунту сухарей на человека. Лошади питались тоже вторую неделю крышами с домов и тоже доедали последнюю привезенную за три мили солому. Лошади были кости и кожа и покрыты еще зимнею шерстью клоками. Денисов, бывший в выигрыше, выдал больше тысячи рублей своих денег на корм и занял всё, что было у Ростова, но купить негде было.
Но, несмотря на такое страшное бедствие, солдаты и офицеры жили точно так же, как и всегда: так же строились к расчетам, шли на уборку, чистили амуницию, даже делали ученья, рассказывали по вечерам сказки и играли в бабки. Только поодергались щеголи гусары и лица все были более, чем обыкновенно, желты и скуласты. Офицеры так же собирались, пили иногда, играли очень много и большую игру, так как денег, выдаваемых на провиант, который купить нельзя было, было очень много. Они все были в ходу – в игре.
– Ну, брат, седлай, – закричал раз Денисов вскоре после приезда Ростова, возвращаясь от полкового командира, куда он ездил за приказаниями. – Сейчас берем два взвода и идем отбивать транспорт. Чорта с дьяволом, не издыхать же людям, как собакам! – Он отдал приказанье вахмистру седлать и сошел с лошади.
– Какой? Неприятельский транспорт? – спросил Ростов, вставая с постели, на которой он один, скучая, лежал в комнате.
– Свой! – прокричал Денисов, горячась видно еще тою горячностью, с которой он говорил с полковым командиром.
– Еду, встречаю транспорт, думаю, что нам, приезжаю спрашивать сухарей. Опять, говорит, нету. Это в пехоту везут. Подождите день. Я семь раз писал, говорит, дорог нет. – Ну, так я отобью, который встретим. Не издыхать же людям. – Я не отвечаю. – Да и не отвечайте, чорт вас возьми, я отвечу, – рассказывал Денисов. – Суди меня там, кто хочет.
Не выходя из этого состояния раздражения, Денисов сел на лошадь и поехал. Солдаты знали, куда едут, и в высшей степени одабривали распоряжение начальника, они были веселы и подшучивали друг над другом, над лошадьми, которые спотыкались и падали. Денисов взглянул на людей и отвернулся.
– Мерзко взглянуть, – сказал он и на рысях поехал по дороге, по которой должен был итти транспорт. На рысях не могли итти все лошади; некоторые падали на колени, но видимо из последних сил бились, чтобы не отставать от своих. Они догнали транспорт. Солдаты транспорта стали было противиться, но Денисов исколотил старшего унтер офицера плетью и завернул транспорт. Через полчаса два пехотные офицера, адъютант и квартирмейстер полка, прискакали верхами требовать объяснений. Денисов ни слова не ответил им на их представления и только крикнул на своих:
– Пошел!
– Вы будете отвечать, ротмистр; это буйство, мародерство, у своих, наши люди два дня не ели. Это разбой. Ответите, милостивый государь, – и он, трясясь на лошади, как трясутся верхом пехотные офицеры, отъехал.
– Собака на забо'е, живая собака на забо'е, – прокричал ему вслед Денисов высшую насмешку кавалериста над верховым пехотным и рассмешил весь эскадрон.
Солдатам роздали сухарей вволю, поделились даже с другими эскадронами, и полковой командир, узнав всё дело, повторил, закрывая глаза открытыми пальцами:
– Я на это смотрю вот этак, но не отвечаю и не знаю. – Однако через день по поступившим жалобам от пехотного командира он позвал к себе Денисова и посоветовал съездить в штаб и там по крайней мере в провиантском ведомстве расписаться, что он получил столько то провианту, а то требование записано на пехотный полк. Денисов поехал и возвратился к Ростову взбешенный, красный и с таким приливом крови, что ему необходимо было в тот же день пустить кровь; глубокая тарелка черной крови вышла из его мохнатой руки и тогда только он стал в состоянии рассказать, что с ним было. Но и тут, дойдя до трагического места, он так разгорелся, что кровь пошла из руки и надо было перебинтовать ее.
– Приезжаю. Ты думаешь, они там бедствуют, как мы? Как же! Смотрю, жиды провиантские все чистенькие, гладенькие, веселенькие. Ну, где у вас тут начальник? Показали. Ждал долго. Уж это меня взбесило. Обругал всех, велел доложить. У меня служба, я за тридцать верст приехал. Хорошо, выходит этот обер-вор: вы пожалуйте к чиновнику по комиссии, там распишетесь, а поступок ваш представится высшему начальству.[3027]
– Вы меня, батюшка, не учите, а лучше бы не заставляли ждать по три часа.[3028] Обругал, и с этим пошел. Прихожу, один чиновник к другому, к третьему, один одного погоняет, все франты, я тебе говорю, уж меня стало бесить. Прихожу к тому то комиссионеру. Хорошо, кушают, сейчас. Смотрю: портер несут, индейку. «Ну, думаю, уж этого ждать не буду». Вхожу, изволят кушать… Кто же! Нет, ты подумай (тут развязалась повязка и брызнула кровь). Телянин! – А, так ты нас с голоду моришь! Раз, раз, по морде!., а… (он произнес грубое ругательство). Кабы они не бросились на меня, я бы убил его до смерти…. Хороши? а? Хороши? а?..
– Да, что же ты кричишь, успокойся, – говорил Ростов. – Ведь этак еще кровь пускать.
В Фридландском сражении два эскадрона павлоградцев, над которыми старшим был Денисов, поставлены были на левом фланге в прикрытие артиллерии, как ему сказал с вечера полковой командир. С начала дела открылся страшный огонь по гусарам. Ряды вырывало за рядами, и никто не приказывал им ни отступать, ни переменить положение. Денисов, хотя как и всегда для сражения, надушенный и напомаженный, был грустен и сердито отдавал приказания для уборки тел и раненных.[3029] Увидав недалеко проезжавшего генерала, он поскакал к нему и объяснил, что дивизион перебьют весь без всякой пользы для кого бы то ни было. Лошади так слабы, что в атаку итти не могут, ежели бы даже и можно было, то место изрыто рытвинами, и наконец нет надобности стоять под ядрами, когда можно перейти дальше. Генерал, не дослушав его, отвернулся и поехал прочь.
– Обратитесь к генералу Дохтурову, я не начальник. – Денисов отыскал Дохтурова. Тот сказал ему, что начальник третий генерал, третий генерал, что начальник первый генерал.
«Чорт вас дери совсем», подумал Денисов, и поскакал назад. [3030]Кирстен был уж убит и Ростов был старшим. Так много было перебитых, что люди мешались и отходили от мест. Денисов поставил своим долгом собрать их. Но тут набежала на него пехота и смешала его.
– Стоило погубить полэскадрона. Дьявол! – проговорил он, но тут картечь попала ему в спину и замертво повалила его с лошади. Ростов, уже привыкший переносить всегда повторявшееся в деле чувство страха, как умел старался в бегстве собирать эскадрон, а потом бежал, как попало.
После Фридландского сражения Nicolas оставался старшим офицером в эскадроне. Но эскадрон только именовался так, но в нем было только шестьдесят конных гусаров. В начале лета продовольствие доставлялось в достаточном количестве, погода была хорошая и офицеры уже поговаривали <об отступлении в Россию.>
Первое время Ростов был увлечен своим новым званием и хозяйственными делами по эскадрону. <Он вел их с таким старанием, что получал одобрение от бывшего своего врага, теперешнего своего начальника, полкового командира.> Ему весело было принимать кашу эскадрона, здороваться с людьми, отдавать приказания вахмистру и говорить: в моем эскадроне.
<Ему весело было тоже думать, что война кончилась, что не предстоит более опасностей, скоро удастся, вернувшись в Россию, увидать своих. О том, как бесславно кончилась эта кампания, он, как и все фронтовые офицеры, весьма мало думал.>
Немецкая пословица говорит: от деревьев лесу не видно. <Так и военные люди, участвующие в войне, никогда не видят и не понимают значения самой войны. Кончилась война, провиант есть, в Россию идешь или в Польшу к паночкам стоять. Ну, и слава богу. А как кончилась и какой результат этой войны – это рассудят те, которые не участвовали в ней. Только тогда живо чувствуется для военного человека общий результат войны, когда он встречается после мира с прежними врагами и видит их торжество и радость. Это то случилось с Н. Ростовым 7-го июня, когда он ездил в главную квартиру Бенигсена за приказаниями, и в этот самый день встретил там французского капитана Перигора, приехавшего от Наполеона для начала Тильзитских переговоров. В главной квартире Бенигсена Ростов остановился у бывшего своего товарища Жиркова, бывшего чем то теперь при штабе главнокомандующего.> Они зашли с ним вместе к маркитанту, когда на улице произошло движение. Все бежали смотреть что то, и Ростов с Жирковым, следуя общему движению, увидали ехавшего по улице, сопутствуемого трубачем, красивого офицера французской гвардии в медвежьей шапке. <Вид этого офицера был настолько презрительный и высокомерный, что Ростов вдруг почувствовал стыд побежденного и, поспешно отвернувшись, ушел назад.>
Перигор, попавший к главнокомандующему во время обеда, был приглашен к столу.
Не говоря уже об разнородных толках о том, как надменно вел себя этот Перигор, как и что оскорбительного для русских он говорил за обедом, очевидцы рассказывали, как он вошел, сел за стол, и всё время [у] главнокомандующего провел, не снимая медвежьей шапки. Ростов, принужденный дожидаться бумаг до вечера, слышал эти толки и молчал. Он не мог говорить, так сильно кипели в нем негодование, стыд и злоба. Невольно спрашивал он сам себя, не имели ли права эти французы так презирать русских, не был ли он и его товарищи и его солдаты виноваты в том презрении, которое оказывал этот француз. Но нет, сколько ни вспоминал он Кирстена, Денисова, своих гусар, нет это была наглость француза и подлость тех русских, которые переносили это. Он стоял вместе с Жирковым и другими офицерами на крыльце одного из домов, занимаемого штабными. Жирков шутил, как и всегда.
– То то вспотел под шапкою, я думаю, – сказал он и обратился к Ростову. – Все люди, как люди, один чорт в колпаке! не правда ли, а? Ростов. – Это обращение вывело Ростова из его состояния скрытой злобы, он разгорячился.
– Я не понимаю, господа, – заговорил он, возвышая голос все более и более, – как вы можете шутить и смеяться над такими вещами? У меня вся внутренность переворачивается: какая-нибудь дрянь, французский сапожник (Ростов ошибался: Перигор был член старой французской аристократии) смеет в шапке сидеть против нашего главнокомандующего, что же мы после этого? Чего же после этого не позволит себе какой нибудь французишка со мною, с русским офицером? Только я, гусарский поручик, ему бы фухтелями сбил шапку с головы, потому что я не курляндский немец, мне честь русского дорога.
– Ну, ну! – испуганно, стараясь обратить в шутку, заговорили офицеры, оглядываясь. Невдалеке стояла группа генералов, но Ростов, возбужденный этим страхом, еще более разгорячился.
– Разве мы пруссаки какие нибудь, – говорил он, – чтобы они имели право так обходиться с нами. Кажется Пултуск и Прейсиш Эйлау показали им, а что у нас главнокомандующие бог знает кто!
– Полно, полно, – заговорили офицеры.
– Бог знает кто, немцы, колбасники, сумашедшие, да порченные! – Большинство офицеров отошли от Ростова, но в то же время один из генералов, стоявший невдалеке, высокий, плотный, седой человек, отделился от своей группы и подошел к молодому гусару.
– Как ваша фамилия? – спросил он.
– Граф Ростов, Павлоградского гусарского полка, к вашим услугам, – проговорил Nicolas, – и готов повторить, что сейчас сказал, хоть перед самим государем императором, тем более пред вашим превосходительством, которого не имею чести знать.
Нахмуренный генерал, строго продолжая смотреть на Ростова, взял его за руку.
– Совершенно разделяю ваше мнение, молодой человек, – сказал он, – совершенно, и очень рад с вами познакомиться, очень.
В это время мохнатая шапка, возбудившая такое злобное чувство в душе Ростова, показалась на подъезде к главнокомандующему. Он уезжал. Ростов отвернулся, чтобы не видать его.
Несмотря на удовольствие командовать эскадроном и скоро вернуться в Россию, чувство стыда побежденного, возбужденное этим случаем, не оставляющее его чувство раскаяния в своем московском проигрыше и сильнее всего печаль о потере Денисова, которого он так сильно полюбил в последнее время и который, по слухам, между жизнию и смертию лежал в гошпитале, делали его жизнь за это время Тильзитских торжеств весьма грустною.
В половине июня, как ни трудно это ему было, он отпросился у полкового командира поехать за сорок верст к Денисову в гошпиталь. Маленькое прусское местечко, два раза разоренное русскими и французскими войсками, именно потому, что это было летом, когда в поле было так хорошо, с своими разломанными крышами и заборами и своими загаженными улицами, оборванными жителями и пьяными или больными солдатами, представляло мрачное зрелище. В каменном доме, на дворе с остатками разобранного забора, выбитыми частию рамами и стеклами помещался гошпиталь. Несколько перевязанных бледных солдат ходили и сидели на дворе на солнышке. В то время, как Nicolas входил в двери, его обхватил запах гниющего тела и больницы. По коридору проносили в это время за руки и за ноги труп или живого человека, он не рассмотрел. Навстречу ему вышел военный русский доктор с сигарою во рту и сопутствуемый фельдшером, который что то докладывал ему.
– Не могу ж я разорваться, – говорил доктор, – приходи вечерком к бургомистру, я там буду. – Фельдшер что то спросил у него.
– Э! делай, как знаешь, разве не всё равно? – и он пошел дальше и тут с удивлением заметил Ростова.
– Вы зачем, ваше благородие? – сказал он с докторской, особенной, шуточной манерой и видимо нисколько не смущаясь тем, что Ростов слышал его слова, сказанные фельдшеру.
– Вы зачем, али пуля вас не брала, так вы тифу набраться хотите? Тут, батюшка, дом прокаженных, кто ни взойдет – смерть. Только мы двое с Макеевым (он указал на фельдшера) еще тут трепемся. Тут уж нашего брата докторов человек пять перемерло: как поступит – через недельку готов. Прусских докторов вызывали, так не любят союзники то наши, – и словоохотливый доктор засмеялся таким смехом, который показывал, что ему не только теперь, но и никогда не хотелось смеяться. Ростов объяснил ему, что он желал видеть здесь лежащего гусарского майора.
– Тут, батюшка, раненых нету, у нас хоть и раненый, сейчас тифозным делается, да и не знаешь всех. Ведь вы подумайте, у меня на одного три гошпиталя, четыреста больных с лишним. Я отчисляю в умершие, за этим дело у нас не стоит, тиф помогает, а мне всё новеньких присылают. Ведь четыреста есть, а? – обратился он к фельдшеру.[3031]
– Так точно, – отвечал фельдшер. Фельдшеру видимо давно уже хотелось обедать и он с досадой дожидался, скоро ли уйдет заболтавшийся доктор, столь обрадовавшийся появлению нового лица.
– Майор Денисов, – повторил Ростов, – он в Фридландском сражении ранен был.
– Кажется, умер? – равнодушно спросил доктор у фельдшера.
Фельдшер не знал.
– Что он такой длинный, рыжеватый? – спросил доктор.
Ростов описал наружность Денисова.
– Да, да, – как бы радостно проговорил доктор, – этот должно быть умер, а впрочем я справлюсь, у меня списки были. Есть у тебя, Макеев?
Как ни уговаривал доктор Ростова не ходить по палатам, как он всё таки называл разваленные сараи, в которых на полу лежали больные, как ни угрожал ему, что непременно заразится тифом, Ростов, простившись с доктором, пошел с фельдшером наверх и обошел всех больных, отыскивая Денисова. Он никогда не видал подобного ужаса, какой он увидал в этом доме.
Бельэтаж только был занят. Дом был построен, как и все барские дома: передняя, зала, проходные гостиные, диванная, спальня, девичья и опять передняя. Мебели никакой не было. С первой комнаты всего этого круга и до последней, в два ряда, головами к стене и оставляя проход посредине, лежали солдаты, где на прорванных тюфяках, где на соломе, где на голом полу на своих шинелях. Запах, нечистота были ужасные, мухи облепляли так больных, что они уже не отмахивались. Одни умирали, только хрипением показывая признаки жизни, другие метались в жару, толкая друг друга, третьи слабыми, горячечными глазами смотрели на проходящего мимо их здорового, свежего и чистого человека.
Человек пять здоровых солдат были тут для прислуги и ковшами разносили воду, которую тут больше всего требовали больные. Денисова не было между ними и [Ростов узнал] по спискам от фельдшера Макеева, что Денисов был записан в эту гошпиталь, но переехал в бывший помещичий дом и лечился там у прусского доктора. После многих трудов Nicolas наконец нашел его. Денисов поправлялся от раны, но он нравственно страдал больше от последствий завязавшейся переписки и дела по случаю отбитого им транспорта и нанесения побоев провиантскому чиновнику Телянину.
Едва увидав Ростова и не принимая ни малейшего участия в его рассказах о Перигоре, о Тильзите, о ужасах в гошпитале, он был занят только одним, своей перепиской и ответами на запросы провиантского ведомства, в которых он честил всех провиантских ворами, и, сам любуясь своим произведением и красноречием, стал с восторгом, сам смеясь и стуча кулаком по столу, [перечитывать] подпускаемые им шпильки провиантскому ведомству. Последнюю, по его мнению весьма тонкую, ироническую и убийственную по его мнению бумагу, кончавшуюся словами: «ежели бы господа комиссариатские так же хорошо действовали для заготовок по нуждам армии, как они для себя действуют, то армия не знала бы, что такое есть голод», – эту бумагу он передал Ростову, прося его непременно самому свезти в Тильзит и отдать в собственную канцелярию его величества. С желанием исполнить это поручение и приехал 27 числа Nicolas на квартиру Бориса.
Борис пристроился к штабу императорскому в конце прошлой кампании и служба его шла весьма успешно. Он числился в Преображенском собственном его величества батальоне и получал вследствие этого гораздо больше жалованья и был на виду у императора. Князь Д[олгорукий] не забыл его и представил князю В[олконскому]. Князь В[олконский] рекомендовал его другому, очень важному лицу, при котором (продолжая получать оклад по Преображенскому собственному [его величества] батальону) и числился в качестве адъютанта молодой Друбецкой.[3032] Всем, особенно важным лицам, Борис очень нравился своей, как говорили, открытой и distingué[3033] наружностью, скромностью, уменьем держать себя и добросовестностью исполнения поручений и точностью и элегантностью способа выражения. Гвардия, как и в первую войну, шла с праздника на праздник; в продолжение всего похода ранцы и часть людей везли на подводах. Офицеры ехали в экипажах со всеми удобствами жизни. Вся гвардия шла так, собственный батальон его величества шел еще роскошнее. Берг уже был старшим ротным командиром в батальоне и владимирским кавалером, на прекрасном счету у начальства. В Бартенштейне именно Борис явился к важному лицу, к которому у него была записочка от князя Волконского, и был взят в адъютанты и отделился от Берга, предвидя лучшую будущность. Надежды эти оправдались. То величие всего императорского двора, которое он видел только в коридоре Ольмюцкого дворца, он видел здесь в одной с собой зале. Он был приглашен на один из балов, которые давались прусским министром Гарденбергом и который удостоили своим присутствием император Александр и король. На этом бале Борис, красивый танцор, был даже замечен. И ему случилось танцовать с графиней Безуховой в то время, как государь подошел к ней и сказал ей несколько слов. Он танцовал с ней, а государь говорил с нею и отошел, ласково улыбнувшись на ее кавалера в то время, как им надо было начинать фигуру экосеза. Узнав, кто была эта красавица, которую замечал император, [Борис] попросил одного знакомого флигель-адъютанта представить его ей. Он воспользовался знакомством с к[нязем] В[асилием] для того, чтобы вступить с нею в разговор, и с своим природным тактом обошел разговор о ее муже. (Он чувствовал, не зная никаких подробностей, каким то инстинктом, что этого не должно было делать.) Элен осветила его всего своей улыбкой, той же улыбкой, которой она осветила и царя, она подала ему руку тотчас после того, как царь говорил с нею. Во время разговора царя с его дамой Борис отступил и не слыхал разговора, хотя и никто не учил его так поступить. Он знал, что это нужно было сделать. Борис был всё время при государе, то есть в тех же городах и местечках, где был государь, и всё, что делалось в этом дворе, было его главным интересом и жизнью. Он был и [в] Юрсбург[е], когда получено страшное известие Фридландского поражения, послан в Петербург и потом на нашем берегу Немана в Тильзите при свидании двух императоров. Так как то лицо, при котором он состоял, не было при государе в самом Тильзите во время пребывания в нем императоров, а Преображенский батальон был в нем, то Борис откровенно признался, что он желал бы видеть это, и просил своего начальника отпустить его опять хоть на время во фронт, на что и получил согласие.
… Июля он приехал в свой батальон и принят был хорошо товарищами, с которыми он, как и с начальниками, умел ладить. Никто страстно не любил его, но все считали его приятным молодым человеком. Он приехал ночью – отзыв был дан:[3034] Napoléon, France, bravoure,[3035] в ответ на накануне данный отзыв Наполеона: Alexandre, Russie, grandeur.[3036] И это была первая новость, которую ему восторженно рассказал Берг. Берг показал ему дом, в котором был Наполеон, и так странно и радостно было испытывать близость того человека, которого близость была так страшна прежде. Борис видел все торжества и надеялся видеть Наполеона еще ближе, когда приехал к ним Ростов.[3037]
На другое утро к Бергу собрались офицеры, и Борис, бывший два дня тому назад свидетелем свидания, рассказывал подробности его. Борис говорил с своей всегдашней улыбкой, которая означала или легкую насмешку или умиление перед тем, что он видел, или радость, что он может это рассказать. Он рассказывал, как редко умеют рассказать, – с такою властью в голосе, что чувствовалось невольно, что всё, что он говорил, была только правда и то, что он видел, и с такою умеренностью красот и с таким отсутствием личных суждений, что его слушали молча. Чувствовалось, что он заявляет факты, отрешаясь от своих суждений.[3038]
– Я был при N, – начал он. – Мы выехали рано утром. Государь изволил ехать верхом рядом с королем прусским. Государь был в преображенском мундире, в шарфе и андреевской ленте. Вы знаете эту деревню Обер-Маменшек Крук, тут корчма еще есть недалеко от берега? Государь вошел в корчму, сел подле окна и положил на стол шляпу и перчатки. Генералитет тоже вошел в корчму и все, как будто ожидая чего то, молча стояли около двери. Государь был, как и всегда, спокоен, только несколько задумчив. Я стоял у окна и мне всё видно было. Около четверти часа пробыли здесь, и [ни]кто, ни король, ни государь, никто из генералов не сказал ни одного слова.
Я пошел к берегу и, так как река не широка, как вы знаете, я не только рассмотрел павильоны на плотах с огромными вензелями A., H., но и весь тот берег, который был закрыт сплошною толпою зрителей. Справа виднелась гвардия императора Наполеона (Борис называл так прежнего Буонапарте, еще и не зная о том, что по армии строго было запрещено с третьего дни называть Наполеона – Бонапартом. Он природным чутьем узнал, что так должно было поступать), и на том береге видны были такие же приготовления. Вы понимаете, – с тонкой улыбкой сказал Борис, – что надобно было подумать и подумать, чтобы так устроить дело, чтобы ни один не приехал раньше другого, чтобы наш император не дожидался императора Наполеона и наоборот. И надо отдать справедливость, всё было устроено превосходно, превосходно, – повторил он. – Положительно, это было из самых величественных зрелищ, мира. Только что мы услыхали на том берегу по наполеоновской гвардии крики: «Vive l'empereur!..»[3039]
– Как их крик гораздо лучше нашего глупого ура, – сказал один из офицеров.
– Да, и вообще, какое необыкновенное устройство их гвардии. Нынче обещались к нам обедать два офицера французской императорской гвардии. Однако, продолжайте, Друбецкой.
– Ну-с, только что мы заслышали на другой стороне крики и увидали скачущего на белой лошади императора Наполеона, как наш флигель-адъютант стремглав бросился к корчме: – едет, ваше величество!
Государь вышел, очень спокойно надел шляпу и перчатки и подошел к лодке. Отчалили они почти в одно и то же время. Но император Наполеон подплыл к плоту раньше. Он ехал стоя, с сложенными на груди руками. Надо признаться, он очень величественен, несмотря на свой малый рост. Но вид нашего государя поразил всех. Это необыкновенно, – с умилением проговорил Борис, – и вообще эта минута была столь величественна и трогательна, что кто видел все это, никогда не забудет.
Император Наполеон взошел раньше на плот, поспешно перешел его на другую сторону и, когда наш государь только выходил из лодки, подал ему руку. – На этом месте Борис остановился с тонкой улыбкой, как бы желая дать время слушателям оценить всю глубину значения этого обстоятельства.
– Но правда-ли это, – спросил один из слушателей, – что в то время, как императоры взошли в павильон, французская лодка с вооруженными солдатами выехала от них и стала между нашим берегом и плотом?
Борис поморщился, как бы давая чувствовать, что об этом обстоятельстве, действительно бывшем и виденном им, не следовало упоминать.
Он своим чутьем понял, что это было что то нехорошо. Хотел ли [Наполеон] в самом деле в случае неблагоприятного окончания переговоров попугать императора Александра, что он находился в его власти, или просто это была часть церемониала, хотя с нашей стороны и не было лодки, выехавшей на ту сторону плота, во всяком случае упоминать об этом не следовало и, хотя он очень хорошо видел лодку и даже задумался над ней, он сказал:







