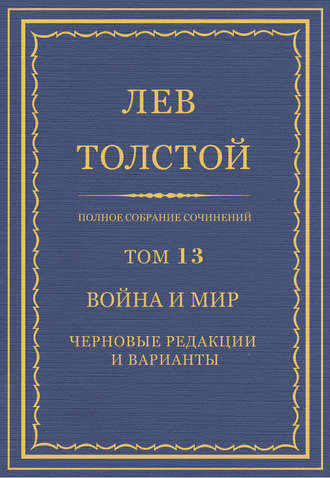
Лев Толстой
Полное собрание сочинений. Том 13. Война и мир. Черновые редакции и варианты
* № 23 (рук. № 48).
[755]Не обращая никакого внимания на строгие замечания, которые делал господин Дубриль Наполеону, Наполеон вскоре по получении этой ноты принял на себя звание императора, насильно, как говорили, привез папу из Рима и заставил себя короновать в Париже и, не только не думал удовлетворять его Сардинское величество и успокоивать Неаполитанское величество, но не удовлетворившись императорским коронованием в Париже, вместе с папою, поехал в Милан и заставил себя короновать королем Италии.[756]
Летом 1805 года дипломатические сношения России со всеми европейскими державами, за исключением Франции, особенно оживились. Любители политических новостей с особенным нетерпением ждали газет, делали предположения войны против Франции и различные комбинации союзов. Курьеры и уполномоченные из Пруссии, Англии и Австрии особенно часто скакали по русским и прусским нежелезным дорогам и останавливались у подъезда еще старого зимнего дворца. Двор Марьи Федоровны, императрицы-матери, находился в Павловске и приближенные этого двора, известного за свою ненависть к Наполеону, имели вид значительный, довольный и скромный, как будто они все знали что то особенное и важное, что публике еще рано было знать.
Молодой император казался озабоченным и сильно занятым. Смотры и совещания с министрами занимали всё его время. Молодые наперсники и советники императора, Кочубей, Новосильцов, Долгорукой, Чарторыжский смело смотрели в глаза недоверчивым старикам и, видимо, затевали что то решительное и важное. Указ о учреждении министерств, вместо коллегий, уже выдержал бурю гонений со стороны стариков. Над дополнениями его работал уже приобретший известность Сперанской. Преобразования, с свойственной молодости жаром, готовились и приводились в исполнение по всем частям государственного управления. И тогда, как и теперь, как и всегда было и будет, молодое правительство видело одни ошибки во всем старом и боялось отстать от века, старики видели одни ошибки во всяком изменении старого порядка вещей и удивлялись, чтоб возможно было иметь смелость тем, кого они знали ребятами, изменять то, что жило в знаменитой век Екатерины.
Пускай не исполняется и одна сотая из надежд молодости, надежды эти всё так же[757] необходимы. Пускай из тысячи цветов один только оплодотворяется, природа каждый год воспроизводит их новые тысячи. И зачем нам знать назначение этих красивых, хотя и бесплодных цветов, когда мы любим их.
Как и теперь, как и всегда, так и тогда было, что около молодых людей, боровшихся за новое, и екатерининских стариков, боровшихся за старое, были толпы людей, в этой борьбе видевших только удобство найти лишние рубли, кресты и чины, и были толпы людей, только совершенно отвлеченно разделявших эту борьбу, но работавших не для борьбы, а для своих страстей и потребностей.
Но, несмотря на общий всем временам характер борьбы старого и нового, время это имело для России, как государства, еще особенный характер счастливой и исполненной надежд красивой молодости.
После[758] короткого царствования Павла и тяжелого чувства революции, воцарился рыцарской, красивой, любезной и всеми любимый, молодой внук Екатерины, и ужаснувшая всех революция уже улеглась в свое русло. Всё страшное неограниченного образа правления в России похоронено было с Павлом, всё ужасное революции похоронено было с Директорией. Оставались славные воспоминания величия Екатерининского царствования и великие идеи революции, проникшие невольно во все благородные души.
Дать конституцию России, освободить крестьян, дать свободу слова и печати были мысли-дети революции, исполнение которых казалось легко и просто молодому и восприимчивому императору. Сделать Черное море русским озером и восстановить величие греческого храма Софии, остановить завоевания Бонапарта и восстановить законное правительство у французов казалось для внука Екатерины только исполнением завещания славной бабки. Было счастливое молодое царствование.
Эти то люди и будут героями этой истории.
–
Несмотря на летнее время, в Петербурге, на дачах в июне 1805 жило всё придворное, служащее, торговое, военное и бездельное население этого города.
Один из таких бездельных людей был незаконный сын знаменитого князя Кирила Владимировича Безухого, богача, чудака и масона, жившего безвыездно в Москве со времени воцарения Павла. Сын Кирила Владимировича назывался не Петр Кирилыч, а Петр Иваныч и не Безухой, а Медынской. Отец[759] давал ему много денег и интересовался им, но не хотел усыновить, желая, чтоб сын сам сделал себе карьеру. Несмотря на неусыновление, m-r Pierre, как его звали в свете, был принят в лучшем свете и, приехав из за границы, остановился у знаменитого вельможи и родственника отца, князя Василья Борисыча Курагина,[760] известного всем под именем кнезь Василья.[761] M-r Pierr'y весной надо было ехать в Москву, где отец его хотел определить в архив. Но <он> жил тут всё лето, сам не зная для чего и каждый день говоря, что он завтра поедет.>
** № 24 (рук. № 48).
С 1805 ПО 1814 ГОД.
РОМАН ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО
1805-й год. Часть 1-я
Глава 1.
Тем, кто знали князя Петра Кириловича Б. в начале царствования Александра II, в 1850-тых годах, когда Петр Кирилыч был возвращен из Сибири белым, как лунь стариком, трудно бы было вообразить себе его беззаботным, бестолковым и сумасбродным юношей, каким он был в начале царствования Александра I, вскоре после приезда своего из за границы, где он по желанию отца оканчивал свое воспитание.
Князь Петр Кирилович, как известно, был незаконный сын князя Кирила Владимировича Б. В то время первой молодости, о котором я пишу, он еще не был усыновлен отцом и в том высшем кругу общества, в котором вырос, был известен под именем только monsieur Pierr'a.[762] По бумагам он назывался не Петр Кирилыч, а Петр Иваныч, и не Б., а Медынской – по имени деревни, в которой он родился. Говорили, что старый князь по беспечности не позаботился об усыновлении молодого человека при Екатерине, когда ему стоило бы только слово сказать, чтобы его желание было исполнено, а что при Павле старый князь имел свои причины ни о чем не просить государя.[763] У старого князя Б. было сорок тысяч душ и никого прямых наследников; поэтому вопрос о том, будет ли или не будет в нынешнее царствование усыновлен Pierre (как его звали), казался для многих весьма интересным и производил в обращении знакомых молодого человека смесь фамильярности, ласки, заискиванья и пренебрежения. Более всех интересовал этот вопрос петербургского вельможу кнезь Василья Курагина, бывшего ближайшим родственником старого князя Б. и потому имевшего права рассчитывать на наследство, и меньше всех интересовал этот вопрос самого Pierr'a, постоянно увлеченного либо каким-нибудь пристрастием, либо какою-нибудь отвлеченною мыслью. Приехав из-за заграницы еще в начале мая и остановившись по родственному у князя Василья, Pierre тогда же должен был отправиться в Москву, где безвыездно жил его отец, но уже была половина июня, а он всё жил в Петербурге. То у него не было денег, то было слишком много денег, то был rendez vous,[764] то вечер, на который его звали, и он два месяца сбирался ехать непременно завтра.
В Петербурге, несмотря на летнее время, жило всё служащее и придворное население города.
Близких знакомых у m-r Pierr’a было два дома: кнезь Василья, у которого вверху он не любил бывать, но с сыном которого он за вином, картами и женщинами проводил петербургские бессумрачные ночи, сам не зная для чего, потому что не любил ни вина, ни карт, ни женщин, и другой знакомый дом был, недавно женившийся адъютант петербургского генерал губернатора, князь Андрей Волконской, по строгости своей жизни и английской чопорности дома совершенный контраст князя Анатоля Курагина.
M-r Pierre проводил большей частью день у князя Андрея, с которым он был не только дружен, но к которому, несмотря на совершенное различие характеров и вкусов, он имел то страстное обожание, которое так часто бывает в первой молодости. С ним он говорил о[765] войне, о политике, философии, любовался его домашним счастьем, красивой женой, обдумывал свое положение, решался ехать на другой день в Москву, но приходила светлая беспокойная ночь, чего то еще ему хотелось поскорее, что то хотелось забыть, он не мог итти домой, заходил к Анатолю и, пьяный, усталый, и с раскаянием в душе, засыпал уже тогда, когда солнце поднималось из за высоких домов, город оживлялся и по Невскому становилось шумно, пыльно и жарко.[766] И тем радостнее было ему подъезжать в 6-м часу к[767] большому дому в Литейной, где в высокой, чистой и роскошной квартире жила молодая чета Волконских, всегда весело встречавшая каждый день заблуждающегося и возвращающегося блудного сына.
20 июля он, точно так же, как и все дни, начиная с 1-го апреля, должен был ехать на другой день в Москву, но его задержало предложение встреченного накануне молодого князя Андрея Волконского приехать к нему обедать и вместе ехать к старой[768] фрейлине Анне Павловне Шерер, которая очень желала видеть молодого Медынского.
– Ну, что ж, вы и поедете завтра в Москву? – сказал ему накануне князь Андрей,[769] посмеиваясь. – Вы уж привыкли и мы привыкли, что завтра. Так не изменяйте.
M-r Pierre приехал к обеду, но как всегда опоздал. Лакей, не в камзоле по старинной французской, а по новой, вводившейся тогда английской моде, во фраке, доложил, что кушают, но в то же время послышался из столовой металлической, ленивой и неприятно резкой голос князя Андрея.[770]
– Петр Иваныч? Проси.
M-r Pierre вошел в светлую, высокую, росписанную столовую, с дубовыми, резными буфетами и уставленным хрусталем и серебром столом. За столом сидели князь Андрей,[771] свежий, красивый, молодой человек с сухими чертами лица и глазами, в которых свет казался потушенным. Эти глаза, смотревшие и ничего не хотевшие видеть, поражали невольно. На другом конце стола сидела его жена, хорошенькая, оживленная и заметно брюхатая брюнетка. В середине гости: какая то барышня, старичок, видимо иностранец, которого m-r Pierre сначала не заметил, и молодой чиновник, которого m-r Pierre видал и знал comme un jeune homme de mérite et qui promet.[772] Он знал еще, что молодой чиновник этот принадлежал к клике Сперанского. Тогда это был первый чиновник не дипломат, которого m-r Pierre видел в свете. Прибор для m-r Pierr’a стоял накрыт и новенький, как и всё, что было в доме, стул был придвинут высокой, резной спинкой к краю белейшей и тоже новой скатерти.[773]
На стенах, на серебре, на белье, на мебели, на слугах и их жилетах, на рамах и задвижках окон, на коврах, на сертуке и эполетах хозяина, на серьгах и воротничк[е] хозяйки, на всем в этом доме был тот особенный, светлый отпечаток, который бывает у молодых. Всё, от отношений мужа к жене и их положению, до последнего ковра и лампы на лестнице – всё было свежо и ново и всё говорило: мы тоже молодые князь и княгиня. От этого в доме было особенно весело. M-r Pierre, кроме симпатии к хозяевам, от этого, может быть, еще больше любил бывать у Волконских.
M-r Pierre, как домашний человек, был знаком со всеми собеседниками,[774] исключая старичка иностранца, и не обратил на него внимания.
– Извините, что я опоздал, – заговорил, бубуркая ртом,[775] толстый юноша, как будто рот у него был набит чем то, доброй улыбкой открывая испорченные зубы и таким тоном, что видно было, он знал, что его извинят.[776]
– Когда же вы не опаздывали, mon cher m-r Pierre, – сказал голос князя Андрея,[777] мелодический и нежный, совсем другой, чем тот, которым он сказал: «проси». На лбу его распустилась какая то складка и просияло лицо.
– Когда вы будете уезжать, тогда извинитесь. Суп подать, – как будто с трудом, по-русски, прибавил он лакею грубым, неприятным голосом, один звук которого составлял оскорбление.
– Тогда вы вместе и извинитесь в том, что вы мне забываете привезть «Corinne», которую обещали, – сказала княгиня звонким голоском и улыбаясь яркой улыбкой брюнетки, с белыми, прекрасными зубами.
Pierre, севший было на стул, вскочил и всплеснул руками.
– Ах, забыл, pardon, princesse, опять забыл. Нет, я поеду, сейчас привезу,[778] – прибавил он вопросительно.
Княгиня засмеялась так, что все засмеялись с ней вместе.
– Нет, сидите, обедайте.
Барышня, старичок иностранец и чиновник прилично и приятно улыбались, глядя на эту домашнюю сцену, которая видимо была очень знакома всем.
Видно было, что m-r Pierre уже давно освоился с своей ролью беспутного, беспорядочного, рассеянного, но милого и любимого друга дома, молодой князь с ролью покровительствующего, снисходительного друга, а княгиня с ролью невинно, кокетливо задирающего и ласкающего друга женщины.
– Вы знаете, – прибавила она, – что этот молодой человек вот уж третий месяц едет завтра в Москву. Так?
– Так, – улыбаясь и печально махнув рукой, подтвердил Pierre.[779]
Разговор зашел о том, о чем все тогда говорили, о чем говорят всегда, думая говорить о важных предметах: о преобразованиях, замышляемых в России, о конституции.
– Как же вы хотите,[780] – говорил чиновник, – чтоб такое преобразование могло совершиться быстро.[781] Теперь положим учрежден Совет и Министерства[782] и они имеют свои недостатки, кто в этом спорит. Не так ли, князь?
– Je vous avoue, mon cher, – пропустил сквозь зубы князь,[783] отламывая красивой рукой корочку хлеба, – que je suis parfaitement indifférent au nom Collège ou ministère. Il nous faut des gens capables et nous n’en avons pas.[784] Он говорил ленивым тоном старого вельможи, который смешон был в нем, в молодом человеке, но говорил с такой уверенностью, что его слушали.
– Извините, князь, ежели теперь, – продолжал чиновник, видимо отвечая преимущественно на те возражения, которые он привык слышать от большинства старых служащих, а не на те, которые делали ему, – ежели теперь не замечается единства и представляется разрозненность в новых учреждениях, то это происходит оттого, что только часть их могла быть введена в действие. – Он оглянулся на княгиню, – положим, вы бы портного упрекали за то, что рукава фрака безобразны и не в пору, когда они не пришиты еще к фраку. Не так ли?
Князь, в ответ на пристально и долго устремленный на него взгляд, не моргнул, не изменил своего красивого,[785] спокойного лица и[786] продолжал прямо смотреть на чиновника,[787] княгиня учтиво улыбнулась.
– Согласитесь, – продолжал чиновник, все и совершенно забыв возражения Pierr’a и отвечая на мнимые привычные возражения, – что нельзя требовать, чтобы работы по такому громадному делу окончены были вдруг. Где у нас люди,[788] я с вами согласен, – говорил чиновник за 50 лет тому назад точно так же, и совершенно в том же смысле, как говорят это теперь, т. е. стараясь показать, что из людей есть один только я, да еще несколько, – где у нас люди. Ведь Михаил Михайловичу (Сперанскому) верно никто не откажет в[789] желании добра и любви к отечеству, однако он работает почти один и что же, мы можем помогать ему.[790]
M-r Pierre любил спорить и, несмотря на свою распущенность и слабость в жизни, в деле мысли и спора он[791] обладал логически последовательностью, которая, казалось, против его воли влекла его в самые поразительные соображения.
Pierre[792] по наружности составлял резкую противуположность князю Андрею. В сравнении с тонкими, твердыми и определенными чертами князя Андрея, черты Пьера казались особенно пухлы, крупны и неопределенны. Особенно оживленные и умные глаза, отчасти скрытые очками, составляли главную черту его физиогномии.
Взглянув на его лицо, всякой невольно говорил: какая умная рожа. А увидав его улыбку, всякой говорил: и славный малый, должен быть.[793] Лицо его, вследствие серьезности выражения его умных глаз, казалось[794] скорее угрюмо, чем ласково, особенно когда он говорил, но стоило ему улыбнуться и открыть порченные зубы, чтоб вдруг лицо это приняло неожиданно такое наивно, даже глупо доброе выражение, что, глядя на эту улыбку, его даже жалко становилось. И улыбался он не так, как другие улыбаются, так что улыбка сливается с неулыбкой почти незаметно. У M-r Pierr’a улыбка вдруг, как будто по мановению волшебника, уносила обыкновенное, умное, несколько угрюмое лицо и приносила другое, детски, наивно доброе, просящее прощения как будто, и всё отдающееся[795] лицо и выражение.
M-r Pierre считался либералом не только того времени, в своем путешествии нахватавшимся идей революции, но неспособным ни на какое дело.
Чиновник имел репутацию человека дела, благоразумного либерала, умеющего прилагать мысли к жизни.
Pierre во время этого разговора ел суп и прислушивался.
– А я вот как думаю, – торопливо и быстро заговорил он и, с свойственной молодости поспешностью и хвастовством мысли, обобщив предмет, начал доказывать чиновнику, что Совет и ответственность министров не хороши, потому что большая степень свободы народа не может быть дана ему, но должна быть завоевана им.
Когда m-r Pierre начал возражать, чиновник[796] спокойно замолк, в уме, как будто, приготавливаясь разбирать по нумерам и статьям возражения.
Подвести по пунктам возражения m-r Pierr’a было затруднительно. Он[797] имел свойство обобщать предмет и выводить спор из мелочей, подробностей и потому часто впадал в неясность. Он и не думал спорить о том, хорошо ли, дурно ли работает Михаил Михайлович или Иван Иванович, что было лучше – коллегии или министерства, даже вопрос об ответственности министров был для него ничтожен, он говорил, что конституция и вообще права, большая степень свободы не может быть дана народу, но должна быть взята, завоевана им.[798] Конституция, данная по прихоти монарха, может быть и отнята по той же прихоти.[799] Аббат стал смотреть внимательно на Pierr’a. L’homme de beaucoup de mérite спросил [?]:[800]
– Что же отменено? Напротив, эти пять лет всё с учреждением минист[ерств], отменой Совета всё идет вперед.
– Я не упрекаю новые учреждения в отсутствии единства, – говорил он, глядя через очки,[801] – но я говорю, что все эти изменения дают ложные понятия всем нам, когда еще мы не знаем своих прав. И не знаем сами, чего требовать. В государстве, где миллионы рабов, не может быть мысли об ответственных министрах и представительной каморе депутатов. Чиновник возражал.[802]
– Но всё не может сделаться вдруг.
Старичок чистенькой аббат держал себя всё время учтиво, уверенно и скромно, как будто чувствуя, что он знаменитость, которой не нужно себя выказывать.[803] Несмотря на эту неловкую роль знаменитости, старичок иностранец поражал однако своим односторонне умным, сосредоточенным выражением горбоносого, сухого лица. Видно было, что этот человек знал или думал по крайней мере, что уж так насквозь знает людей, что с первого взгляда он составлял о них мнение и ими не интересовался, и что уже давно давно у этого человека была одна мысль, для которой одной он жил, считая всё остальное ничтожным.
С этим вместе у него было спокойное уменье обхожденья, очевидно приобретенное не рожденьем и воспитаньем, как у светских людей, но долгим навыком обращаться с людьми всякого рода. Он с учтивой, но оскорбительной по своей давнишней притворности улыбкой всегда обращался к дамам и с[804] проницательным спокойным взглядом, не останавливавшимся ни на чем, обращался к мущинам. Княгиня, желая ввести его в разговор, спрашивала его за столом, как нравятся ему русские кушанья, как переносит он климат Петербурга и т. п. вопросы, которые всегда делают иностранцам, он на всё с своей для дам приготовленной улыбкой отвечал коротко и вновь молчал, прислушиваясь к разговору m-r Pierr’a, которого личность по-видимому заинтересовала его настолько, насколько еще могло что-нибудь заинтересовывать этого, видимо, прошедшего столько превратностей, странного итальянца. Когда вышли из [за] стола и князь спросил, не курят ли, все отказались, а аббат попросил позволенья из крайней учтивости понюхать. Он достал золотую табакерку с изображением какой то коронованной особы, понюхал, уложил табакерку в жилетный карман и подсел ближе к m-r Pierr’y, перевертывая на сухом, старом, белом пальце дорогой изумрудный перстень, очевидно, тоже подарок важной особы.
Экс-аббат пользовался, видимо, прекрасным здоровьем свежей старости и испытывал приятное чувство пищеварения после хорошего обеда, выпив чашку кофе, пожелал видимо посондировать этого курчавого умного юношу, столь легкомысленно опровергающего всё на основании идей революции.
Он остановил его в то время, как m-r Pierre доказывал, что основанием всего государственного благоустройства может быть только признание за каждым гражданином прав человека, – les droits de l’homme, – сказал он.
– Позвольте мне сказать, – сказал экс-аббат своим итальянским выговором с учтивым движением головы и тихим голосом, но таким, который невольно заставил[805] Pierr’a остановиться и выслушать речь старичка, – позвольте мне заметить, что права человека были вполне признаны во Франции, но мы не можем сказать, чтобы это государство пользовалось[806] образцовой свободой ни во времена[807] Конвента, – он остановился, – ни во времена директории, – он остановился, – ни теперь. – Он улыбнулся.
L’homme de beaucoup de mérite с благодарностью посмотрел на итальянца, как будто говоря: «я это самое и говорю».
– Кто же виноват? – отвечал m-r Pierre, с тою же горячностью,[808] шамкая[809] ртом и почти не замечая перемены собеседника, – разве по теперешнему положению дел во Франции можно судить о том, что бы она была, ежели бы идеи революции могли свободно развиваться.
Экс-аббат имел искусство внимательно и чрезвычайно спокойно слушать и прерывать именно в тот момент, когда это было выгодно.[810]
– Позвольте узнать ваше мнение, кто же помешал развитию этих идей? – перебил он так же тихо, как и прежде, – и кто же установил настоящий порядок вещей, который, я полагаю, вы согласитесь назвать военным деспотизмом, противным всякой свободе.
– Порядок этот установился сам собою.
– Sans doute,[811] – говорил экс-аббат, видимо только ожидая времени опять вставить свое победительное возражение.
– Деспотизм возник от того, что Франция была поставлена в необходимость защищать свои установления против всей Европы.
– Sans doute, – закрывая глаза, говорил аббат.
– Даже жестокости Конвента и Директории всё это произвело европейское вмешательство.
– Sans doute, но отчего же европейские державы вмешались в дела внутреннего устройства Франции? – сказал аббат с улыбкой спорщика, приведшего противника именно к тому пункту, у которого он ждал его.
Pierre на минуту не знал, что ответить.[812] Он улыбнулся.
– Allez le leur demander,[813] – сказал он, но тут же оправившись продолжал: – Впрочем, вы говорите, отчего? Оттого, что свобода невыгодна деспотам, оттого что учение революции не проникло еще во все умы.
– Sans doute, – повторил аббат. – Но позвольте у вас спросить, ежели бы нам с вами предоставлено было устроить судьбу[814] мира, чего бы мы желали и к чему бы стремились: к благоустройству Франции или к благу всего человечества? Я думаю, что к последнему.
Pierre замолчал, не понимая, к чему ведет его противник.
– Я тоже думаю, – только сказал он.
– Sans doute. Вы говорите, что признание прав человека есть начало и основание всякой свободы и государственного благоустройства, я с вами совершенно согласен. Теперь я говорю, что признание прав человека во Франции, в одной Франции, не только не повело человечество к большему счастию и благоустройству, а повело и Францию, и человечество к величайшему из зол, к войнам, к убийству ближнего и к попранию всех тех прав человека, которые были так торжественно признаны. Это я говорю и вы со мной согласны. Не так ли?
– Теперь, стало быть, нам остается решить вопрос: каким образом устроить судьбу человечества так, чтобы права человека были признаваемы одинаково всем образованным миром и чтобы уничтожалась возможность войны между народами.
– Это будет тогда, когда идеи справедливости и свободы проникнут во все углы, – возражал m-r Pierre, – для этого нужны общества распространения этих идей, нужна пропаганда…[815]
Иностранец посмотрел на[816] руки Pierr’a, как бы отъискивая что то.
– Как масонские ложи, вы думаете, – сказал он улыбаясь. – Sans doute. Но мне кажется, что до тех пор пока в руках королей и императоров будет власть посылать на войну своих подданных, до тех пор у них будет и власть подавлять всех этих подданных, те идеи, которые невыгодны для власти.
– Так вы думаете, что человечество вечно останется таким же?[817]
– Избави меня бог это думать, – спокойно, самоуверенно отвечал итальянец и лицо его приняло то выражений важности и поглощения всего в мысли, которое бывает у сумашедших, когда их наводят на пункт их помешательства. – Меня бы не было здесь, ежели бы я это думал, – продолжал он, как то таинственно оглядываясь. – Я думаю, напротив, что именно здесь, в Петербурге, и теперь именно, в нынешнем 1805 году, есть возможность навсегда избавить человечество от всех зол деспотизма и злейшего из зол, родоначальника всех других – от войны.
– Какие же это средства? – пробурлил m-r Pierre, оживленно заинтересованный. Аббат долго помолчал, как бы раздумывая, стоит ли высказывать свои задушевные мысли перед такой ничтожной аудиторией и потом, как бы махнув рукой и подумав: «отчего же и не сказать», начал говорить:
– Средства очень простые: европейское равновесие и droit des gens.[818] Стоит одному могущественному государству, как Россия – прославленному за варварство – стать бескорыстно во главе союза, имеющего цель равновесия Европы, и она спасет мир.
– Но что такое равновесие и какая цель его? – спросил Pierre, еще не зная, верить ли или не верить.
– Когда я жил дома, – сказал аббат, доставая табакерку со вздохом, – когда я был свободен, я был охотник до домашней птицы, особенно до индеек, я прошу извинить меня за эти тривиальные детали, – обратился он к княгине. – Я долго учился их выкармливать и не мог этого достигнуть оттого, что брал старых и молодых индеек вместе и сажал их в одно отделение. Чтож происходило? Сильные нападали на слабых, отбивали их от корма, даже нападали на них, воевали, и слабые чахли, умирали, а сильные в борьбе ослабели. Я разделил индеек по категориям. В каждой категории были индейки одинакового роста и силы. И с тех пор индейки стали велики, сыты и счастливы. В природе, mon cher monsieur, – продолжал он, – всё живет и множится только вследствие закона экилибра сил. Когда будет этот экилибр сил и в системе государств, тогда только человечество будет счастливо.[819]
И экс-аббат, как и все маниаки, видимо оживленный страстным вниманием Pierr’a, в тысячный раз, без малейшей скуки, рассказал весь свой план переустройства Европы, тот самый, который через Чарторыжского был подаваем государю. План состоял вкратце в следующем: чтоб удержать Францию от завоеваний, ей должны были быть поставлены на севере и на юге два новые государства, как преграды. На севере Голландия и Бельгия, соединенные в одно, на юге независимая Италия. Германский союз должен был быть отделен от Австрии и Пруссии. Польша в прежних пределах должна была быть сделана независимым государством. До малейших подробностей было обдумано переустройство всех государств Европы, таким образом, чтобы могущество одного не могло быть опасно для соседей. Кроме того, все ученые мира должны были на общем конгрессе> составить новое право народов, в котором постановлено бы было, что война не может никем быть начата без согласия и посредничества соседних держав. Всё было так хорошо обдумано и так ясно излагалось в устах этого тихого, сосредоточенного человека, что перед воображением слушателей невольно возникал новый век счастия для человечества. Pierre казался поглощенным вновь представленным ему рядом мыслей. Княгиня даже была заинтересована, один князь слушал так же, как он всё слушал, с своим потухшим взглядом, как будто или всё это он знает и презирает, или ничего не понимает, но не заботится о том, чтобы казаться понимающим.
– Et la guerre est impossible,[820] – окончил аббат.
– Что ж мы, военные люди, будем делать, любезный аббат, – спросил князь Андрей, лениво улыбаясь.
Аббат, как и все маниаки, был так уверен в возможности того, что он предполагал, что насмешка над его планами не оскорбляла его, напротив, он с другими готов был тонко посмеяться, зная, что от насмешки толпы его великие идеи не умалятся.[821]
– Vous irez planter des choux à la campagne avec votre charmante épouse,[822] – сказал итальянец с своей притворной улыбкой, как будто отгоняя от себя серьезность настроения, которого он считал недостойной свою аудиторию.
– Oui, c'est comme ça, mon cher monsieur,[823] – только прибавил он к Pierr'y, чувствуя, что здесь только семя упало на плодородную землю.
– Однако и исполнение этой великой мысли невозможно без войны, – сказал Pierre. – Vous comptez sans votre hôte.[824] Наполеон не разделит этих мыслей.
– Этого я не знаю. Я полагаю, что Россия, Австрия и Пруссия довольно сильны, чтобы заставить его принять эти основания.
– Австрия показала уже, как она мало сильна в войне,[825] – сказал князь Андрей,[826] – что было в прошлую войну?
У каждого из этих 4-х собеседников, исключая князя, был свой дада в разговоре и, как следует в каждом хорошем обществе, каждый[827] умел коснуться своего предмета. Чиновник изложил свои преобразовательные бюрократические соображения, Pierre – свою либеральную философию, аббат свои новые идеи народного права и политического устройства, теперь завладел князь Андрей разговором, когда он перешел на его любимое военное дело.
– Я не говорю про одну Австрию, а про соединенные силы всей Европы.
– Разве силы, соединенные в первую войну, не были втрое сильнее армии Буонапарте, – сказал князь Андрей[828] и усмехнулся, (князь, несмотря на свой восторг к гению Наполеона, называл его, как и все в Петербурге, Буонапарте) – и что ж вышло. Кроме науки войны, которая учит нас тому, что победа остается за тем, у кого больше пешек и кто их лучше расставит, поверьте, что есть еще бог войны и есть гений, которым одарен этот необыкновенный человек. Вы говорите о союзе в Европе, а завтра может быть мы получим известие, что французская армия в Ирландии и идет на Лондон.
Аббат ничего не отвечал и, насколько позволяла учтивость, презрительно улыбнулся.
Чиновник, давно тяготившийся молчанием, обратился к князю Андрею.
– Неужели вы думаете, князь, что эта булоньская экспедиция может удастся?







