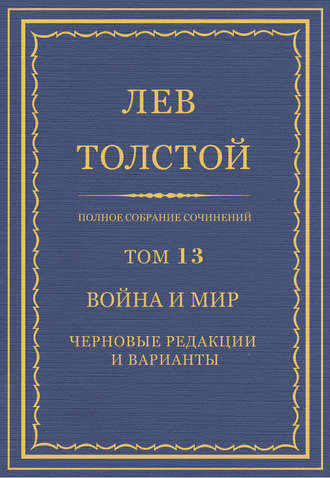
Лев Толстой
Полное собрание сочинений. Том 13. Война и мир. Черновые редакции и варианты
* № 37 (рук. № 75. T. I, ч. 2, гл. XI).
Когда он проснулся на другой день[1811] поздно за полдень, он проснулся уже вполне в Брюнне с воспоминаниями только военного министра, Билибина и всего разговора вчерашнего вечера. Возобновив всё это в своем воспоминании, он стал прислушиваться к звукам в соседней комнате. Соседняя комната была столовая и звуки были звуки ножей, стаканов и оживленных голосов обедавших. Это был обед примирения шведского секретаря с нашим. Кроме голоса Билибина, еще один голос, слышный громче и чаще всех, был знаком Болконскому. Он не мог вспомнить, чей это был голос, но помнил, что с звуком этого голоса соединялось неприятное петербургское впечатление.[1812]
– Je vous dis, moi, que c’est un homme terrible, – говорил голос Билибина, – les ravages de l’armée française (j’allais dire russe) ne sont rien comparés aux ravages qu’a produits cet homme parmi le beau sexe de Vienne.[1813]
– А вам завидно, – отвечал голос, вызывавший неприятное воспоминание в князе Андрее, также по французски, как и весь разговор, который мы переводим. – Вам завидно, – сказал голос с недостатком произношения, и послышался глупый смех. – Передайте мне ту бутылку.
– Но чем согрешил, тем и наказан, – сказал другой голос. – Пускай он думает теперь и страдает о положении его нежной Луизы в Вене в руках отчаянных солдат Бонапарте.
– Что ж, я ей предлагал ехать, – отвечал мямливший голос. – Я ей давал 300 талеров, она не хотела. Нет, господа, я вам расскажу анекдот… И он засмеялся.
– Господа, один из тех аттически соленых анекдотов князя Иполита, молчание, – сказал Билибин.
Князь Андрей узнал голос.[1814] Это был князь Иполит. Он видел <что князь Иполит> был здесь шутом общества.[1815]
– Когда я уезжал из Вены… – Иполит засмеялся, – из Вены, я сказал: поедем со мной. А она сказала… Я сказал… я оставлю вас в наследству французской гвардии – и Иполит, не в силах более удерживаться, долго, долго смеялся заливающимся смехом.[1816]
Князь Андрей встал, позвонил, поспешно оделся и вошел в кабинет пока ему вновь накрывали обедать.[1817]
* № 38 (рук. № 75. T. I, ч. 2, гл. XII—XIV, XV, XVI).
– А Ольмюц очень милый город. И мы бы с вами вместе спокойно поехали в моей коляске.
– Вы шутите, Билибин, – сказал Болконский.
– Я говорю вам искренно и дружески. Куда вы поедете теперь, когда вы можете оставаться здесь. Вас ожидает одно из двух: или что вы не доедете до армии и мир будет заключен, или поражение и срам со всей Кутузовской армией. Вы может быть хотите погибнуть героем? Ежели вы думаете видеть в этом геройство.
– Я ничего не хочу и не думаю, – холодно сказал Болконский. – Очень благодарю вас за гостеприимство, я еду в армию.[1818]
В ту же ночь, откланявшись военному министру, Болконский ехал к армии, сам не зная, где он найдет ее, и опасаясь по дороге к Кремсу быть перехвачену французами. В Брюнне всё придворное население укладывалось и уже отправляло тяжести в Ольмюц. Несмотря на печальное положение общего хода дел, князь Андрей чувствовал себя на возвратном пути с предчувствием поражения еще более возбужденным, чем когда он ехал в Брюнн с известием о победе. Несмотря на то, что он утверждал Билибину, что он нисколько не видит заслуги в своем поспешном отъезде в армию, князь Андрей был одна из тех натур, которые берут свои решения не вследствие рассуждения, а вследствие инстинкта и уж потому никогда не колеблются в своих решениях. Он сказал себе, что его обязанность состоит в том, чтобы ехать к армии и погибнуть вместе с нею, и это решение, хотя и наводило его на мрачные мысли, доставляло ему внутреннее гордое наслаждение.
–
В ночь 1-го ноября, в ночь того дня, в который французы перешли Венский мост, к[омандующий] Кутузов чрез своего лазутчика получил в своем Кремском лагере это страшное известие, ставившее командуемую им армию в почти безвыходное положение.
Опасность положения заключалась в следующем: пока французские войска, вдвое сильнейшие, преследовали Кутузова только с тылу – по той дороге, по которой он шел на соединение с колоннами, двигавшимися из России, он мог надеяться, пропуская вперед обозы и тяжести, арьергардными делами, как при Ламбахе, Амштетене и Кремсе, удерживать неприятеля и, не потеряв ни войска, ни артиллерии, соединиться с войсками, шедшими из России. Путь его соединения лежал из Кремса на Цнайм, Брюнн, Ольмюц и т. д. Но как скоро французы перешли Дунай в Вене, то эти перешедшие французские колонны могли прежде его достигнуть какого нибудь из пунктов этой дороги и таким образом отрезать ему отступление и окружить и атаковать его с двух сторон, что при отступлении с огромными тяжестями по дурным дорогам, при изнуренном состоянии его войск и при непропорциональности его сил с неприятельскими (у Кутузова было едва 40.000, у Наполеона более 100.000) делало его погибель <почти> неизбежною. Французы, как доносил лазутчик, перейдя мост в Вене, усиленными маршами шли на Цнайм, лежавший на пути отступления Кутузова впереди его более, чем на сто верст. Как скоро стало известно, что французы направились на Цнайм, для Кутузова ясно было, что достигнуть Цнайма прежде французов – значило получить большую надежду на спасение армии, дать французам предупредить себя в Цнайме – значило наверное подвергнуть всю армию позору, подобному Ульмскому, или общей погибели.
Но предупредить французов со всею армиею в Цнайме было невозможно. Дорога французов от Вены до Цнайма была короче и лучше, чем дорога русских от Кремса до Цнайма.[1819]
Кутузов не мог притти раньше Мюрата и Ланна. Он пошел, однако, в ту же ночь со всеми тяжестями по дороге в Цнайм, но отделив шеститысячный авангард Багратиона с половины дороги послал его направо горами с Кремско-цнаймской дороги на Венско-цнаймскую дорогу.[1820] Багратион должен был, пройдя без отдыха этот переход, остановиться лицом к Вене и задом к Цнайму и, ежели он предупредит французов, задерживать их, сколько он может. Багратион вышел на правую сторону А в деревню Голабрун. Едва только он пришел к утру, пройдя с голодными, разутыми солдатами, без дорог по горам, в бурную ночь сорок пять верст, растеряв 3-ю часть отсталыми, как по дороге из Вены уже показались французские войска. Кутузову надо было итти еще целые сутки с своими обозами, чтобы достигнуть Цнайма и потому, чтобы спасти армию, Багратион должен был с голодными, измученными четырьмя тысячами удерживать в продолжение суток сорок тысяч свежих и неусталых неприятельских войск. Это было очевидно невозможно.[1821]
Жителей уже почти никого не оставалось: все с стадами и пожитками разбегались в незанятые деревни. Оставались старики <женщины и дети>. В деревне Грунте, где стоял 6-ой егерский полк, перед лучшим домом деревни стоял часовой и зеленый ящик. В кухне пустого дома деньщик с засученными рукавами щипал пойманную курицу, другой повар разводил огонь для изготовления обеда полковому командиру. Сам полковой командир 6-го егерского, утомленный двумя бессонными ночами, спал мертвым сном на оставленной немцами кровати. Батальонные командиры, поместившиеся тоже по домам, кто отдыхал, кто составлял списки с адъютантом. Один, заболевший дорогой, ходил по ротам искать повозки для отъезда к обозам армии. Маркитант, не отставший от полка, несмотря на тяжесть дороги, расположился на площади деревни в[1822] большом доме, и у него сидело много офицеров с истомленными и раскрасневшимися лицами за глинтвейном, горячим вином с пряностями, введенным в большое употребление за границей. Другие офицеры сушились по квартирам и везде около печей и костров морщились и светлели, как лубок, сушащиеся, промокшие, стоптанные сапоги чернели и коробились[1823] чулки и дымились мокрые насквозь шинели. Некоторые офицеры, особенно ротные, ходили по ротам[1824] с фелдвебелями. Фелдвебеля, эта особенная могучая порода людей, как будто не зная, что такое усталость, голод и холод, как будто дома, ставили людей во фронт, равняли, рассчитывали по отделениям, тыкая в грудь пальцем и приказывая поднимать руку, или распоряжались приобретением сена, мяса и т. п. предметов, нужных для рот, или докладывали командирам, поворачивались налево кругом и только по большей суровости и отрывчивости их речей заметно было, что и они измучались не меньше других. Солдаты, где рассыпанные, как муравьи, копошились в деревне, таща сено, двери, заборы, где кучками толпились около костров, раздеваясь до нага и разуваясь и просушивая мокрые рубахи и подвертки, с наслаждением у огня пожимали голыми мускулистыми плечами и жарили в костре ноги, от которых дымилось, как и от подверток. В других ротах, где кашевары были расторопнее и уже сбегали с звенящими котлами за водой и дровами, солдаты с жадными глазами сидели около дымящей каши, которой не ели уж два дня и, как стая голодных гончих, переглядываясь друг с другом, ожидали, когда понесут пробу к ротному. Ротные собаки и животные, из которых некоторые были из России, дожидались тут же. В третьей роте, стоявшей подле леса, рябой, широкогрудый фелдвебель с мрачным и сосредоточенным[1825]
[Далее в рукописи недостает двух листов]
[1826] В рту его совсем на боку была закушена курящаяся коротенькая трубочка с солдатским табаком. И это было молодечество. Очевидно Тушин был твердо уверен, что в этом костюме и с «носогрелкой», как он называл свою трубку, он имел вид молодчины, закаленного, боевого солдата, тогда как в его фигуре было больше сметного, чем воинственного. Тушин и по состоянию своему (у него было тысяча с лишком душ вместе с двумя братьями), и по образованию (он был воспитан французом гувернером и был очень начитан), и по связям, которыми он пренебрегал пользоваться, находился в несравненно высшем общественном положении, чем большинство офицеров и пехотных и артиллерийских, среди которых он жил, но он незаметно для себя так скрывал это превосходство, что не только не возбуждал зависти, но находился со всеми в самых товарищеских отношениях. Когда в том офицерском обществе, в котором он жил, заходили споры об ученых предметах, за решением их всегда обращались к Тушину и его слова считались непреложной истиной. Когда кому-нибудь из офицеров не только артиллерийской роты, но и полка, хотелось поесть и выпить, а своего не было, приходили к Тушину, зная, что по его средствам у него всегда были запасы; по удобствам, которые представляют зарядные ящики и запасные лафеты в артиллерии, у него было на чем возить запасы, а главное, что по его правилам солдатского товарищества он готов был с каждым поделиться последним. Но не за одно это любили Тушина все знавшие его (его знали все офицеры полка), его любили за то, что он был хороший человек, так говорили про него все, за то, что он со всеми был одинаков, с полковниками и с юнкерами. Враги между собой были одинаковыми приятелями Тушина. Никогда, никто не видал его сердитым, недовольным, скучающим. Ему, казалось, никогда не нужно было ничего, кроме того, что у него было: трубка, водка, книга, шахматная игра и игра в молодца военного. Трубку он не выпускал изо рта и один вестовой только и знал, что накладывал и раскуривал и, обтирая под мышкой, подавал капитану. Водку он пил постоянно так, что выпивал до тридцати рюмок в день, но никогда не делался пьян, а только большие, голубые глаза его больше блестели и он охотнее и лучше говорил. В шахматы он играл плохо, но страстно, с большим самолюбием и только за одно это дело мог сердиться. Книги он возил с собой и читал все, какие ему попадались, с одинаковым интересом, но любимые его книги были философские и исторические. В военного он играл постоянно: и сидя в палатке на полу, и пристроясь к костру солдатскому, и в разговорах с своими солдатами, которые жалели и уважали его. Кроме этих пристрастий, Тушин одинаково принимал живое участие во всех представляющихся удовольствиях: и в песне, и в пляске, и в охоте, и в игре в свайку. Двух вещей он не любил: игры в карты и толков о производствах.
С Белкиным Тушин особенно сдружился в этот поход. Белкин был человек почти без всякого положения и образования и очень честолюбивый, прокладывавший себе дорогу в полку так честно и умно, и так всеми признанный необыкновенной храбростью и энергией, что его быстрое повышение в четыре года из юнкеров в ротные командиры никого не заставляло завидовать. Кроме того, такой был природный такт во всех приемах Белкина и такая прелесть в его свежей и веселой наружности, что и старые офицеры признавались, что Белкин должен был быть отличен от них, и невольно любили его. «Этот пойдет далеко», говорили про него. Белкин любил в Тушине образованье, высший взгляд на вещи, которые он чувствовал, не понимая вполне, и равнодушие к успеху. Тушин любовался на молодую энергию своего приятеля и старался подражать его спокойной и красивой молодцоватости.
– Ну, что, батюшка, досталось нам на орехи? – проговорил Тушин, по стариковски военному покряхтывая и присаживаясь на бревно.
– А вы не устали? – спросил Белкин, как всегда улыбаясь.
– Э, не такие видал, – отвечал Тушин, хотя по бледному лицу и ввалившимся глазам видно было, как он измучен.
– Коли нынче, да завтра постоим – оправимся, отсталые пособерутся, – сказал Белкин.
– А как нынче в дело? А? – спросил Тушин, – не ладно?
– Плохо будет.
– Да что я вас хотел спросить, Дмитрий Николаич, – сказал Белкин, улыбаясь, – у меня солдатики (он подмигнул) коровку подобрали где то гулящую. Ежели поход, так нам свезти не на чем. Мы освежуем и всё… вы дайте лафет, а мясо пополам…[1827]
[Далее в рукописи недостает двух листов.]
<– Это вот хорошо, это так, – сказал Белкин. – Это бывает. Со мной было. Точно, что может быть, как умрешь, так точно проснешься. Я вам скажу. – Он задумчиво откинулся назад. – Лег я раз спать, я вам скажу. – Он шире расставил свои сильные, стройные ноги, облокотив на них руки, и задумчиво поглядел на Тушина. – Лег я спать и нашел на меня такой сон страшный: чудится мне, что лежу я где то на кровати один в горнице и одна дверь. И слышу я, что в дверь кто то идет. Идет в дверь, и страх на меня нашел, что идет это моя смерть. Что вот как она войдет, так меня и задушит. И страшно мне, надо дверь припереть, чтобы она не вошла, смерть то, и сил нет, ноги не двигаются, волоку ноги, а они нейдут; только хотел [?] я броситься, а дверь отворилась и чувствую я, что я умер. Она вошла… и кончено. Он вздрогнул и потрясся [?] от ужаса. – И так я этого испугался, что со страху проснулся. Проснулся, да и обрадовался, так обрадовался, что я не умер. Значит, я думал – умер, а я проснулся. Так то вот и это.
– Митька, нутка трубочку, да еще вина, – отвечал на эти слова Тушин, который, не переставая улыбаться глазами, следил за ходом мысли своего собеседника и удивлялся[1828] на странное, непривычное волнение своего приятеля.
– Это хорошо, – сказал он.
– Это я соглашусь, – говорил Белкин, – что смерть всё равно, как пробуждение, как тут сказано, ну, а это как лестница существ, я не пойму. Ну лестница, так значит до человека дошла и конец.
– Отчего ж конец, мы только ее не видим дальше.
– А вы в это верите? – спросил Белкин.
Тушин пожал плечами. – Так иногда так подумаешь, a иногда этак. Давай же трубку.
– Нет, вот я в явленные[1829] иконы так>
[Далее в рукописи нехватает одного листа.]
[1830] Но странная[1831] судьба сделала невозможное возможным. Тот самый обман, который без боя отдал Венский мост в руки французов, или, скорее, успех этого обмана побудил Мюрата, встретившего слабый отряд Багратиона, попытаться обмануть также и Кутузова.
Мюрат, встретив отряд Багратиона на Цнаймской дороге, предположил, что это была вся армия Кутузова и, поджидая свои непришедшие еще дивизии, послал парламентера предложить русским войскам перемирие на три дня с тем чтобы,[1832] собрав все силы и подождав Сульта, преследовавшего с тыла, задавить наверное русскую армию. Поощренный успехом Венского моста, Мюрат уверял, что идут уже переговоры о мире[1833] и что потому перемирие, условием которого будет неподвижность впродолжение трех дней обеих армий, будет выгодно для обеих сторон. Австрийский генерал граф Ностиц, стоявший на аванпостах, поверил словам парламентера Мюрата и отступил, открыв отряд Багратиона. Другой парламентер поехал в русскую цепь объявить то же известие о переговорах мира и предложил перемирие на три дня русским войскам. Багратион[1834] отвечал, что он не может принимать или не принимать перемирия и послал к Кутузову своего адъютанта.
Кутузов, получив на походе письмо Багратиона, тотчас же принял перемирие и послал состоящего при нем генерала адъютанта барона Винцингероде в отряд Багратиона для переговоров с Мюратом о перемирии и капитулации русских войск. Очевидно было, что Мюрат ошибался, принимая отряд Багратиона за всю русскую армию и потому, поджидая подкреплений, тотчас же не атаковал ее. Но в чем бы она ни состояла, ошибка Мюрата была выгодна.[1835] Условия капитулации ни к чему не обязывали без согласия императора, они должны быть посланы для ратификации Бонапарту и обратно Кутузову, а перемирие было единственное средство выиграть время, дать отдохнуть измученному отряду Багратиона и пройти обозам и тяжестям армии хотя один лишний переход до Цнайма. Предвидя, что ошибка Мюрата, полагавшего обмануть и попавшего самого в обман Кутузова, скоро откроется тем или другим образом, Кутузов, отослав Винцингероде к Мюрату, послал адъютантов назад торопить сколько возможно движение тяжестей обозов и всей армии по Кремско-цнаймской дороге, сам же поскакал к Багратиону, чтобы лично сделать распоряжение в том отчаянном деле, которое предстояло выдержать[1836] отряду Багратиона,[1837] как только откроется ошибка Мюрата. Отряд этот, во всяком случае, должен был оставаться на месте лицом к лицу неприятеля, тогда как вся армия проходила сзади его, и, не ожидая помощи, удерживать втрое превосходившего силами неприятеля.
[Далее со слов: Ожидания Кутузова сбылись…, кончая: par un aide-de-camp de l'empereur. – близко к печатному тексту. T. I, ч. 2, гл. XIV].
Но пока адъютант Бонапарта Lemarrois во всю прыть лошади скакал с этим грозным письмом к Мюрату, пока и сам Бонапарте, не доверяя своим генералам,[1838] со всею гвардиею двигался к полю сражения, голова кутузовской армии уж подходила к Цнайму.[1839]
[Далее со слов: Рано утром в достопамятный день 4-го ноября князь Андрей, возвращаясь из Брюнна, догнал с величайшей поспешностью и в величайшем беспорядке двигавшуюся кутузовскую армию… кончая: Офицеры, заведывавшие движением, то вперед, то назад проезжали между обозами. – близко к печатному тексту. T. I, ч. 2, гл. XIII].
Голоса их слабо были слышны среди общего гула и по лицам их видно было, что они отчаялись в возможности остановить этот беспорядок и[1840] изменить сам собой установившийся ход дела.
От одного из этих офицеров узнав, что главнокомандующий[1841] в коляске приехал из Эцельсдорфа к Голабрунну, вероятно к отряду князя Багратиона, князь Андрей, во всю прыть плохой казацкой лошади, погнал мимо обозов[1842] и скоро, по расспросам, нашел коляску главнокомандующего и свиту, стоящих у крыльца небольшого дома в деревне Грунте.
Главнокомандующий с генералом Вейротером, заменившим убитого Шмита, и с князем Багратионом были заняты, и князь Андрей должен был дожидаться. Всходя на крыльцо, он увидал через окно двух писарей с завороченными обшлагами мундиров, нагнувшихся над столом и что то быстро писавших. В сенях его встретили Несвитской и другой адъютант, евшие груши и о чем то смеявшиеся.
– Я сам ничего не понимаю, – отвечал Несвитской на вопросы князя Андрея, – говорят перемирие, и даже мир говорят, а войска наши катают во всю ивановскую к Цнайму и велят всё скорее. Багратион тут стоит один и не отступает. Ничего не понимаю. Ну что, купил Cordial?
– Когда же было? – отвечал князь Андрей, – я суток не пробыл.
– Да, какову штуку в Вене то удрали… И баронессу З. не видал? Хочешь грушу? – отличные. Ну, что же ты получил за известье?
– Право не знаю. Кого из наших к Багратиону посылают? – спросил князь Андрей, всё еще желая проситься у Кутузова в дело, но с тех пор, как он присоединился к своим, при виде этих пишущих писарей, едящих груши адъютантов и, особенно, при виде добродушного, как и всегда, веселого лица Несвитского, начиная чувствовать ненужность своего настроения.
– Ты знаешь ли, я как устроил теперь, – говорил Несвитской, – мне в Кремсе сделали вьюки и я повозку бросил, и у меня всё со мной: и бутылочка, и пирожки, и кровать, и всё. Я тебе советую так же сделать… Да что ты, как будто нездоров или устал. Что с тобой?
– Нет, ничего.
В это время дверь отворилась, вышел Кутузов и за ним Багратион. Вейротер виден был сзади. Он на столе собирал бумаги.
Князь Андрей подошел к главнокомандующему, подавая ему конверт. Кутузов оглянулся, но по глазам его видно было, что какая то мысль так сильно застилала его зрение, что [он] не узнавал несколько времени того, кто с ним говорил.
– А, хорошо, – сказал он после нескольких секунд молчания, – после, – и он[1843] вышел на крыльцо. Князь Андрей сошел вниз с другими адъютантами и перед самым отъездом намеревался обратиться к Кутузову с своею просьбой. На Кутузове была толстая ватная с складками от самого воротника шинель с истертым бобровым воротником и измятая фуражка, надетая на затылке. Затылок его составлял крутой уступ с горбом сутуловатости, выступавшей еще заметнее под толстой шинелью. Узкие глаза его имели всё то же выражение, которое видел в них нынче утром Болконский, выражение слепоты, происходящей от сосредоточенности мысли. Он остановился на крыльце, согнулся еще больше, облокачиваясь на палку и, не переставая, говорил что то Багратиону. Голоса его было не слышно от ветра, трепавшего воротник его шинели, поднимавшего и прямо державшего его седые, редкие волоса на одном виске его. Но видно было, как тонкие губы[1844] поспешно шевелились и как старческие руки, на одной из которых было большое золотое кольцо, иногда выходя из под шинели, делали не размашистые, но короткие и энергические жесты. Багратион был немного пониже Кутузова, худ, совершенно прям, но держался, видимо из почтительности, в наклоненном положении. На нем был длинный, теплый генеральский сюртук, сверху бурка и на голове папаха с черным бараном. Волоса его были так же черны, как шапка, и всё лицо почти такого же цвета, как бобер на воротнике Кутузова. Все его лицо с известным длинным, сухим, горбатым носом, полузакрытыми карими глазами без блеска и[1845] длинным подбородком с засевшей на нем, не бритой с утра сплошной, жесткой бородой, всё это лицо было одно из тех лиц, которые признаются за непроницаемые. Было ли оно непроницаемо от того, что он мог скрывать то, что думал и чувствовал, или от того, что он мало что думал и чувствовал, но в противуположность лица Кутузова, у которого каждую секунду, несмотря на пухлость очертаний, то в сборке морщины, то в содрогании рта, то в перемене взгляда выражалась игра сложного душевного механизма, у Багратиона обтянутое желтой кожей лицо было, как толстая маска, за которой либо ничего не было, либо ничего нельзя было видеть. Но это непроницаемое, спокойное лицо[1846] было красиво. Кутузов нетерпеливо взглядывал на него с видимым нетерпением и недоверием в способностях соображения своего собеседника. Багратион видимо старался выказать в лице своем уважение к главнокомандующему и сознание важности минуты, но несмотря на всё желание, лицо его оставалось все так же неизменно спокойно. Он имел вид человека, устремляющего всё свое внимание для того, чтобы понять их, только на последние слова, которые были сказаны ему, и еще более сосредоточивая[1847] свое внимание на те слова, которые он сам говорил. Он несколько раз повторял видимо одни и те же слова тихим, спокойным голосом. Его большие, карие глаза без блеска, но упорно с обеих сторон сухого носа устремленные на Кутузова, видимо сердили главнокомандующего. Как будто вследствие повторения этих слов, Кутузов вдруг понял, что его не понимают так, как он хотел, он отвернулся, запахнул шинель и стал спускаться с крыльца. Князь Андрей подошел к нему.[1848]
– Позвольте мне просить ваше высокопревосходительство оставить меня при отряде князя Багратиона.[1849] Я бы желал быть здесь полезным…
Кутузов оглянулся.[1850]
– Да из Вены, из Брюнна, бишь, – сказал он, – давай сюда.
Болконский повторил свою просьбу.
– Нет, ты мне[1851] расскаж[ешь], – сказал Кутузов <и он> опять обратился к Багратиону.
– Ну, князь, прощай. Христос с тобой, – он притянул его к себе левой рукой и правой, на которой было кольцо, перекрестил его и подставил ему пухлую щеку, вместо которой Багратион поцеловал его в шею. – Прощай.
Багратион, видимо, сделал большое усилие мысли и повторил опять те же слова, которые раздражали Кутузова.
– Так прикажите, – сказал он, – держать пазицию до вступления ночи. – Багратион хотел положительного приказания. Кутузов объяснял все могущие быть случайности и вообще не любил определительности, всегда отдавая таким образом приказания, что они давали некоторый простор толкования исполнителям.
– Держаться, сколько можно. Христос с тобой, князь, – повторил Кутузов. – Садись со мной, – сказал он Болконскому и коляска тронулась.[1852]
– Ежели из отряда его придет завтра одна десятая часть, я буду благодарить бога, – сказал Кутузов, взглянув на Андрея.[1853]
Князь Андрей с упреком поглядел на Кутузова, который так спокойно говорил про это; но Кутузов, сказав это, отвернулся, и князю Андрею невольно бросился в глаза шрам на виске, где измаильская пуля пронизала голову этого старика. Князь Андрей понял, что он имел право спокойно говорить про это и ему только жалко было, что он не остался у Багратиона. «Видно, мой Тулон еще в будущем», подумал он.
– От этого я и просился у вашего сиятельства, – сказал он.
Кутузов уже забыл про то, что он сказал, и сидел задумавшись.[1854]
–
Только что отъехал Кутузов, как раздались у Шенграбена те выстрелы, которые заставили разбежаться Тушина и Белкина от их партии шахмат. Озабоченное и утружденное вниманием лицо Багратиона во время разговора его с Кутузовым просветлело, глаза больше открылись и заблестели, стан выпрямился и он отдохновенно вздохнул, когда он сел на свою кабардинскую белую лошадь <и не торопясь, кавказским спокойным шагом> поехал с своей свитой к тому месту, <с которого за полверсты впереди слышались выстрелы> на котором он с пятитысячным отрядом должен был держаться против двадцати тысяч французов.
В отряде ничего не знали. Знали, что были измучены. С утра пришли.[1855]
Услыхав выстрелы, князь Багратион выехал из Грунта.[1856] Когда он переехал глубокий овраг, находившийся сзади нашей позиции перед Шенграбеном – овраг, который страшен был при отступлении – и выехал на возвышение перед Шенграбеном, уже с двух сторон слышна была всё усиливающаяся канонада и с правой стороны уже перекатывалась трескотня ружей. День был[1857] пасмурный и скучный, спускавшееся солнце было скрыто тучами и резкий ветер в оголенных деревьях лесов и садов прохватывал холодом людей, стоявших на горе, и справа налево относился пороховой дым орудийных и ружейных выстрелов и застилал почти всю лощину, отделявшую русск[ие] войск[а] от французов. Прямо напротив нашей середины виднелась та самая деревня Шенграбен, в которой еще вчера утром спали полковой и батальонный командиры 6-го егерского, в которой на выгоне варили кашу. Теперь эта деревня была наполнена и окружена густыми массами французских войск, иногда, когда ветер относил дым с французской батареи, выставленной левее деревни и бившей нас, ясно видневшимися и различавшимися своими мундирами и отдельными движениями.[1858] Между тем мирным селением Шенграбеном, в котором отдыхали, смеялись, ели кашу и пили водку солдаты еще вчера только, и между тем случайным, всегда бывшим и навсегда будущим чуждым, ничем не ознаменованным местом, на котором стояли в линии теперь наши войска, лежала страшная черта смерти. И смерть уже брала свои жертвы на этой столь недавно, но столь строго и безучастно к людским желаниям и страданиям установившейся черте. На правом фланге сквозь дым было видно особенное движение и в цепи всё чаще, с непрерывным звуком трескотни, сливалась трескотня ружей в цепи, широкой полосой дыма обозначая это пространство. И большие массы французов двигались горой против этой стороны. В середине наша батарея, та, в которой служил Тушин, била, не переставая, по войскам, толпившимся при выходе из Шенграбена, и войска эти остановились и в них видно было особенное движение. Багратион не поскакал, как ждали того его адъютанты, а выехав на возвышение рысью, остановил свою кавказскую, белую, сухоголовую лошадь и поехал на батарею Тушина тем красивым, покойным аллюром скорого шага (называемого проездом), которым ходят только черкесские лошади. Сразу ли, оглядев с высоты поле сражения, он понял в чем было дело, т. е. что французы обходят наши войска справа и стараются одновременно атаковать в середине, где им мешает наша батарея – сразу, или он понял или вовсе не понял, что делалось перед ним, но по лицу, по этой красивой[1859] ленивой, но выражающей запас большой силы посадке видно было, что в душе его не было никакого сомнения и колебания, что он твердо решил, что ему надо было делать, и что сущность этого решения состояла в том, что ему надо быть там, где больше опасности, что, вероятно, ему придется умереть через полчаса, но что, покуда он еще не умер, он будет делать, как будто он и не знает о том, что предстоит ему. Это выражение заметили и поняли все господа его свиты, и лица их несколько изменились в очертаниях губ и подбородка, особенно в то время, когда над ним пролетело с свистом, как ласточка, над головой одно ядро и потом другое всё быстрее, быстрее подлетало к земле и с такой нечеловеческой силой, взрывая брызги грязи, шлепнуло в мягкое жневье, так что земля издала звук, как будто ахнула из всей глубины под его неожиданным ударом, и опять навсегда замолчала. За Багратионом ехали его адъютант,[1860] молодой красивый брюнет, потом свитский офицер с усталым и слабым видом заученного школьника и серым цветом без выражения широкого лица, не старый, близорукий человек,[1861] потом аудитор, штатский чиновник,[1862] в камлотовой шинели, обвернутой по форейторски вокруг ног, на толстоногой лошади и фурштатском седле с короткими стременами, которые, видимо, терли ему непривычные ноги. Лицо у этого чиновника было белокурое, веселое и совершенно не военное, с зачесанными к самым глазам височками, подстриженными в прямую линию. Он из любопытства, как будто и не подозревая, что могло быть что нибудь опасное в сражении, попросился ехать за князем и на лице его было соединение выражения хитрости, наивности и насмешки тихой, когда он оглядывал вокруг себя новые для него предметы и делал вопросы. Как, будто он нарочно хотел себя показать глупее, чем он есть, и тем доставить удовольствие тем, с кем он ехал, и вместе с тем в душе посмеяться над ними. Четвертое офицерское лицо был корнет Жеребцов с сумашедшими глазами, которого лицо и особенно стеклянные глаза под ядрами так же мало изменялись, как и во время его шутовских выходок, от которых другие смеялись до колик, а он оставался равнодушно торжественен.







